Олег Валерианович Басилашвили
Неужели это я?! Господи...

Вместо предисловия
Иду я по большой дороге,
А навстречу везут навоз.
О!! Когда же эти дроги
Заменит электровоз
Да, иду я по Загородному проспекту Санкт‑Петербурга, иду к дому, иду из магазина. В одной руке пакет с картошкой, капустой, в другой с хлебом, сыром и т. д.
Бормочу автоматически, бормочу вслух эти строки поэта двадцатых годов, они сами забормотались, видимо, под влиянием окружающей безрадостной картины
Серая, в пятнах, простыня неба, грязный асфальт, обледенелые плитки тротуара, ледяной черный ветер порывами со всех сторон
А вот витрина булочной. В ней забавная кукла булочника лежит, спит себе, и живот от дыхания вверх‑вниз, вверх‑вниз А это кто такой там отражается в стекле? С двумя пакетами, согбенный и безрадостный?
Ба! Да это ты, Олевык! (Так Александр Белинский, любимый мой режиссер, ласково именует меня, ну а поскольку у него нелады с произношением некоторых букв, то и получается не «Олежек», а «Олевык».)
Да, это я. Это я, Олевык! Это я, Фафенька (то есть «Сашенька» это я отвечаю воображаемому Сашеньке Белинскому).
Это я вон там, в витрине, сутулый старик с пакетами, мучимый артритом, колитом, тендовагинитом, мозолями и ненужными мыслями. Давно за семьдесят это вам не бык на палочке! Всё! Ты уже не с ярмарки едешь, ты уже приехал, давно приехал, и яблони, с которых белый дым, давно вырублены, и пни сгнили.
Ну что, старик? А если нижнюю губу вперед, а верхнюю заглотить вот и полная картина: шамкающий безумец в витрине бормочет: «О! О! Когда вэ эти дроги, дгоги эвэктвовоз »
Стоп!! Ты уже вслух!
Стоп! Маразм! Выпрямись! Плечи назад! Живот втянуть! И быстро, прямо, энергично легко!! И по‑о‑шел! Па‑а‑шол!
Иду! Боже, а женщины‑то, женщины! Ни одной старухи! Молодые, жаждущие! Без детей, с детьми, с внуками! Все молодые, идут быстро, обгоняя меня
Позади шепот:
Он! Он! Я узнала!
Да не‑ет
На спор! Он!
Узнали. Узнали, черт бы их побрал!
Ну да, я ведь вчера играл «Калифорнийскую сюиту»! А позавчера «Копенгаген»! И ведь неплохо играл, черт возьми! А то, может быть, и по телевизору Спину прямо держать! И главное, главное туман в глаза, внутреннюю углубленность, иллюстрирующую богатство души и простоту, простоту да, да, это тоже важно, несмотря ни на что, на популярность и уважение я прост, прям, доступен
Молодой, румяный, черноглазый, улыбается, забегая вперед, встал передо мной:
Извините!! Это вы?!
Я несколько усталый, но добрый взгляд:
Да это я (и улыбка всепонимающая).
Он!! Я говорил! И уже мне непосредственно: Это ведь вы выступали в рекламе пива студенческого?
Да, вот это удар. Ниже пояса.
Был грех снялся я в рекламе этого пива. Десять дублей. Тяжело опьянел. С тех пор не то что пить, но и видеть рекламу пива по ящику подступает тошнота Да и давно это было в начале девяностых!
«Калифорнийская», «Копенгаген»!! Ты еще «Дядю Ваню» и Хлестакова вспомни!! Эх ты, старый тщеславный маразматик! «Копенгаген» тебе!
И опять иду сквозь питерскую грязь и мглу с тяжелыми пакетами, шаркая ножками, а меня обгоняют все молодые, шестидесятилетние
На память пришло, как собрались мы в Третьяковку: я с дочками, Олей и Ксюшей, и Мишей, Ксюшиным мужем. Идем не спеша по моим любимым залам. Но чуть остановимся у какой‑нибудь картины, чуть я начинаю дочкам объяснять, в чем прелесть ее, тут же раздается: «Олег Валерьяныч! Дайте автограф!». И так раз за разом. Зверею. Не дают насладиться: мы ведь редко видимся, а тут все вместе, да еще в моей родной Третьяковке! и: «Дайте автограф, у вас ручка есть?» На бумажках, билетах, а то и на деньгах
И вот стоим мы перед картиной Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Но я уж картины не вижу. Чувствую позади дыхание жаждущих автографа. Гнев закипает. Оборачиваюсь: точно!! Человек десять молодых людей с блокнотами и ручками наготове.
Я говорю:
Ну вот что. Уберите ваши блокноты и ручки! Оставьте меня в покое!! Я же человек, в конце концов!!!
А они в ответ:
Да вы что, мужчина! Совсем уже?.. Мы за экскурсоводом записываем!
Позору было! С тех пор, делая усталые глаза, даю автографы. Всем. На деньгах, паспортах, обрывках туалетной бумаги
Ясно, что я человек довольно гнусный.
Ну, чтобы помягче тяжелый. Что называется «синия жылы».
Ну, к примеру жду, когда кто‑нибудь допустит оплошность. Забудет, скажем, выключить свет в кухне. Или в туалете. И у меня наступает праздник души. Нет, не то чтоб мне становилось от этого легче, радостнее, нет, просто нарыв тяжести раздувается и лопается, и раздражение низвергается на близких, допустивших «faux pas»
Мне иногда даже кажется, что они меня побаиваются. Но этот страх ничуть не мешает им оставлять после себя грязную посуду, забывать ключи от дома, приглашать гостей целую кучу и кормить их с утра до ночи, превращая дом в некое подобие постоялого двора с мусором по углам, хлебными корками на столе, рюмками со следами губной помады.
Правда, если взглянуть на себя со стороны, я тоже оставляю желать лучшего. Я не говорю о мелочах типа: «Где мои очки, черт бы вас всех побрал?», а очки лежат в туалете, оставленные там мной после чтения «Тропика Козерога» Генри Миллера. Или: «Где, где ключи?» а ключи я оставил на ночь торчать снаружи в дверях.
Да, это признаки надвигающейся старости, а может быть, и вернее всего наступающего маразма. Вот, например, не мог вспомнить, чем автомобиль приподнимают, меняя колесо: Гиппократ?! дармштадт?! Де ди Пришлось остановить грузовик. «Тебе чего, дед, что случилось?» спросил водитель грузовика. «Да ничего особенного, просто забыл, как эта штука называется». «Домкрат, ёптмать. И всё?!»
Да, пока всё. А до маразма еще далеко. Ой как далеко. Это я льщу себя надеждой.
И вот передо мной задача написать Memoires. Это по‑английски. Мемуары то есть по‑нашему.
Вообще‑то я твердо убежден, что сесть за мемуары надо, точно уловив момент работать уже не можешь (не «не хочешь», это я давно, с детства не хочу), именно не можешь, но еще кое‑что помнишь. То есть когда маразм еще не оккупировал полностью твою память. То есть попасть в этот тоненький зазор между бессилием и полным маразмом.
Кто угадал тот выиграл. Молодец! Попал вовремя. В точку. В Memoires многих авторов налицо либо торопливость, свойственная деятельному работяге, либо глыбы красивой болезни Альцгеймера, заслоняющие от автора логику и суть его жизнедеятельности.
Теперь второе. К несчастью, а может, к счастью, люблю приврать.
Например, почему‑то до сих пор я убеждаю всех, что мой дед Ношреван Койхосрович в Грузии, в Горийском уезде, когда‑то очень давно арестовал двух бандитов. Их клички Камо и Коба. Коба это Джугашвили, в дальнейшем, как многим известно, Сталин. Дед тогда служил в полиции. Арестовал он разбойников и доставил их в Тифлис. Там Кобу посадили в Метехи замок, где была тюрьма, в камеру с политическими так и сейчас часто делают: сажают политического и бандита в одну камеру, бандит издевается над политическим, унижает его, и несчастный политический сломлен, готов подписать любое признание, лишь бы вырваться.
А тут наоборот произошло.
«Что же ты это грабишь, генацвале, нехорошо это!» сказал политический. «А, ненавижу всех этих богатеев, мать их пети!» отвечал Коба.
«И правильно, правильно делаешь, что ненавидишь, и правильно, что грабишь, только грабить надо во имя революции, для народа, генацвале, для партии трудящихся. Вступай, да? в партию большевиков, будем вместе грабить для народа! Ступай‑ка ты в партию, в люди, да?!»
И пошел Коба в люди.
И сделал неплохую карьеру. И получается, что это мой дед во всем этом виноват.
История со Сталиным может быть, чья‑то или моя выдумка, но она почему‑то стала реальностью, что тут поделаешь.
Или футбол. Где‑то конец сороковых начало пятидесятых. Я в детской команде «Динамо». Тренировка. Я вратарь. Мой бог Алексей Хомич, вратарь московского «Динамо». Крепко сбитый, пружинистый, чуть сутулый, коротко стриженный, почти «под ноль». Прозванный в Англии во время послевоенного динамовского турне «тигром».
Рассказывали, что на приеме у королевы та будто бы пожелала услышать спич в исполнении этого футбольного гения. Он встал и произнес:
Леди и гамильтоны!
Изумленная пауза. Занавес.
Итак, мы, юные динамовцы, кончаем тренировку. На поле выходят взрослые Бесков, Карцев, Малявкин, Бобров
Я прошу великого Боброва: «Дядя Сева, стукните мне, пожалуйста, с одиннадцати метров, только точно в девятку!».
Он, усмехнувшись, бьет. А у него удар был пушечный, неберущийся.
Ударил. Мяч со свистом пошел в верхний левый угол.
Но я, дотянувшись до него в броске, запутался в сетке ворот, куда меня внес мяч, пущенный гением футбола.
Вот это всё враньё от начала до конца.
Да, в футбол я играл. Во дворе. И вратарем стоял, сутулясь, подражая Хомичу (сутулость моя оттуда). Но не было ни детской команды «Динамо», ни тренировки с Бобровым Просто я всегда обожал «Динамо», был его страстным болельщиком. О бело‑голубые, мои боги!!
Что я знал тогда об их эмгэбэшной принадлежности, об интригах Берии против «Спартака» Просто я был очарован бело‑голубыми, их филигранной игрой, техникой, яркими индивидуальностями
Кто болеет за «Спартак»
Тот мудила и дурак
это я начертал мелом на черной лестнице нашего дома на Покровке в пику Витьке Альбацу, соседу, болельщику «Спартака».
Бабушка увидела. Скандал! Позор! Заставила все это стереть. Стыдоба, в общем Вот это правда. Это было.
Все вышенаписанное долженствовало быть только предисловием к моим Memoires. Но затянулось. И ясно, что к старческой лени, маразму и желанию приврать добавился еще один порок неудержимая болтливость.
Простите. В дальнейшем буду сдерживаться. Самоограничиваться. Всё!
Итак, начали.
«Я родился в »
Помните, у Чехова один такой же пенсионер садится за стол с твердым намерением начать писать? Первая фраза, ее начало: «Я родился в » и тут же сразу раздается вопль кого‑то из домашних зовут приходится все бросать и идти на зов
Итак: «Я родился в »
Прислушиваюсь. Ну! Зовите! Тишина
Да, оказывается, это очень трудно заставить себя сесть за стол и начать.
С чего?
Как?
Да и кому интересна эта моя жизнь?
Но «недаром стольких лет свидетелем Господь меня (заставил? сделал? назначил?)». Да, что‑то уж очень как‑то самоуверенно это выходит: «Господь меня» ну да ладно: ведь я действительно был свидетелем очень многих событий. И «когда‑нибудь, кто‑нибудь ».
Итак свисток!! Начали. То есть что это я?! Какой свисток? Звонок, конечно.
Итак звонок!! Начали! (Занавес пошел!)
Я родился в Москве 26 сентября 1934 года.
Моя мама, Ирина Сергеевна Ильинская, будучи воспитана своими отцом и матерью в спартанском духе, а к этому духу добавилось еще и пролетарско‑коммунистическое мировоззрение, с которым мама вышла из школы‑коммуны, где училась, пошла рожать меня в родильный дом на Покровке. В «Лепёхинку» так называлось это учреждение. Пошла самостоятельно, одна. Мест для рожениц не было, и маму поместили на кровать для буйных в клетку, под замком. Хотя никакого буйства мама не проявляла. Короче вот в этой самой «Лепёхинке», в синем доме с колоннами (москвичи прозвали его «домкомод»), принадлежавшем ранее князьям Трубецким, я и появился на свет.
Первые впечатления
Как ни странно вижу, как на террасе общежития политехникума связи, где работал папа, в Пушкино, он тисками привинчивает к столу елочку: Новый год. Темно, за окнами снег, снег И фраза: «Разрешили елку» впечаталась в память А это 1935 год мне всего‑то годик
А вот более позднее воспоминание.
Просыпаюсь и тут же крепко зажмуриваюсь. Посреди комнаты в лучах утреннего праздничного солнца стоит нечто прекрасное, сияющее никелем, брызжущее ярким светом, ослепляющее
Сквозь крепко зажмуренные веки плывут яркие пятна, звездочки. Из открытого, видимо, окна доносится ликующий рокот толпы, бухают оркестры, мелодии перемешиваются, сливаются в стройную разноголосицу
Праздник! Первое мая!!
Открываю глаза
Нет, это не сон!
Велосипед! Он стоит недалеко от кровати, это его никелированный руль, ободья колес, спицы слепят ярким солнцем. Синее небо сияет
Потом мы с папой спускаемся вниз, к Москве‑реке по Покровскому и Яузскому бульварам.
Я еду на своем велосипеде и звоню, звоню
На набережной, у Воспитательного дома много народу. Люди стоят на тротуаре, встречают войска, идущие с парада на Красной площади.
Я устроился на решетке ограды, подсаженный папой. Что‑то тяжелое грохочет по мостовой.
Где папа? Я в панике: исчез папа!
Да нет, вот он, вот!
И мы опять по бульварам, на велосипеде, со звонком поднимаемся к нашей Покровке.
Это 1 мая 1941 года.
Навсегда в памяти осталось подмосковное Пушкино с его грибами, березами, голубой Учой, плавно проходящей под высоченным мостом, по которому мчались, весело гудя, синие электрички. Пушкино, с сачками для бабочек, со сладчайшими леденцами‑петушками на палочках, с мороженым в круглых вафельках, с кинотеатром, где показывают «Золотой ключик», здание деревянное, старое, с резными украшениями, с красивыми балконами под потолком. А на другом конце городка узенькая речка Серебрянка и ярко‑голубые стрекозы, застывшие над ней; жарко, в воде толстые речные лилии пахнут, словно шоколад
«Синяя птица»
Еще до войны я был в Художественном театре.
Допустим, это был 1941 год: январь или февраль. Но мне кажется, это было раньше. Итак, мне шесть‑семь лет.
Мама привела меня на «Синюю птицу» во МХАТ.
Спектакль я помню отчетливо. Поразило меня Царство Ночи, с Ужасами, которые вырывались из пещер, Призраками, бродящими в полутьме. Помню, как заколотилось сердце, когда распахнулась стена, засияло голубое небо и птицы тысячи птиц замелькали белым в этом небе.
Помню грусть (откуда бы взяться грусти у меня, шестилетнего пай‑мальчика?), которую вызвала у меня Страна Воспоминаний, медленно возникающая сквозь дымку, с домом‑треугольником, как на детской картинке. Золотистые лучи по бледному небу
«Прощайте, прощайте, пора вам уходить »
Даже сейчас, когда я вспоминаю это, подступают слезы.
Вот так я стою на Ваганьковом у могил деда, папы и мамы; камень безмолвный, тишина Но ждут дела, суматоха «Пора вам уходить » У мертвых тоже свои дела, своя жизнь, таинственная, ей не надо мешать «Пора вам уходить »
Когда после спектакля мы вернулись домой, в нашу милую квартиру на Покровке, вдруг для меня наполнились новым содержанием самые обычные предметы на кухне. Вот отчетливо я вижу старую нашу, еще дореволюционную, раковину с пятнами ржавчины, слышу, как раздается металлический звук падающей капли, а я все стою и жду появления Духа Воды. Горит огонь в плите, уютно потрескивают дрова, а я вспоминаю, как плясал в тот день Дух Огня
Сейчас мне семьдесят шесть лет. Стало быть, семьдесят лет назад моя мама привела меня за руку в Художественный театр. А я все помню в подробностях. От самого здания и особенно от зрительного зала осталось ощущение необычайного уюта поблескивание полированных ярусов, полумрак, в котором светились матовые кубики
Много раз потом я был в Художественном. Он даже стал на какое‑то время моим родным домом, я даже мечтал глупые мальчишеские мечты! что, вот если начнется война, я буду с пулеметом защищать мой милый театр. Даже если все взрослые разбегутся, я один стану защищать театр!
С тех пор я видел все спектакли той поры (19481959). Обожал, боготворил актеров. Да и было за что Но то, первое посещение МХАТа с мамой как‑то особенно врезалось в память: видимо, незнакомой мне тогда атмосферой старой Москвы, которая еще витала в Художественном и создавала свой особый микроклимат, домашний, уютный, располагающий к доверчивости и добру. Во всей Москве ничего подобного не было, а здесь, как в чудесном ларце, в котором когда‑то хранились благовония, что‑то напоминало и живо говорило о былом. Даже и в пятидесятые годы.
Во время Московской Олимпиады, в 1980 году, забрел я как‑то во МХАТ, где тогда шел капитальный ремонт. Снаружи вроде бы все по‑старому. Внутри ужас запустения Тьма, битый кирпич, проволока цепляется и пыль, пыль, пыль
Тот самый зал, где мы с мамой когда‑то были на «Синей птице», был мертв, взломан, поруган. Тишина, тьма, набухший и грязный паркет в пыли, сочится во тьме и глухой тишине вода кап, кап как тогда у нас на кухне, в раковине Шаги гулко отдаются в пустом, без кресел, в досках и грязи зале.
Я, стоя посреди разрушенного зала, крикнул в темноту:
Браво! Спасибо!
Тишина.
И ничто больше не напоминает о старой Москве
Смерть. Конец.
22 июня 1941 года
Брызги солнца на ресницах. Синее‑синее небо. И, наверное, оттого, что мы с мамой отправились на утренник в кинотеатр «Колизей», радостное чувство праздника. Купаясь в солнце, мы подходили по Чистопрудному бульвару к «Колизею».
За его ротондой, в правых дверях собралась небольшая толпа. Мы подошли поближе. Контролерша в темном платье говорила, что только что по радио передали о нападении Германии на СССР.
Мама повела меня назад, домой. Я был полон горьким чувством несбывшегося счастья. Хотя фильм а это была комедия «Старый двор» с участием Карандаша я все‑таки посмотрел в этот день, видимо, выканючил. В кино я был удивлен тем, что мама в смешных местах (мячом разбивают окно и т. д.) не смеялась.
Очень скучным было это воскресенье. Соседи по квартире Ася, Костя, Мария Исааковна целый день о чем‑то говорили, не обращая на меня ни малейшего внимания.
Вечером лежу в постели. За письменным столом бабушка читает газету. Горит настольная лампа. Бабушка недовольным, я бы сказал, поучающим тоном выговаривает мне, что, дескать, теперь вот я пойму, как себя вести, что такое дисциплина и все в таком духе. Помню эту лампу, ее свет, темный силуэт бабушки, тень на потолке и стене, шелест газетных страниц Потом заснул.
Скучный был день 22 июня 1941 года. Но почему‑то его я запомнил навсегда.
Первая бомбёжка
Бомбежек было много. К ним мы относились почти равнодушно. Днем даже не спускались в бомбоубежище. По ночам папа дежурил на крыше, один раз принес мне хвост от зажигательной немецкой бомбы. У меня была целая коллекция осколков от снарядов, их и дядя Костя, сосед, мне приносил. От них исходил прекрасный запах: пороха и стали. Они были блестящие с одной стороны и неровные, зазубренные с другой.
Почти каждую ночь мы проводили в подвале расположенной в нашем доме аптеки, в ставшем уже родным приторном аптечном запахе бомбоубежища. Кроватью мне служил старый пружинный матрац, обшитый выцветшим от времени ковром по голубому полю бледно‑зеленые или коричневатые квадраты. К ночным тревогам мы постепенно привыкли
Но вот первую бомбежку я не забуду никогда
Помню громкий лай металлических собак, визг, вой, грохот, тататаканье пулеметов. Дом трясло, окна взрывались белыми снопами, и моей детской жизни явно что‑то угрожало, что‑то такое громадное, пугающее, от чего не может спасти ни бабушка, ни мама, никто! Я дрожал, плакал, кричал что‑то, захлебывался, меня унесли в коридор, подальше от окон, но истерика не проходила
А он все продолжался, этот страшный грохот, будто били железной палкой по крыше, по мне, по всем сразу
Война
В каждом эпизоде вспоминается она мне по‑разному.
Попробую описать какие‑то важные для меня мелочи.
Начало войны.
Из‑за бомбежек я был перевезен в свое любимое Пушкино, где тогда находилось общежитие студентов папиного техникума связи.
Жили мы с бабушкой.
Лето. Жарко. Объявили: всем на рытье «щели». И все пошли. И бабушка. Я заартачился и остался. Копался в песочке. Потом ребята пугали меня: мол, тех, кто не работал, не пустят в укрытие. Я забеспокоился
Тут же врывается воспоминание: вечер, белая стена общежития, и на этой трехэтажной стене фильм «Волга‑Волга». Еще до войны было принято показывать кино вот так, на стенах домов.
Еще воспоминание. Глубокая ночь. Темно. На горизонте каким‑то слабым пламенем горит Москва. Во тьме чей‑то голос: «Пресня » «Да нет, это Замоскворечье » И опять тишина Мы стоим на крыльце дома и смотрим во тьме на пылающую по всему горизонту Москву.
И помню странное чувство это правда, было такое чувство! досады, обиды на взрослых за прерванный мир игр, улыбок, дач, белых платьев, зонтиков, мороженого, такого вкусного, оно лежало меж двух круглых вафелек, на которых обязательно были имена «Валя», «Лена»
Чувство капризного раздражения и понимание того, что, как ни капризничай, на сей раз ничего не изменишь
Война ну, во‑первых, это почти еженощный спуск по черной лестнице в бомбоубежище‑подвал. Отец с нами не ходил. Я, держась за руку мамы, в пальтишке, перевязанный башлыком, который, видимо, остался с еще дореволюционных времен, да, он попахивал нафталином, с вещмешком за спиной шагал вниз по темной лестнице. Гулко хлопала «черная» дверь, и мы попадали во двор.
Как описать эту странную тишину, что стояла вокруг?
Было страшно. Прямо за домом напротив в черном небе шарили четкие лучи прожекторов. Мы спускались в подвал, в аптечный запах. Иногда в подвале возникал отец видимо, спускался с крыши, с дежурства. Шли томительные часы или минуты в тишине, полумраке. Наконец, голос в круглом черном репродукторе вещал: «Угроза воздушного нападения миновала! Отбой!»
В подвал, по‑моему, мы с мамой спускались в первые дни реальной опасности. Немцы были совсем рядом с Москвой, даже я чувствовал напряженность
На нашем доме, на углу, висел плакат: крысообразный Гитлер порвал договор о ненападении, а могучий красноармеец, весь алый, штыком пробивает ему нос. Почему‑то я помню этот плакат по прогулке с соседским мальчишкой Витькой Альбацем и его матерью, она позднее у меня ассоциировалась с Фанни Каплан хотя черт ее лица я совершенно не помню Вскоре она исчезла. Вышла на улицу и не вернулась была арестована. Ее мужа, Витькиного отца, арестовали еще до войны он был одним из руководителей электрификации Северной железной дороги. Остались Витька и его старшая сестра Нелли одни. Если бы не нянька Варвара Варька, как пренебрежительно звал ее Витька, они, конечно, погибли бы. Но Варя проявила чрезвычайный героизм осталась жить с двумя детьми «врагов народа». Ей, может быть, невдомек было все это политическое шаманство, а может быть, и понимала она происходящее, да ее честная русская или просто человеческая душа не позволила ей бросить сирот на произвол судьбы. Вот и посадила она себе на шею двух в общем‑то не очень воспитанных детей. Жили они пыльно, грязновато, но Витька учился в школе, Нелли тоже, пили‑ели на Варькины невеликие заработки, не догадываясь, конечно, какой героизм эта Варька проявляет, на какую жизнь себя обрекла
Говорят, русский народ антисемит
Помню, как неслась ее брань по черной лестнице вдогон Витьке и гад он ползучий, и паразит, и еще что‑то, но кормила‑поила его, стирала «паразитское» бельё, штопала‑перештопывала
Из войны помню еще мама брала меня иногда с собой в пединститут, где тогда преподавала. Идем по улице видим дом, в который попала бомба. Весь дом цел, нет только наружной стены, и видна вся внутренность: комнаты, коридоры Врезалась в память кровать где‑то на пятом этаже, застланная, аккуратная.
Навстречу идут люди в желтых прорезиненных комбинезонах, в противогазах, в резиновых перчатках и таких же капюшонах жуткая картина
Мама часто рассказывала мне об Александре Александровиче Реформатском. Да я и сам его отлично помню. Маму он называл «Микки» или «Ирэн». Реформатский был крупнейший ученый, светило в языкознании. В пенсне, с рыжими усами и бородкой, этакий штамп русского интеллигента‑разночинца, из поповской семьи.
Он вызывался вне очереди оставаться на ночные дежурства в пединституте. И с ним всегда оставались его студенты. Реформатского ставили в пример: вот, дескать, какой бесстрашный патриот не увиливает. А потом обнаружилось, что они вместе со студентами выпили во время тех ночных дежурств весь спирт, какой только смогли найти на кафедре медицины пединститута, выпивоха профессор был страшный. Я очень любил его приходы к нам домой: он всегда привносил с собой струю этакого полузапрещенного веселья, острил, распространяя вокруг себя приятный пшеничный запашок.
Ходит легенда, как он, выделенный парторганизацией Института русского языка АН СССР для ознакомления приехавших американцев‑лингвистов с социалистической новью Москвы, напоил их до бесчувствия у первого пивного ларька, припася для «ерша» в каждом кармане по «маленькой». «О, Русиш, культуришь», заплетающимися языками молвили американцы. «А хулишь?» молвил Александр Александрович.
Его споры с академиком Марром он был его ярым противником закончились тем, что Реформатский лишился должности, а на жизнь зарабатывал, кладя кирпичи на стройке.
А знаменитая его речь у гроба Винокура, тоже крупнейшего филолога! Говоря о его честности и подлинном патриотизме, он вспомнил осень 1941 года: «25 октября, в тяжелейший день войны, ты остался в Москве, когда все, и он обвел рукой скорбно стоящих у гроба маститых профессоров и академиков, когда все они драпанули».
25 октября, когда немцы вплотную подступили к Москве, был действительно страшный день. Драпанули почти все «ответственные». По шоссе Энтузиастов мчались «ЗИСы», «эмки», грузовики, перегруженные скарбом В учреждениях жгли бумаги, документы, асфальт был покрыт черным бумажным пеплом, он, как черный снег, медленно плыл в воздухе
Папа был на трудовом фронте, рыл траншеи, чуть не попал в окружение, но пробрался в Москву, выведя с собой большую группу людей. Помню его появление: мы с мамой вернулись с улицы, и за кухонным столом, служившим и подоконником и холодильником, на фоне яркого окна я увидел совершенно черный силуэт папы. Он был черен от многодневного скитания по лесам, небрит, худой
Отец сказал, что линии фронта нет: на всем пути они не встретили ни одного красноармейца, что надо немедленно уезжать из Москвы, потому что вот‑вот начнутся уличные бои
Однажды отец пришел с жуткой новостью о падении очередного подмосковного города Мы все сидели в столовой, молчали. Мама вдруг уронила голову на ладони, и пальцы ее, обняв голову, прошли сквозь волосы. Сколько уж лет прошло, а я отчетливо помню этот жест. И был он настолько выразителен, что мне, семилетнему мальчику, стало ясно: все стало страшным и четким, неумолимым
А вечером мы сидели в той же столовой, горел свет, и окна были замаскированы черными бумажными шторами. Вдруг откуда‑то издалека донесся протяжный вой. Он рос, ширился, пронесся над нами, стал удаляться, стих, потом все как‑то дернулось, папин стул качнулся под ним, и папа чуть не упал, ему пришлось схватиться за стол, чтобы не упасть, а диван подо мной сам поехал в сторону. Звякнуло треснувшее стекло. Потом мы услышали отдаленный мощный гул, будто кто‑то палкой, обернутой в мягкую вату, сильно где‑то далеко жахнул по большому барабану. Это немецкая торпеда попала в здание ЦК партии, где в это время шло заседание с участием писателей. В этот день там много погибло народу, в том числе драматург Афиногенов
Ходили слухи, что в некоторых неразорвавшихся немецких бомбах будто бы находили листовки от немецких рабочих со словами солидарности с нами Думаю, что желаемое выдавалось за действительное.
Помню запах рыбьего жира бабушка случайно нашла пыльную бутылку на антресолях и жарила на нем картошку такой вкусной картошки я никогда не ел Помню и другие запахи: какой‑то особенно пряный, ароматный от меховой отцовской жилетки, новенькой, выданной ему вместе с новенькими ремнями и прочим обмундированием: он записался добровольцем. И удивительно свежий, острый запах каракулевой ушанки
Помню звонки по телефону с наблюдательного поста ПВО, где дежурил какой‑то наш знакомый. Он «по блату» предупреждал нас за 1015 минут до воздушной тревоги, что летят немцы
Помню шпиономанию. Семен Григорьевич Займовский, известный переводчик, знаток английской литературы, был арестован на улице за то, что был в шляпе.
Его приняли из‑за шляпы за немецкого шпиона, потом все‑таки выпустили.
Помню речь Сталина поздно вечером в нетопленой темной комнате Марии Исааковны Хургес, нашей соседки; слова, медленно падающие из мятого черного бумажного круга репродуктора, и всех маму, папу, бабушку, застывших, как в игре «штандер», в разных позах, слушающих
А потом была эвакуация, Тбилиси Но это уже другой рассказ.
Эвакуация
Как было принято решение уехать из Москвы, как собирались пожитки, предотъездная суета не осталось в памяти. Помню только слово «ВКВШ» что‑то связанное с высшей школой.
Меня предупредили: выбор игрушек ограничен. Знаю, что бабушка очень не хотела ехать как это она, потомственная москвичка, вдруг уедет куда‑то к диким грузинам? Все‑таки любовь к дочери и внуку пересилила, да и захлестнула общая паника.
Как‑то бабушка ночевала у своей парализованной родственницы в Замоскворечье. Ночью был налет, рвались бомбы Родственница что‑то хотела сказать, но тянула только: «Ол‑лл‑а, ол‑лл‑а ». Это, видимо, сильно подействовало на бабулю: представить только: «масквички» с Пятницкой, хранящие еще быт и нравы Москвы Первопрестольной, во мраке холодной комнаты, скудно освещенной красноватым светом пожара; отвратительное кваканье зениток; занудный до боли зуммер немецкого самолета, то еле слышный, то звучащий где‑то рядом; дрожащий от взрывов пол и это: «Ол‑лл‑а, ол‑лл‑а » в темноте.
Да
Так выбор игрушек был весьма ограничен. Взял я своего любимого Бибабо клоуна с доброй улыбкой и карими глазами, несколько солдатиков и книгу «Марка страны Гонделупы».
Не помню чувств, которые возникли во мне при расставании с Москвой
Зато четко помню ночь. Видимо, поздняя хотелось спать. Мы мама, бабушка и я одеты по‑дорожному. Я в валенках, башлыке и шапке, за спиной вещевой мешок. Полная тьма и тишина. Как‑то добрались до Казанского вокзала. Помню гигантские своды залов этого вокзала, полумрак, абсолютно темный перрон и черное от мрака купе. На платформе ухарски ухал оркестр, что‑то вроде: «Топор! рукавица! жена! мужа! не боится!» Мы сидели в темном купе. Мне показалось, что окно закрашено изнутри не было видно почти ничего, впрочем, помню какие‑то пляшущие вприсядку фигуры на перроне. Вещи наши багаж довольно громоздкий были сданы в багажный вагон. С собой взяли только заплечные мешки.
А! Горела свеча. Мы ехали в мягком вагоне. Слабый свет освещал купе. Поезд все не отходил. Долгие минуты (часы?) ожидания. Прощание с папой не помню.
Поезд наконец тронулся. Поехали. Ехали несколько минут, потом поезд остановился. Говорили: бомбежка, во время бомбежки нельзя ехать Я заснул. Спали мы почти всю дорогу одетые, чтобы «на всякий случай» сразу выпрыгивать из поезда.
А потом мы ехали снегами. Ехали очень долго. Наш сосед по купе, немолодой военный, резал колбасу скальпелем, резал очень тщательно и точно, и по этим признакам мама угадала, что он хирург. Нам тоже что‑то перепало. Мама часто выходила на остановках, вгоняя меня в дикую панику и ужас. Этот ужас преследовал меня всю дорогу. А вдруг она отстанет от поезда?! Какое чувство я испытывал не помню. Отчаяния от того, что мы можем остаться одни? Страха за одиноко стоящую на пустом перроне, отставшую маму? Надо сказать, что в подобных ситуациях я почему‑то остро переживал за маму, жалел ее до слез. Так было потом и в школе, когда она забыла принести на школьный спектакль в Тбилиси изготовленный нами с ней руль для машины (я изображал шофера), я чуть не плакал, глядя на ее измученное лицо. Так я полез, ослепленный яростью, 26 сентября 1942 года в драку с тремя грузинскими юношами (а мне было восемь лет), которые отняли у меня поясок с железными бляшками. Этот поясок мне подарила мама на день рождения. Видимо, купила на последние деньги. И вот она его мне подарила а они спокойно и насмешливо сняли с меня этот поясок и пошли неторопливо. Меня ослепило мамино худое и измученное лицо не помню, как поясок очутился у меня в руках, я хлестал ими, этими железяками, по изумленным лицам красивых юношей из Тбилиси и победил!
Или в день 31 декабря 1942 года в Новый год я страдал от того, что не будет елки, ныл, канючил, и вдруг о чудо! Пушистая сосна у нас в комнате!!! И игрушки картонные рыбы и звездочки!!! И подарок а вот какой, не могу вспомнить, не могу
Помню только радость, легкость И как стало жалко до боли в груди маму, потому что я понимал, как тяжело все это ей далось
Так вот, в тот день я боялся, что мама отстанет. Но все обошлось благополучно мама выходила на частых остановках, что‑то приносила съедобное На одной станции, помню, к нам в купе набилось много молодых (отчетливо помню, что они были очень молоды) военных наверное, выпускников военных училищ, ехавших на формирование.
В купе остро запахло кожей, гуталином. Военные притащили с очередной станции целых два противня с пирожками, начиненными картошкой, и соленые огурцы Тепло в купе, полно народу, весело и тревожно, хрустят огурцы на зубах, и нежно тают пирожки во рту уже забытые с «довойны», да и совсем иные какие‑то, «деревенские» на вкус, а в опаловое окно по‑новогоднему уютно заглядывают лапы елок, согнувшихся под пудовой мягкой тяжестью блестящего снега Какие‑то разговоры о войне, шутки, уверения в скорой победе
Таким же молодым был и Жора мой брат по отцу. Я плохо помню его. Он был гораздо старше меня. Помню его тетради с таинственной алгеброй. Помню лицо, бритую голову, черные большие глаза, крупный нос. Нелегко ему, наверное, приходилось в доме у мачехи Очень хочу надеяться, что мама хотя бы частично заменила ему родную мать
Но из девятого класса он ушел в военное Сумское артиллерийское училище. Это было еще до войны 22 июня 1941 года окончил его. В один из приездов я помню его на кухне нашей жаркая кухня, бабушка и Ася, наша милая соседка по коммуналке, сидят у окна, а Жора, уходя, улыбается, блестя цыганской улыбкой, и, как‑то очень ловко повернувшись на командирском каблуке, распахивает задний разрез в шинели, демонстрируя целый ряд маленьких сияющих пуговичек со звездочками А я стою, держа в руках руль самоката, ибо я изображал метро ездил по квартире, по коридору в кухню и обратно. Пол в кухне был из толстых, отполированных временем белых досок с сучками, а один сучок, самый крупный, раздваивающийся, был при въезде в кухню из коридора и заставлял мой самокат мягко громыхать и дергаться, создавая полную иллюзию стрелок на рельсах в метро
Так вот Жора блестит улыбкой, сияет пуговицами, амуницией, машет рукой и уходит, за ним глухо хлопает «черная» дверь. Жарко на кухне, за ярким окном зима солнце, синее небо
Когда мы эвакуировались, фронт подошел близко к Москве. А потом он стал совсем рядом, чуть ли не в Химках, и Жора вместе с товарищами заявился, видимо, проездом в часть, к нам, в пустую квартиру, где была одна Ася, ночью. Отец уже был на фронте. Ася рассказывает, что они их было много, усталые, веселые, вытряхнули их своих вещмешков концентраты гречки, консервы. Ася наварила им всего этого Они поели и завалились спать одетые, кто где на кроватях, на стульях, на полу Ася ходила и смотрела на них молоденькие, говорит, все, красивые Рано утром они ушли.
Концентраты, консервы те, что остались, отдали Асе.
Мы долго, еще три года, получали письма от Жоры, фотографии, посылочки
А потом он исчез На Курской дуге пропал без вести И они его друзья тоже пропали, потому что если хотя бы один из них был жив, то он, конечно, пришел бы на Покровку, в ту квартиру, где ели они кашу и в последний раз мирно спали
Мама ходила с запросами по военкоматам, в Министерство обороны. Ответ один: был ранен, отправлен в госпиталь, в госпиталь не прибыл
Вот и не стало у меня старшего брата, которого я так плохо помню и которого так сильно любил бы потом
Ну а тогда, в поезде, все эти молодые военные были в новеньком обмундировании, но без погон их плечи туго обтягивало темно‑зеленое командирское сукно Погоны ввели позже, мы уже жили в Тбилиси
На одной станции произошло следующее. Поезд стоял. За окном сверкала зима.
Перрон скрипит и визжит снегом. Рокочет дверь, открываясь, и мама с мороза, в каракулевой кубаночке, разрумянившаяся, что‑то кричит нам в купе, радостная и взволнованная. За окном бегут люди. Кто‑то несет на вытянутых вверх руках большую, как простыня, белую бумагу видимо, ее содрали с забора или с доски с афишами, она тяжелая, вся с задней стороны в пластах клея и старых афиш и объявлений, поэтому висит прямо и тяжело, не колышась от ветра, и я вижу одно слово: ИНФОРМБЮРО и число 11 декабря 1941 года. Слышу радостный всхлип гармони, люди на перроне обнимаются, пляшут Человек с бумагой на вытянутых руках идет дальше, к другим вагонам, показывать в другие окна
Это наши отбросили немцев от Москвы. Это то самое начало разгрома немцев под Москвой! Когда ниточка надежды уже почти порвалась это случилось!
Захлебывается гармонь, поет снег Кто‑то выбрасывает свои вещи из вагонов: едем обратно, в Москву!!! Из нашего вагона тоже кто‑то швыряет вещи Представляю себе состояние мамы: старуха‑мать и шестилетний сын, вещи в купе и в багажном вагоне много, видимо, вещей А в Москву родную, осиротевшую, пустую и холодную, но родную, можно вернуться и жить дальше! Я что‑то кричу, бабушка говорит, мама напряжена, сдвинула брови И решает все‑таки ехать дальше!
Ветви, лапы елей под мягким гнетом снега мягко поплыли назад, мешки, чемоданы, гармонь, быстрее, быстрее, и мы уже несемся дальше, на юг, в полную неизвестность
Так мы и ехали очень долго, бывало, днями стояли в тягучей тишине. Земля вокруг обнажилась, стало тепло, проехали сонный Сталинград, приблизились к Кавказу. Хирурга сменил какой‑то важный чин из НКВД. С выбритой до синевы головой, с орденами.
Наконец пересекли границу с Грузией. Тепло! Мама с военными жгла капустные листья на печке в тамбуре, изготовляя «табак» Я читал «Марку страны Гонделупы», это первая мною самостоятельно прочитанная книга.
Вечером, решив, что мы в безопасности, разделись впервые и, блаженствуя, заснули.
И тут случилось вот что.
Глубокой ночью я проснулся от луча фонарика, который в темноте ослепил меня. Поезд стоит. Мама что‑то кричит в темноте. В коридоре топот ног, плач. Голоса. Вижу, как отбирают наши документы. Мама, сцепив руки, стоит перед соседом по купе из НКВД, который, умоляет о чем‑то. Тот обращается к молодому грузину в военной форме с фонариком и с нашими документами в руках. А он кричит: «Можэтэ нэ дэлать минэ указаний! Я нэ вам падчиняюсь, я падчиняюсь энкавэдэ Грузии! И виполниаю его приказы!!!» Кричит, голос его срывается на визг.
Все это в кромешной тьме, с проблесками фонарика, луч которого выхватывает из черноты встрепанную бабушку, растерянную мать
Меня быстро одевает мама, на мне опять вещмешок, в руках еще что‑то Бабушка с узлами, мама и я, спотыкаясь и ударяясь в темноте о выступы, идем к выходу из вагона. Рука мамы дрожит. Она выкрикивает какие‑то слова ВКВШ!.. Басилашвили!!
Но вот мы уже на перроне в кромешной грузинской тьме, рядом с грудой наших вещей, слышу бабушкино бормотанье: раз, два четыре Это она считает узлы с вещами Судя по шуму голосов, высадили не одних нас, а очень многих. На перроне толпы народа, шевелятся, кричат.
Вдруг отчетливо слышу голос, поразивший своим спокойствием.
Не волнуйтесь, уважаемая, говорил какой‑то мужчина. Завтра в Тбилиси я получу ваш багаж и сдам в камеру хранения. Вы поняли? Успокойтесь, уважаемая. Постарайтесь во что бы то ни стало забрать свои паспорта у начальника станции, не соглашайтесь никуда ехать, кроме как в Тбилиси, вы имеете на это все права, и во что бы то ни стало завтра же выезжайте отсюда в Тбилиси, я буду встречать все поезда. Вы поняли? Успокойтесь, уважаемая! Не волнуйтесь, уважаемая! Все будет хорошо
Голос с акцентом, лица не видно, просто темная фигура в черном проеме двери.
Поезд тронулся, бухнул буферами с головы поезда блям‑трам, блям, блям‑трам, дран‑брын и дернулся, и пошел, пошел, уже без нас, набирая скорость, на перроне закричали, заплакали, проплыло мимо нас наше мягкое купе, энкавэдэшник с орденами, уют, все это исчезло навсегда во тьме
Хачмас.
Никогда не забуду название этой станции. Здесь правительство Грузии выбрасывало нас, русских, едущих в Грузию, спасающихся от немцев, смерти, голода, выбрасывало в неизвестность.
Думаю, эти высокостоящие решили, что немцы уже победили или очень скоро победят, и пытались таким образом заранее заработать себе политический капитал перед будущими хозяевами. Ведь беженцы ехали по вызову на работу в Грузию, с билетами, командировочными бумагами, с детьми, стариками
Вышвырнули вон.
Паника бабули и мамы передалась мне. В темноте мы не видели друг друга. Рука мамы дергалась. Но было в маме какое‑то волевое начало. Она заставила себя не волноваться и начала действовать. Из тьмы южной ночи, набитой звездами, мы попали в вокзальное, слабо освещенное желтое помещение. Крики, брань, мольбы. Люди здесь уже не первый день. На полу лежит девушка со светлыми волосами в колышущейся массе вшей Бабушка уложила меня на узлы, гладила по голове, шептала. Сквозь дрему я слышал, как выдавали паспорта вместе с билетами на Махачкалу куда‑нибудь, лишь бы не в Грузию! Выкликали фамилии, люди брали билеты: а что делать? Все‑таки хоть что‑то
Мама единственная не взяла билет на Махачкалу.
Проснулся я утром солнце, синее небо, прохладно, и ни одного человека в зале. Только мы втроем. Всех отправили. Тишина и покой.
Я уже начал верить в великие слова «ВКВШ» и «Басилашвили». Стоит их произнести, и все будет хорошо Мама потом рассказывала, что она все‑таки проникла в комнату начальника станции я его помню: мужик в зеленой с красным форме и заявила, что поедет только в Тбилиси, потому что ее муж грузин, сын грузин, Басилашвили, а сама она едет в Тбилиси, в университет, по приглашению на работу, по направлению ВКВШ. Слава богу, отец успел сунуть маме перед отъездом то ли свою метрику, то ли еще что‑то, удостоверяющее, что он действительно грузин.
Мама показала начальнику этот папин документ, мою метрику «Что вы хотите?» «Я хочу следовать туда, куда направило меня правительство, в Тбилиси, больше я никуда не поеду! Мой муж грузин из Тбилиси!»
Вот это и сработало. Вышла мама с победно поднятой рукой, в которой были эти документы.
Потом была нервотрепка с билетами то ли достанутся, то ли нет.
И вот до сих пор помню: в 11.20 будет поезд на Тбилиси, и у нас на него билеты!!!
Бабушка отправилась на базар, что был рядом с вокзалом, и пока мама бросалась со мною от окошечка к двери, от двери к окошечку требовала билеты, бабушка запасалась продуктами. И вот уже и билеты в руках, и час отправления близок! А бабушки, моей родной бабушки нет. Время летело, я представлял себе, как она останется навсегда в этом проклятом Хачмасе, в толпе кричащих и вшивых людей, без денег, без нас, без всего, и ноги у меня подкосились. В груди лопнул горчайший ком, и я стал кричать, заливаться слезами, орать, звать ее, мою родную и добрую. Сердце выскакивало у меня изо рта, а крик мой, наверное, несся по всему Хачмасу проклятому, по всей Грузии, по всему миру:
Где моя бабушка??!!
Но вот она бежит ко мне, целует, и мы снова втроем, правда, не в прежнем мягком вагоне, а в общем. Раз два четыре Прохладное солнце бьет в грязное окно. Когда же, когда же мы поедем!!! И вот: трам‑брам, трам‑бам‑бам! Один толчок, другой, поезд дергается, со скрипом начинает ползти, быстрее, быстрее
Все!
В вагоне курды, грузины в ярких одеждах, спертый воздух.
Не правительство Грузии, а эти простые люди, с натруженными руками и суровыми лицами, видят, что перед ними несчастные беженцы из Москвы: маленькая старушка, молодая женщина с исхудалым нервным лицом и грязный, заплаканный мальчик. Нам протягивают яблоки, лепешки, стелют на полку какие‑то ковры пестрые, что‑то гортанно успокаивающе говорят, бабушка гладит меня, что‑то ласковое шепчет, мама, напряженная, рядом Хорошо Я заснул.
* * *
В Тбилиси приехали темной ночью.
Ни зги не видно. Тепло. И опять тот же голос, что так волшебно звучал в Хачмасе: «Здравствуйте, уважаемая, я получил ваш багаж, он в фаэтоне, пойдемте »
Фаэтон телега с пьяным возницей.
Поехали. Едем куда‑то в гору, возница говорит: «Раньше здесь арбузы, если плохие были, в реку сбрасывали, а теперь, при этом бандите Сталине, вообще никаких нет!»
Мои в ужасе.
Приехали. Хоть глаз выколи. Встретивший нас мужчина помог поднять вещи по крутой деревянной лестнице И тут он и мама закурили от одной спички я на секунду увидел лицо нашего спасителя: черные усы, большой нос
Его мы никогда больше не видели. Он просто помог нам. Просто помог.
Откуда у семилетнего мальчишки такая тоска по родине?.. Всю жизнь будет сопровождать меня эта тоска по родине. По детству. По хорошему
Тбилиси.
Приехали, «сбежали» из военной Москвы три человека: тридцатитрехлетняя красивая интеллигентная, внутренне очень растерянная, внешне предельно собранная, со сжатыми плотно губами, волевым прищуром, порывистыми резкими движениями женщина, старуха пятидесяти девяти лет (как странно мне сейчас семьдесят семь!), полная, перекатывающая свое тело, словно колобок, с карими глазами и седой головой, и пухлый, с больными ушами, росший в московском интеллигентном доме, мальчик в коротких штанишках, со светлыми волосами, пухлой нижней губкой, привыкший к ласкам, игрушкам.
Поселились мы в маленькой комнатушке брата отца.
На стенах громадные портреты Сталина и Берии.
За шкафом дед Ношреван Койхосрович, которого я не то чтобы боялся, а как‑то стеснялся, что ли Рядом с ним, тихим и мрачным, неразговорчивым стариком, я чувствовал себя излишне изнеженным, чуть ли не девочкой.
Он все время сидел за шкафом. Всегда мрачный. Дед вылезал из‑за шкафа, когда мы уходили из комнаты. Тогда он ел: стеснялся женщин и своей нищеты (в Тбилиси жили трое его детей; сами бедствовали, но помогали ему чем могли).
В революцию дед отдал всю землю добровольно (может, из страха перед возмездием: все‑таки был полицейским приставом!) и с четырьмя детьми и женой переселился в Тифлис. Жена рано умерла
В тридцатые годы о деде вспомнили, нашли, забрали в ЧК и били так, что он до конца жизни многие русские слова стал произносить наоборот: не «мама», а «амам», не «хлеб», а «белх». Сидя с нами за нищенским столом беженцев, он, случалось, показывал на портрет Сталина и спрашивал: «Кто такой?» Мама звенящим от ужаса голосом отвечала:
Это наш великий вождь и учитель товарищ Сталин, дедушка!
Он бандит. Я его вниз. Потом он меня дзирс (вниз).
Взгляд дедушки застывал, и он становился очень похож на Сталина в старости те же оспины, те же редкие волосы назад, те же прокуренные усы, карие глаза
Потом в одно мгновенье лицо его напрягалось, глаза меняли цвет, и он произносил:
Он хароши чэловэк!
Пугался. А вдруг опять заберут гэпэушники!! Но не забирали. Забыли все. Один раз я застал его, беднягу, у булочной с протянутой рукой
Карточек у него не было. Жил впроголодь Что мы могли ему дать на свои одну рабочую и одну иждивенческую карточки?!
Я увидел его на проспекте Руставели он просил милостыню, примчался к маме, мама к булочной, утащила его домой. Дядя мой его к себе забрал, в Авчалы, так он сбежал оттуда обратно в Тбилиси, к нам
По утрам на галерее катал пустой бочонок для вина к крану с водой, чтоб не рассохся бочонок.
Соседи негодовали:
Ва! Опять Ношреван тарахтит! Ва! Спать не дает, честни слова!
Стал мой дедушка нищим стариком без всяких средств к существованию. Бездомный, полусумасшедший человек, униженно доживающий свой век в одной комнате с невесткой, с ее матерью и ее сыном. Внуком своим
Зато хоронили его по высшему разряду!! Оркестр гремел медью! Знамена реяли! Венки! Громадная толпа в черном, рыдающая в голос! В общем, похоронили с помпой на Верийском кладбище.
Три года спустя, папа, вернувшийся с фронта, поехал в Тбилиси, чтоб поклониться могиле отца. Но не мог найти ее местонахождение. Так мой дед до сих пор и лежит где‑то там, над Тбилиси, без креста, без плиты Царствие ему Небесное! Да будет ему земля пухом!
Вскоре мы переехали. Нас поселили в саду университета, в бывшей университетской кассе, комнатке метров в девять.
Тбилисская жара на ее фоне все воспоминания этих лет. И походы с бабушкой на фуникулер, и какой‑то дворовый самодеятельный спектакль, с афишей, которую милиционер приказал снять с улицы и повесить во дворе, и первый класс школы, куда я отправился еще до нашего переезда.
1 сентября мама стояла в перманенте, с иссиня‑черными бровями, напряженная, натянутая, как струна
Двор школы. Толпа родителей
Тогда меня пронзило острое чувство жалости к маме. Ничего я особенно не понимал ни какого труда ей стоило прокормить нас, ни ее страха за мужа, ни трудностей ее общения со студентами‑грузинами
Я чуть не ревел. А может, и заплакал, когда нас повели в класс Помню, звонок большой, медный, грязный в руках чьих‑то. Мамины глаза, жадно смотрящие в мои.
Война, бомбежки, эшелон, Хачмас, Тбилиси, папа на фронте, наша армия отступает, начинающийся голод, страх за бабушку, за меня, гипнотическое желание запрограммировать в эту минуту, минуту первого шага в первый класс, всю мою дальнейшую жизнь Вот что было тогда в маминых глазах. И такая растерянность где‑то в их глубине, несмотря на волевой прищур и плотно сжатые губы. Было жалко ее, потому что я все это бессознательно чувствовал.
Начинался настоящий голод. Мама и бабушка работали на табачной фабрике, упаковывали пачки табака для фронта. Брали меня с собой. Значит, какие‑то карточки дополнительные нам шли.
Все это еще на Грибоедовской, 5.
Ходили в гости. К сестре отца, Ире. Там было хорошо. Ира жила в старом городе. Бесконечное переплетение кривых улиц. Милый старый дом Угощение.
Бывали у Нины Дормишхановны властной старухи, бывшей помещицы. Она жила в самом центре, дом ее когда‑то был салоном на манер петербургских.
Скатерть, вышитая фамилиями знаменитостей. Картины Шарлеманя. Громадные ковры с ружьями или саблями. Нескончаемые скучные разговоры. Но еда, еда! Хозяйка говорила, что ей привозят продукты ее бывшие крестьяне из поместья, которые помнят ее до сих пор и каждый месяц на арбах везут своей старой благодетельнице всякую снедь.
Нина Дормишхановна нечто грузное, коричнево‑белое, басовитое
Отдали меня учиться в консерваторию, в класс виолончели. Почему именно туда? Во‑первых, близко от дома. Во‑вторых, все остальные классы были набраны. Педагог Капельницкий.
Мама говорила: если спросят на вступительном экзамене, почему именно виолончель, ответь, что всю жизнь мечтал играть на виолончели.
Так я и сказал.
Взяли.
На занятия меня отводила бабушка, таща чехол с виолончелью на спине. Ростом она была меньше виолончели. Мама по ночам чертила нотные страницы.
Уроки в консерватории были для меня мучением, дома я пугал всех соседей диким ревом фальшивых струн. Мозоли на пальцах, пыль канифольная, ее резкий запах Постепенно начало расти отвращение к музыке вообще, к виолончели особенно.
По приезде в Москву, когда мама поставила вопрос о продолжении учения, я встал на колени и умолял пощадить меня. Мама грустно махнула рукой.
В первом классе я впервые с ужасом узнал, как рождаются дети. И вследствие чего. Ребята со всех сторон южный темперамент! только об этом и говорили, выдвигали разные версии каждый свою. С улыбками или лицами все познавших людей Я бежал прочь от этих разговоров. Страшно, стыдно и до жути ново открывался другой, подлинный мир, который от меня прятали за диафильмами «Собирались лодыри на урок », подарками, играми
Нет‑нет!! Мои мама и папа не такие!! Я твердо знал это. И бабушка не такая.
А эти грязные, вонючие и страшные рассказы ложь и неправда! Ложь и неправда!
Ужас перед надвигающейся правдой жизни вселяли и какие‑то военные картинки типа лубочных. На картинках танки, красноармейцы, оторванные руки, кровь, кровь В газете фото: на койке красноармеец; в предплечье у него застряла большая невзорвавшаяся мина.
Тбилисские госпитали. Сквозь решетки палисадника раненые в грязном белье, серые как мыши, протягивали куски сахара, хлеб, еще что‑то, завернутое в обрывки мятых газет Меняли на спирт, торговали. Сахар бывал обсосанный, пористый, как мартовский лед
Мама иногда сочиняла детские книжки‑копейки: «Отряд 25 ребят», еще что‑то в этом роде. Там были такие строчки:
Сдавайте разное тряпьё
бумагу, рвань, чулки, старьё
Книжки издавались, иллюстрированные папиной сестрой Ирой. Так подрабатывали
Память сохранила от тех лет постоянное чувство голода, осознание нищеты. Письма с фронта от папы и Жоры приходили редко. И что‑то непонятное и страшное надвигалось немцы наступали.
Соседка кричала: «Это Гиви (ее муж) заставил меня в партию вступить!» Кричала, чтоб слышал весь двор: «И этих (она показывала на большие портреты Берии и Сталина) он меня заставил повесить!»
Немцы были уже на Эльбрусе, заняли все горные перевалы. И многие здесь, в Тбилиси, с затаенной радостью ждали их прихода.
Не будет тогда, мечтали они вслух, этих «русских хохлов»! Можно будет торговать и ремеслом заниматься. Не будет энкавэдэшников, партийцев. Вернут поместья
Опять будут князья кутить.
Кинто работать.
Ишаки возить.
А мы будем вино пить!!
Итак, мы перебрались в университетский сад. Там все было и так же, и иначе.
Университет стоял на высоком холме. Под холмом шумела, бурлила быстрая, с каменистым дном речка Вэре.
Крутые склоны холма, от Вэре вверх, заросли деревьями, кустарником образовался целый лес, настоящие джунгли, которые, добравшись до вершины холма‑горы, переходили в университетский сад с туями, дорожками, обсаженными с двух сторон стрижеными кустами какого‑то южного вечнозеленого растения, испускающими терпкий эфирный аромат.
По‑моему, в саду тогда росли и маслины, или оливы, деревья с длинными серебристо‑зелеными листьями, с плодами, которые назывались «пшаты».
Я взбирался на дерево и ел, обсасывая с косточки терпкую, вяжущую мякоть, во рту скрипело, но притуплялся голод, который терзал меня почти постоянно, хотя бабушка и мама, конечно, отдавали мне все самое лучшее.
Поселились мы в маленьком домике, половина которого висела над обрывом, поддерживаемая столбами, а другая половина стояла на земле. Здесь мы и поселились. Вдоль всего домика шла терраса, куда выходили четыре двери первая вела в комнату двух братьев‑грузин. Придя с работы, они снимали обувь и сидели на террасе, задрав натруженные ноги на перила, пошевеливая иногда пальцами.
Вторая дверь была в комнату, где жила хорошенькая молодая женщина, блондинка; ярко накрашенный рот, маникюр
Братья оказывали ей внимание, однажды зазвали к себе в гости. После этого появился большой лист фанеры, перегородивший террасу и делавший невидимыми дверь и окна братьев со стороны блондинки. Она, видимо, дала им «отлуп». Братья были ошарашены до крайности. Но потом сказали: «Очень харашо. Вонять не будет».
Дальше была наша дверь, рядом с дверью окно в нашу комнату с полукруглым отверстием для выдачи денег. В комнате был шкаф, стол, две кровати и большой несгораемый шкаф. Бывшая касса.
В комнате, висящей над обрывом, мальчик Алик с сестрой, мои сверстники, с бабушкой. Алик был не по годам развит и мучился только одной темой происхождением человека. Причем его интересовало не происхождение человека от обезьяны, а происхождение детей, как это все получается. Он первый сообщил мне, что процесс сближения мужчины и женщины очень приятен.
Я с ужасом отверг эту гипотезу. Тогда он предложил мне самому попробовать и сказал, что приведет ко мне в траншею‑щель, которых было полно в саду, свою сестру.
Я не пришел на это «свидание».
После он обозвал меня дураком и, прищелкивая языком, почмокивая, говорил, как «сладко ему было» с сестрой. Что‑то он врал, наверное, а может, и нет
А потом, когда все открылось для взрослых, свалил все на меня.
Но ему, к счастью, не поверила его бабушка. Мои мама и бабушка просто не говорили со мной об этом никогда. И у меня с плеч как гора свалилась.
Тогда мне было девять лет.
С нашей горы открывался вид на другие холмы‑горы.
Внизу, на другом берегу Вэре, был зоопарк. Мы с бабушкой часто ходили туда, перебираясь по камням через ледяной мутный поток. Невдалеке от зоопарка, тоже на холме, стоял настоящий цирк круглый, с колоннами
Дальние холмы, всегда буро‑рыжие от выгоревшей травы, становились выше, выше и прозрачнее, а вдали были уже отчетливо видны горы темно‑синие, грозные, с потеками ледников.
В ясные утра над черно‑синей цепью этих острых гор, высоко в небе, словно розовое облако, парил прозрачный Казбек
Итак, холм‑гора с университетским садом, каменисто‑глинистый спуск, заросший дикой растительностью, глубоко внизу бурная, гремящая камнями Вэре, бурые горы, прозрачный, как луна днем, Казбек, воздух, напоенный лавром и туей, запахи земли, неба
Вечером зажигалась у нас керосиновая лампа. Стекло тогда было на вес золота. Если оно трескалось все очень огорчались, заклеивали трещину узкой полоской бумаги, прикручивали фитиль, чтоб поменьше был язычок пламени.
При свете этой лампы я читал книги.
О капитане Куке, его открытиях.
«Принца и нищего».
«Тома Сойера».
«Хижину дяди Тома».
Мамина подруга дала мне почитать книгу о немецком пионере Губерте, приехавшем из нацистской Германии в СССР, в Москву, «Губерт в стране чудес». Я читал, рассматривал фотографии Москвы; читал о московских набережных, метро
И так хотелось мне обратно, в чистый и яркий снег детства, к хорошим пионерам, чистым мальчикам в пионерских галстуках и с барабанами, в сияющие лаком бежевые вагоны метро (а я ведь еще застал время, когда на станции метро «Комсомольская» продавали бутерброды с икрой), просто в нашу квартиру, к Асе, к солдатикам, кубикам
Там нет грязи, там не бьют за то, что ты светел волосами
А меня часто били. Помню, лазил я по шведской стенке, стоявшей в саду. Из университета вышли студенты. С рапирами, видно, после занятий фехтованием.
Увидели меня, подошли и стали бить по заднице моей наотмашь рапирами, приговаривая со смехом: «Русский хахол!»
Мне семь лет, а нерушимой дружбе советских народов уже лет двадцать.
Я был одинок среди горной роскоши.
Соседского Алика я инстинктивно избегал, ребята с улицы, приходившие в наш сад, тоже задирали меня
Привязалась ко мне собака‑дворняга, вот мы с ней и бродили. Когда я возвращался домой из школы, она, прежде чем броситься ко мне и лизать лицо мое, бешено носилась гигантскими кругами вокруг меня от радости!
Она даже иногда спала в нашей комнате. Мы ее чем‑то подкармливали
Потом она пропала.
Доротея
Иногда приходили к нам родственники. Иногда студенты. Поначалу, правда, были от них неприятности. Мама, страшно волнуясь, пришла на свою первую лекцию в университет. До этого она преподавала в Московском пединституте. А тут университет!!
Мамина alma mater Московский университет. Правда, ее не зачислили вначале на курс, ибо она не была дочерью рабочего или крестьянина. Ее отец, Сергей Михайлович Ильинский, потомственный почетный гражданин города Москвы, выпускник духовной семинарии, архитектор
Но посещать лекции в те годы можно было, не числясь студентом, не сдавая экзаменов и не получая диплома. И дедушка сказал маме: «Если хочешь получить университетские знания, ходи на лекции, благо это разрешено, учись, впитывай науку. Важно знать, а диплом не самое главное».
Мама так и сделала. Ходила на лекции, записывала, учила, зубрила, ну, будто она на самом деле настоящая студентка МГУ. Никто не спрашивал у нее отчета о занятиях, никто не интересовался ее успехами в учебе.
Мама же вела напряженную жизнь студента, во время сессии сдавала сама себе экзамены.
Позднее, где‑то на третьем или четвертом курсе, ее зачислили, видя ее и желание и упорство
И вот теперь она сама лектор университета.
Итак, она пришла на первую лекцию. В аудитории сидели три или четыре студента. После получасового ожидания пошла в комнату педагогов. Там расплакалась, как ребенок. Коллеги стали ее утешать: снег выпал, холодно, какой студент, уважающий себя, придет в такую погоду Мама сочла эти доводы неубедительными: как, студент университета и не пришел на первую лекцию нового лектора! Нет, здесь явный бойкот: грузинские студенты не хотят слушать русского педагога!
И дома бабушке говорила об этом и жаловалась
А потом выяснилось, что не пришли студенты действительно из‑за непогоды. Когда выглянуло солнышко, снег растаял и прогулка в университет стала приятна, собралась полная аудитория.
Студенты часто приходили к нам, со многими из них мама подружилась, ходила к ним в гости
Как назвать место, где мы жили? Гора? Сад? Необозримые горные дали?
Назову просто пространство.
Оно вмещало все: и стройное здание университета, сад с красивыми деревьями и аллеями, переходящий в лес, спускающийся, падающий в каменистое ущелье с грохочущей между камнями Вэре; позади университетского здания какие‑то маленькие постройки, наш домик над обрывом, одинокие сливовые деревья. Было и абрикосовое дерево.
Если вокруг меня все было четко, то чем дальше, тем размытее, светлее становились контуры всех предметов, постепенно растворяясь в необозримой дали, голубея сквозь толщу воздуха
Одним словом,
Пространство.
И вот в этом Пространстве однажды возникла нелепая женская фигура.
Очень высокая. Волосы гладко прилизанная пакля. Огромный толстый красный нос. Громадный круглый живот, оставшийся таким после родов. Широко расставленные ноги с гигантскими ступнями в разбитых туфлях‑ботинках без каблуков Большие красные глаза. В руках завернутый в одеяльце крохотный ребенок.
Когда в первый раз возникла эта гигантская, слоноподобная фигура, разнеслась по Пространству весть о том, что она немка. Имя Доротея.
Что‑то из «Фрица и Мориса», книжки о «шалюнишках».
Поселили Доротею в неоштукатуренную сырую комнату.
Оказалось, беженка!.. Но от кого? От своих же, немцев?!
Сидела она на проеденном крысами полу, ребеночка поместив на каких‑то ящиках, и плакала. С кончика большого носа свисала крупная мутная капля. Плакала беззвучно, только слезы катились из красных глаз.
Мама, хорошо знавшая немецкий язык, как могла, поддержала ее, достала откуда‑то койку, коляску, дала какие‑то свои платья, чулки
Было Доротее тогда лет, видимо, двадцать пять
Они с матерью и мужем Густавом, пламенным коммунистом, с приходом фашистов переехали в Черновцы, тогда это была территория Румынии. Когда началась война, им опять пришлось сняться с места, и в ночь, взяв с собой вещи, они отправились в СССР. Пешком.
Старуха‑мать не могла носить тяжести. Беременная Доротея тоже. Густав шел вперед с частью вещей. Пройдя километр, он все складывал, возвращался к женщинам, брал оставшиеся вещи, уходил они брели за ним. И так километр за километром, под жгучим июльским солнцем 1941 года. Вперед‑назад, вперед‑назад Старухе‑матери стало плохо, да и у Густава уже не было сил. Немецкое наступление опередило их. Они пытались отсидеться в каком‑то селе
Но фашисты обнаружили Густава, измученного, с распухшими ногами Расстреляли его тут же, на глазах у женщин. Мать умерла через несколько дней
Что делать?! Куда идти? Доротея знала одно. Если идти, то на восток, в Союз. Там коммунисты, там помогут. Там знают ее мужа.
Представьте себе состояние молодой женщины, покинувшей родину, приехавшей в чужую страну, опять снявшейся с места, беременной, с матерью и мужем уползающей от фашистов!
Представьте состояние человека, в один день лишившегося самых близких, в степи, с мешками, среди чужих, говорящих на непонятном языке людей
Произошла эта трагедия где‑то в районе Кишинева.
И начался долгий и трудный путь Доротеи в Россию. Она шла долго. В пыли, под палящим солнцем, по грязи, по бездорожью брела, еле передвигая разбитыми в кровь ногами, поддерживая живот, прося крова и милостыни
Разные люди встречались ей. И хорошие, и плохие. Хорошие помогали, чем могли, плохие обижали ее Один даже грубо приставал к ней, несмотря на живот ее и раздавшуюся, деформировавшуюся фигуру.
По‑русски она не знала ни слова
Как попала именно в Грузию не знаю. Знаю только, что однажды она появилась среди наших холмов и грохота Вэре, под ревы и стоны зверей из зоопарка на другом берегу.
Появилась уже с грудным младенцем, мальчиком.
Она сидела в сырой комнате со старыми кирпичными стенами, на щелястом полу, мутные слезы текли из ее красных глаз. Ребенок, закутанный в тряпье, попискивал на ящиках.
Но жизнь продолжалась. Постепенно появился у Доротеи скарб керосинка, кастрюлька, коляска детская, что‑то еще Обитатели Пространства помогали, как могли.
Потом устроилась куда‑то работать, получила карточки: мама была активна.
Ребенок болел, все время плакал. Его она назвала вражеским именем Фриц.
Тогда имя Фриц было синонимом всего отвратительного, мерзкого, фашистского: «Фрицы наступают!», «Разбили фрицев под Сталинградом!», «Убей фрица!» Немцев стали называть фрицами после разгрома под Москвой, поверив в возможность победы, поэтому появилась эта пренебрежительно‑насмешливая кличка. А до этого «немцы», «убийцы», «фашисты», «эсэсовцы»
Так вот, мальчика звали Фриц. Меня иногда заставляли сидеть рядом с его коляской, пока не вернется Доротея.
Ничего доброго я не испытывал к этому пищащему, красному, сочащемуся гноем комочку. Комочек все время плакал, шевелил ручками, чего‑то просил. Он был болен. Иногда мне хотелось причинить ему еще большую боль так надоел он!
Потом приходила Доротея в маминых, разрезанных сзади туфлях, шмыгала носом, начинала что‑то ласково говорить по‑немецки, наклоняясь над коляской.
Я удирал быстренько в свое голубое Пространство, к грохочущей Вэре, пшатам, к собаке
Так они и жили. В кирпичной будке. Два немца. Доротея постепенно стала привыкать к нашей жизни, что‑то обсуждать. Возмущалась, что «Интернационал» теперь не будет гимном, что придуман новый гимн СССР: «Теперь начнется перерождение » Стала кое‑что по‑русски говорить Мама ходила к ней, разговаривали по‑немецки Что‑то доставала для совсем больного Фрица.
А потом Фриц умер.
Мама упросила кого‑то сколотить маленький гробик и крест. На кресте мама черной краской вывела готическим шрифтом «Фриц» и фамилию. Что‑то говорили, что, дескать, нельзя крест, да еще с немецким именем. Мама гневно и категорически заявила, что нужно быть человечными.
Его хоронили на Верийском кладбище. Вечером, когда не было начальства. В процессии шло несколько человек и, конечно, мама. Я нес крест, белый, с немецким именем Фриц.
Это мама заставила меня нести этот крест. Я отчаянно сопротивлялся крест?!! Да еще с фашистской надписью «Fritz»?!! Ни за что!
Потом поймешь, сказала мама. И сломила мое сопротивление.
Я нес крест, а позади шла Доротея с красными глазами, и на крупном носу ее висела мутная капля.
* * *
Верийское кладбище еще выше, чем то место, где мы жили, на пустынной каменистой дороге, над диким обрывом
Там и дедушку хоронили на закате в гробу, обитом красным; впереди очень большой процессии несли красные знамена, играл оркестр
Дедушкин отец Койхосро был младшим сыном в многодетной семье Басилашвили. При разделе имущества ему досталась только старая лошадь, но ни клочка земли.
Это были, видимо, 18601870‑е годы Семейная легенда утверждает, что ехал как‑то мой прадед Койхосро в рваном архалуке на своем одре где‑то в долине реки Лиахвы, близ Цхинвал. Одр еле передвигал ноги, ребра у него торчали, вот‑вот упадет
Навстречу ехал грузинский царь Ираклий со свитой. Кто‑то со смехом указал царю на моего прадеда. Его спросили, кто он, почему сидит на этой еле ползущей, вот‑вот грозящей упасть кляче.
Койхосро ответил, что одр единственное его имущество и что земли у него совсем нет. Говорил он это, думаю, стоя рядом с одром, правой рукой держа его под уздцы, левую почтительно приложив к груди. Рядом, сверкая на солнце, ревела Лиахва, ворочала камни
Царь, смеясь, предложил Койхосро оседлать коня и начать, если тот сможет, движение.
Вся земля, которую твой скакун обскачет до того, как упадет, твоею будет, сказал Ираклий и царственно протянул руку, указывая перстами вокруг.
Сияли снежные вершины, высоко в небе висел прозрачный Казбек, ревела река.
Койхосро сел на одра и тихонько поехал. Одр шел час, другой, третий Лишь на закате он остановился, пощипывая колючки За это время он обошел большую территорию, и вся эта земля по приказу Ираклия теперь принадлежала Койхосро. И стал он богатым.
Потом, уже где‑то в девятнадцатом году XX века, его сын Ношреван, кости которого покоятся в безвестности где‑то на Верийском кладбище, отказался от этой земли, отдал ее крестьянам.
Я был там недавно. Меня встречала вся деревня. Участок Ношревана остатки дома и небольшой сад до сих пор ничей
Все ждет наследников
Голод
Из ущелья, где грохотала речка, медленно, в поту, поднималась бабуля. С большой хозяйственной сумкой. Задыхалась. И плакала.
Я играл на обрыве.
Она плакала, потому что впервые в жизни украла.
В столовой, к которой была прикреплена мама как преподаватель университета. Мы все обедали там по очереди. Бабушке в тот день дали в столовой селедку. Когда официантка отошла, бабушка, дрожа и краснея, сунула тарелочку с селедкой в сумку. Официантка подошла второй раз, спросила, подала ли она селедку. «Нет», ответила бабушка. Официантка принесла еще одну И вот бабушка плакала. Мы с мамой ели эту селедку.
Тарелочка до сих пор у нас
Есть хотелось все время. Спасали пшаты. В столовой однажды дали суп: в прозрачной воде плавали две черных макаронины. Я быстро проглотил. Напротив сидел военный. Он спросил, не хочу ли я еще. Я, не задумываясь, сказал, что хочу. Он дал мне свой суп. Я и его проглотил, хлюпнув два раза. Военный все смотрел на меня. Я быстренько ушел.
Как‑то я нашел на пыльной дороге о чудо! шоколадную конфетку. Она была вся в пыли, почти белая. На вытянутой ладони я принес эту конфету в нашу комнату‑кассу, бабушке. Она до войны очень любила сладкое.
Бабушка заплакала.
Мы бритвой срезали грязь с конфеты и пили чай, прихлебывая, словно купцы, с блюдечка. А конфета была поделена на три равные дольки мне, бабушке, маме.
Потом у меня обнаружили голодный туберкулез.
Мама устроила меня в пионерлагерь, который располагался в нашем парке. Там кормили. После обеда нас заставляли в спортзале стоять на коленях. Кто шевелился, того подручный пионервожатой, жестокой красивой девицы, парень с удлиненной головой, явный дегенерат, бил по голове палкой. Очень было больно. Мы его звали «Яйцо».
Мы все терпели ради еды.
Мама вошла в контрольную комиссию, которая обнаружила, что повар пионерлагеря половину продуктов забирает себе и начальству. Составили акт. В результате меня выгнали из лагеря. И еще трех ребят, родители которых тоже проявили излишнюю честность.
В отместку мы «сколотили банду» и стали травить наш бывший отряд и, главное, пионервожатую.
Мы знали каждое дерево, каждую траншею в парке. Мы издевались над пионервожатой каждый день, каждый час. Вместе били Яйцо. Не давали житья.
Нас приняли обратно в лагерь. Яйцо нас уже не трогал.
Помидоры! Мы посадили помидоры у нашей террасы.
Маму осенила идея. В Грузии земля благодатная: воткни барабанную палочку вырастет барабан! Мы посадили помидоры, и вскоре они громадные, серебристые радовали наши глаза.
Мы «вносили удобрения»: по утрам несли туда мой горшок.
Среди местных ребят было обычным делом бить тех, кто помладше и послабее. Причем побитый обязан был стать слугой, рабом, исполнять любое приказание. В противном случае он снова подвергался жестоким истязаниям. Опасность стать рабом, крепостным, лакеем подстерегала и меня: в нашем пионерлагере тоже были взрослые ребята. А я был маленький и слабый.
Был еще обычай: ты мог нанять себе «друга», «аманта» защитника. Он будет бить твоих обидчиков, а ты отдавать ему обед, ужин
И вот однажды ко мне подошел длинный, худой, прыщавый верзила в брюках (а я еще ходил в коротких штанишках на бретельках) и предложил мне быть моим «амантом» за помидоры. И я, ранее стеснявшийся попросить кого‑нибудь о защите, с радостью согласился.
Он приходил и исправно жрал выращенные нами помидоры. Бабушка, краснея, отворачивалась.
Меня перестали бить.
Чувство легкой свободы охватило меня
А потом по какому‑то поводу, ослепленный жалостью к маме, я отхлестал ремнем по глазам двух или трех взрослых ребят, и те убежали.
Чуть не убил камнем, разбив до крови голову, одного обидчика.
Снова сколотил «банду», которая объявила террор и избила Яйцо.
У мамы был студент‑боксер, с которым она меня познакомила. Я брал у него уроки.
И вот когда я увидел спины моих убегающих врагов, их кровь, увидел, что могу постоять за себя, я сказал моему «аманту», чтобы тот больше не приходил жрать наши помидоры.
Он был взбешен, грозился меня убить.
Однажды я опять застал его за пожиранием помидоров на нашей грядке. Он сопел, чавкал, закатывал карие глаза. Я пошел на него с камнем. Алая волна мести за все ослепила меня, отупила мозг.
В тот день в аромате вечнозеленого мирта и лавра, в проперченной пыли, в лучах изнуряющего солнца передо мной вдруг возникли чистые и ясные образы утопающей в мягком снегу Покровки, мягкие звонки трамваев, натертый паркет нашей доброй квартиры, голубые стрекозы над серебряной Серебрянкой в зеленом Пушкине, папа в остро пахнущей каракулевой шапке со звездочкой, спицы моего нового велосипеда ясным первомайским утром с флагами, Асин кот Барсик, мягкий гул метро
Я шел на врага с камнем, сквозь слезы ненависти видел неверные очертания его долговязой фигуры.
Я был готов на все.
«Амант» отступил, а потом повернулся и побежал, боязливо и с удивлением оглядываясь.
* * *
Однажды разнеслась весть, что в долине под нами горе. Мать получила похоронку на сына.
Все жители Пространства потянулись к убитой горем женщине
Столы стояли и в комнате, и во дворе.
На кровати сына лежала его одежда
Все были в черном. Принесли каждый, кто что мог.
Поминки длились несколько дней. Пили вино. Пели песни.
Затем пошли обычные дни. И вдруг опять песни, вино, столы в комнате и на улице.
Что такое?
Сын вернулся живым и невредимым! Праздник, даже с каким‑то оркестром, продолжался несколько дней.
Потом он ушел опять на фронт. Опять столы, песни, вино, все в черном
Прошел год и убили его на фронте. Уже по‑настоящему.
И опять на кровати лежала его одежда.
* * *
Такое было у меня детство.
Война.
Мы жили на родине папы. В Грузии, где прозрачный Казбек в лазури, грохот рек, пряность горячего воздуха А там, за синими, грозными цепями гор, в неимоверной дали, в морозах, в рождественском снегу, в блеске первомайского утра солнце светит ярким светом, в грохоте трамваев и в мягком гуле метро, в веселой автомобильной музыке, укутанная мягкими снегами, в красных кремлевских звездах ждала, не могла дождаться нас! наша родная, любимая Москва, наша Покровка, наш дом с аптекой и ее запахами, наша коммунальная квартира с парадным, ванной, громадной плитой на кухне, с Асей, с корытами, икрой, салфетками, самокатом
И что бы мы ни делали:
лихорадочно ли искали папину фотографию, которая куда‑то подевалась, и мама видела в этом дурное предзнаменование,
сидели ли ночью при коптящей керосиновой лампе и что‑то делали с «художественно расписанными» платками, счищая с них воск, за что получали по три копейки за платок а их была каждый раз целая кипа,
поливали ли наши помидоры,
работали ли на табачной фабрике, все было пронизано этим чувством тоски по прекрасной нашей довоенной и военной Москве, чувством ожидания встречи с ней, ненависти к тупой и бессмысленной силе, разлучившей нас
Москва гордая, пустая, непокоренная теплела за горами, фронтами, где шли бои, лилась кровь, где‑то там были папа, Жора.
Сентябрь еще тепло, почти жарко.
Мы с мамой идем по крутой зеленой улочке, и мама говорит:
Запомни: здесь сентябрь, а как тепло!
Я запомнил.
И тепло, и сентябрь, и уютную улочку с манящими террасами домов, и маму добрую, так любящую меня, отдающую все, чтоб детство мое было теплым, веселым.
Спасибо им горам, быстрой Куре, университетскому саду, грохочущей Вэре, голоду, постоянно терзавшему меня, долгим вечерам у керосиновой лампы, с бабушкой и мамой, вою собак в оврагах, ответному вою из зоопарка, запаху масляных красок, которыми инстинктивно пытался я закрепить ослеплявшие меня картины почти вертикального фуникулера с такими смешными трамвайчиками;
глубокой синеве неба с таявшими вдали цепями гор, синеве, в которой изредка вдруг да распускались такие мирные, словно кусочки дефицитной ваты, комочки зенитных разрывов;
радостно возбужденному голосу мамы ранним розовым утром: «Посмотри скорей, Казбек как на ладони, весь розовый, словно висит в небе!»;
густой зелени, почти черной, кипарисов и туй, вязкости пшат и водянистости туты;
черному и страшному, угрожающему ночному небу с миллиардами звезд, пристально глядящих прямо в глаза, знающих какую‑то тайну о тебе;
родственникам Боке, Жеке, Ире, дедушке, Инночке;
книгам.
Спасибо этому пестрому, страшному, радостному и необычному миру, имя которому военное детство!
* * *
Новый год Хочется елку, а елки нет и неоткуда ей взяться. Только там, в заснеженной России, громадные хвойные леса, утопающие в мягком снегу. А здесь сухо, тепло, вечнозеленые ароматы.
Пошел в сад университета, сломал две ветки, резко пахнущие то ли йодом, то ли эфиром кожистые, гладкие
Бабушка поставила ветки в воду. Я ушел гулять, чуть не плача. Грустно.
Вернулся не верю глазам: громадная, до потолка сосенка, пушистая Висят новенькие игрушки: бумажные, серебристые и золотистые рыбки, птички, бабочки.
Это моя мамуля притащила откуда‑то. Нашу комнату‑кассу наполняет хвойный аромат, иголки длинные, красивые колются!..
Свечки церковные, вся сосенка в свечечках!!
И опять почему‑то стало жалко маму до слез. Но виду не подал
А потом радостно‑тревожная весть о возвращении в Москву.
Приходили прощаться знакомые, мамины студенты. Помню Кеану. До сих пор ее подарок французско‑русский словарь хранится у меня
Всю обратную дорогу, проводы, поезд, вагон, попутчиков заслонила собою надвигающаяся встреча с Москвой, о которой говорили, мечтали
И вот мы вернулись.
Мороз. Все утопает в снегу. Ахнула за дверью Ася. В квартире лютый холод. Над нашей квартирой на последнем этаже крыша, иссеченная осколками, протекала, и теперь потолок блестит кристалликами льда. Я ринулся к «своему» отделению славянского шкафа: там солдатики, кубики, родные мои
Сидим в столовой. Из новостей: пропал Костя, Асин муж. Марья Исааковна дает мне боже! кусок белого хлеба и мажет его топленым маслом. Я не могу почему‑то есть это масло, давлюсь, но ем, добираюсь до коричневой, даже красноватой корочки этого долгожданного хлеба
Ася докладывает: книги целы, хотя кое‑что подмокло Спит она на плите, в кухне, вместе с Барсиком.
Барсик урчит и пахнет грибами.
Дождались Приехали
Пока мы втроем бабушка, мама, я
Я заснул
Москва
Москва оказалась холодной, утонувшей в снегу и тоже голодной. Бело‑черной.
Поставили буржуйки, даже сложили за бутылку водки печку. И началась наша московская жизнь.
Счищали снег с крыши, кололи дрова в дровяном сарае, который бывший хозяин дома купец Оловянишников устроил в подвальном этаже, пахло сырой землей, аптекой, сыростью
Москва, суровая, открывала постепенно мне свои объятья
За окном Асиной комнаты, в небе над «военным домом», к вечеру появлялись аэростаты заграждения. Словно черные рыбы или какие‑то торпеды, они безмолвно висели в воздухе, в алом вечернем небе.
Окна закрывали плотные шторы из черной бумаги, которые хитро так, если их дернуть за веревку, скатывались вверх в рулон. Радио черная тарелка репродуктора имелось только у Марии Исааковны Хургес, ее большей частью дня не было дома. Да и никого из взрослых не было, и я испытывал все ужасы одиночества, вплоть до слуховых галлюцинаций вот шаги, вот сейчас войдет ОН ужас, кошмар.
Школа. Та самая, где учился Жора. Маленький чемоданчик, куда он складывал свои школьные принадлежности, теперь мой. Я хожу с ним во второй класс московской 324‑й школы имени ЦО МВС «Красная звезда».
Вот это «ЦО МВС» вселяло в мою душу гордость и трепет, и я, не зная значения этой загадочной аббревиатуры, гордо выпячивал грудь, топыря мужественно срочно сшитую для меня бабушкой черную толстовку. Школа мужская, да еще имени ЦО, поэтому мы ходим в черных гимнастерках, бритые наголо.
Школа рядом. С трудом я заставлял себя встать, вернее, это бабушка каждое утро будила меня, стаскивала одеяло:
Лель, а Лель, пора!
Угу.
Пора, вставай скорей, Лель!
Угу.
Вставай немедленно!!
Угу.
Вставай, мерзавец!
Я сползал с кровати, натягивал толстовку и штаны и без шубы, с грохотом слетев по парадной лестнице, пересекал ледяную Покровку, влетал в Колпачный переулок вот и школа
А после школы опять один дома, никого нет, бабушка в распределителях, в очередях, Ася, мама и Мария Исааковна на работе. Костя пропал без вести, папа и Жора на фронте
Я один. Крыши бывшей церкви в снегу. Это если посмотреть из бабушкиной комнаты, где мы с ней жили.
В Асином окне аэростаты; в комнате Барсик, масса пасхальных разноцветных яичек.
Буржуйка, БСЭ в маминой холоднющей комнате.
У нас с бабушкой на стене висит карта. Я втыкаю туда флажки в кружочки городов, которые перечисляются в военных сводках.
Дедушкин стол. В нем много интересного: инструменты, источающие леденящий запах стали. Молотки, отвертки, плоскогубцы, медные треугольнички, винты, старый телефон; в других ящиках тюбики с засохшей краской, кисти самые разнообразные тоненькие, словно иголочки, и толстые, как большой палец. Акварель, гуашь, рулоны чертежей, штангенциркуль, транспортиры
Все это хозяйство моего московского дедушки. И теперь пришла пора рассказать о нем.
Дедушка
У меня на стене висит фотография. На ней в окружении молодых людей и барышень в старинных длинных платьях длиннобородый священник в рясе, с крестом, красивый, веселый. Рядом с ним женщина с властным, волевым выражением лица.
Это мои прадед и прабабушка.
Дедушка с бабушкой по правую руку от них. Дед опирается на ширму, в сюртуке, с крахмальным стоячим воротничком; бабушка в темном платье сидит рядом. Оба молодые, даже, можно сказать, юные люди. Идет, наверное, 19061910‑й год.
Прадед мой, Михаил, был священником.
У прадеда и прабабушки было много детей на фото десять человек, кто‑то из них, как и дедушка, привел подругу жизни. Даже если их разделить на пары выходит, что всего детей было пятеро. Но их было больше. Кажется, человек семь или девять.
Девочки учились в епархиальном училище, мальчики в духовной семинарии или в школе при церкви.
Дедушка мой, Сергей Михайлович, был определен родителем «для учебы на священника», что дед покорно и делал учился в духовной семинарии.
Тут, наверное, стоит окунуть читателя в атмосферу Москвы того времени: патриархальной, тихой, с перезвоном колоколов, с сиянием куполов, выглядывающих из темной зелени деревьев.
Моя мама, Ирина Сергеевна, рассказывала мне, что во времена ее детства, еще до революции, вывозили ее куда‑то в Замоскворечье, к родственникам, чтобы не тратиться на выезд на дачу. Раньше ведь ездили прочно: на возах везли пианино, мебель, посуду и прочий скарб, и это, конечно, стоило дорого. И вот решили в этот раз поехать к родственникам в Замоскворечье, благо природа и воздух там в те времена были такие же, как и в деревне
И вот, представьте, громадный темный сад. Дубы в два обхвата. Ели, березы Сад пересекает овраг, из которого тянет прохладой и где так приятно сидеть у звенящего ручейка в полуденную жару, смотреть вверх, на проблески синего неба, наблюдать, как раскачиваются верхушки деревьев
В громадном саду царит тишина. Изредка из‑за забора с улицы донесется погромыхивание телеги по булыжнику, наплывет звон колоколов от Донского или Даниловского монастыря
За большим высоким дощатым забором другой сад. Сквозь деревья видится дом с колоннами.
Сад громадный и таинственный. Хозяин его какой‑то купец, обладал, говорили, диким нравом. Поэтому маме было строжайше запрещено даже подходить к забору, не то чтобы смотреть в его щели или перелезать через него.
Но, как любая тайна, темный, таинственный сад манил, словно магнит. И вот однажды
Был ясный, теплый весенний день. Начало мая. Сад, прозрачный совсем недавно, затуманился зеленой дымкой. Земля, деревья, яркая травка, небо излучали тепло и покойную радость
Мама прильнула к щели в заборе.
Между вековыми деревьями она увидела натянутые веревки, на которых висело множество каких‑то белых бумажек. Продолговатые, защепленные бельевыми прищепками, они, словно карнавальные флажки, мелькали по всему саду.
Мама вгляделась пристальнее. Это были сторублевые ассигнации. Сотни бумажек трепетали на веревках. Посреди сада стоял большой открытый окованный железом сундук. Грузный бородатый купец вынимал из него сторублевые ассигнации и развешивал на веревочках. Сушил.
Всю зиму ассигнации пролежали в сундуке, в темном подвале, отсырели, и вот в первый теплый весенний день купец развесил их по саду, чтоб высушить, словно волглое белье.
Сияло солнце, улыбалась первая зелень, плыли по теплому воздуху дальние удары колокола, шелестели на весеннем ветру тысячи «катенек».
Купец сидел посреди сада в кресле, в цилиндре. Между коленями зажато было ружье.
Мама на цыпочках отошла от забора
Или вот: Сокольники.
В те времена глухая московская окраина.
Дремучий лес, прорезанный аллеями, лучами расходящимися от центрального входа.
Кстати, недалеко от этого входа была церковь, построенная либо при участии дедушки, либо им самим. Факт непроверенный. Все чертежи дедушкины я варварски уничтожил, занимаясь в детстве рисованием. Разрезал их и на обратной стороне образовавшихся листков рисовал свое
Так вот Сокольники. Не было здесь ни аттракционов, ни павильонов. Перед входом, возможно, было что‑то подобное, но дальше по лучевым просекам все тише и глуше, и вот уже настоящий лес: и кукушка кукует, и листва шумит
Кое‑где дачные домики. У Левитана есть картина «Осень. Сокольники» женщина, что идет по аллее, вернее, по просеку, тоже, думаю, дачница, пошла прогуляться, грустно что‑то ей стало
Сеет мелкий дождик, просек (именно «просек», а не «просека») устлан желтой листвой.
На эти дачи выезжали на ломовиках. Дребезжала посуда на ухабах булыжной мостовой, пыль оседала на мебель, полировку пианино
Это уже была не Москва, Сокольники. Почти деревня.
Наш родственник, Андрей Николаевич, «синяя борода», остроумец и выпивоха, гитарист и гуляка, под старость, когда все вышеперечисленные качества отпали сами собой, превратился в больного немощного старика Эхо былых чувств еще звучало в его большом сердце, но сил для раздувания «пожара душевного» уже не было
Повезли его как‑то на дачу. Это, напоминаю, было целое событие. Медленно, вперевалку тянутся телеги со скарбом, лают дворняжки, остановки следуют одна за другой самовар надо «задуть» (то есть затопить его, вскипятить в нем воду), попить чайку, да и отдохнуть потом Жарко, середина мая
Лошади стоят, дрожат кожей, хвостами отгоняют мух, под их мордами мешки с овсом: надо ведь и лошадям передохнуть
Но вот жара спадает, и обоз опять трогается.
Наконец вещи перевезены, расставлены, дни идут, новизна места уже не развлекает, лесные красоты перестают радовать
Наваливается скука. Скучища и тоска. Рядом нет никаких соседей, никто не идет с визитом.
Елисеевский магазин у черта на куличках, а то можно бы и развлечься сгонять на Тверскую на извозчике, да и привезти водочки какой‑нибудь «карамбабулевой», балычка, икорки всякой, стерлядочки или рябчика вот было бы и развлеченьице, вот и праздничек.
И краски на стволах сосен, эти солнечные блики, которые уж и в зубах навязли, иначе бы, поярче бы заиграли, когда на терраске, за «смирновской» или «нежинской», да калачик с икоркою
Да нет, нет денег особо лишних ни на извозчика, ни на разгул у Елисеева
Все деньги у прислуги. Эта каналья в крахмальном фартучке и в твердой наколочке не то что денег не даст юбкой лишний раз махнуть не хочет, улыбнуться как‑нибудь этак загадочно, взбодрить кровь старую, проперченную
И сидит наш Андрей Николаевич у себя в комнате, у окна, уставившись тупо на сосны, голову ладонью подпер, а в ней не мысли уже, один мусор какой‑то. Лето бесконечно, тягуче цедится, и нет ему ни дна ни покрышки
В такой позе: облокотясь локтем на подоконник, подперев ладонью щеку, уперев глаза вдаль, и застала его моя бабушка. Ей тогда лет четырнадцать‑пятнадцать было. «С визитом» приехала
Тишина Загудит муха и бумкнется о стекло Тихо и опять ззу‑у ззу‑у
Здравствуйте, Андрей Николаевич!
Тот, не меняя позы, только глаза повернул:
A‑а здравствуй, Оля
Как поживаете, Андрей Николаевич?
Плохо, очень плохо, Оленька
А что такое?
Скучно, Оленька Ни пожарчика, ни скандальчика
И опять взгляд вдаль И ничего не слышит Даже отдаленного гудка паровоза и дальнего шума поезда с Ярославской железной дороги, которая тут верстах в трех‑четырех
И опять кукушка Опять тоска
Да, в ту пору Москва была большой деревней, деревней с булыжником, тысячами вывесок, грохотом телег, с прекрасными особняками, ветхими домишками, с уютным, устоявшимся бытом
Однако вернемся к московскому дедушке. Он окончил курс в семинарии. Дальше, как обычно, прямой путь в приход, священником, в какую‑нибудь отдаленную деревню, село, городишко.
Он и был туда направлен, как теперь говорят, по распределению.
Тут у меня мелькают в памяти какие‑то названия: Мягково, Жилино, Томилино Может быть, это названия тех мест, куда должен был он ехать. Но священник должен быть женат.
На ком женились будущие священники? Если успевали заводили знакомства с барышнями из епархиальных училищ. С барышнями‑«епархиалками».
Или «по случаю». Случаев было очень мало, и будущие батюшки женились на дочке священника того прихода, куда были направлены. На поповнах. Старичок‑священник шел на пенсию, его место занимал молодой, женившись на его дочке.
Так и мой дед. Приехал он то ли в Мягково, то ли в Быково, то ли еще куда, там попик на пенсию уходил, дочка у него очень даже удобно
Поглядел на нее дедушка мой, Сергей Михайлович Ильинский, тошно ему стало. Ни рожи, ни кожи. На лице вдобавок написано: «Дур‑ра я набитая».
А надо сказать, что знакомство с епархиалочкой не обошло и дедушку. С некой Ольгой Николаевной Тольской. Тоже из духовной среды.
Рано лишившаяся матери, Ольга Николаевна воспитываема была мачехой, потом, вместе с сестрой Надеждой Николаевной, отдана была в епархиальное училище
Об этом периоде она много рассказывала
Так вот была уже зазнобушка у Сергея Михайловича. И при взгляде на уродливую поповну показалась ему эта зазнобушка краше солнца весеннего.
И сбежал дед из Быкова, Мягкова, Жилина или Томилина
А ведь он еще очень рисовать любил, мечтал о карьере художника. И тут судьба сама подсказывает: выбирай, мол, то, что по сердцу, а не по карману!
Сел в бричку дедушка, тогда еще молоденький, с бородкой и усиками,
и в обратный путь, по мягкой пыльной дороге, мимо деревенек, утопающих в зелени, там‑сям на зеленых пригорках белые колоколенки,
потом по булыжнику, мимо домиков и монастырских окраинных стен,
потом по городским улицам мимо огромных зданий в три, а то и в четыре этажа, с зеркальными витринами магазинов, золотом вывесок, пылью,
мимо извозчиков, конок, громыхающих по рельсам и цокающих по булыжнику
обратно, в Замоскворечье, на Пятницкую, к священнику отцу Михаилу.
Благослови, родитель, на мирскую жизнь. Не по сердцу мне духовный сан. Хотел бы рисовать, строить дома, соборы. Хочу этому учиться
И родитель благословил дедушку.
Но сказал: благословить‑то благословляет, но денег на новое обучение не даст, то есть поить‑кормить во время учебы не будет, ибо одно образование дал, а теперь сам старайся, а «мне еще дочерей замуж повыдавать надо».
Получил дедушка родительское благословение и поступил в знаменитое Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в котором в разные годы учились Левитан, Серов, Рерих, Саврасов Ларионов Машков Бурлюк, Маяковский
Дед мой был типичный представитель русского разночинства, на многое не претендующий; честность и трудолюбие главные его козыри. Думаю, как художнику ему чужды были художники вроде Маяковского или Ларионова. Его кумиры Левитан, Крамской, Репин
Пришлось ему трудно. Женился, еще будучи студентом. Родился сын Миша. В то время, когда ученики бунтовали, дрались, организовывали «Бубновый валет», уходили из училища, что‑то доказывая, дедушка ночами калькировал, по утрам и в свободное время пел в церковном хоре, зарабатывал, чтобы обуть, одеть, накормить жену Ольгу Николаевну Тольскую (в замужестве Ильинскую), сына, а потом и младшенькую Ирину, будущую мою маму.
Бабушка вела хозяйство, воспитывала детей. Дедушка учился и работал, недосыпая, не жалея себя, пытаясь обеспечить семье сносное существование. Вместе с приятелем даже умудрился создать подобие «акционерного общества», снять в аренду маленький домик на Ильинке, прямо напротив бывшего ЦК, и сдавать комнаты жильцам это тоже давало какие‑то деньги.
Окончил училище с Малой Серебряной медалью. Но такой результат его не устраивал, и дедушка остался в училище еще на один год. Вместе с дипломом архитектора он получил Большую Серебряную медаль. И стал строить, реставрировать.
На карте, принадлежавшей ему, вся Московская губерния. Куда ни глянь красный крестик: церковь, либо выстроенная, либо реставрированная дедом.
Строил и жилые дома: в Армянском переулке, на Лубянке. Но в основном церковные постройки.
Видимо, уважали и любили его, раз удостоили звания «Потомственный почетный гражданин Москвы». Видимо, много он сделал для Москвы.
Но после революции это звание сослужило ему дурную службу: дочь не брали в университет, а в автобиографии, писанной им для поступления на работу, основной упор он делал на заводские постройки, тщательно маскируя свою церковную, а значит контрреволюционную деятельность.
Но пока, до 1917 года, много работал, было счастье семейное. Вскоре, правда, скоропостижно умер Миша старший ребенок в семье. Горе было страшное. Бабушка чуть было с ума не сошла. Чтобы не напоминало все об этой трагедии ежедневно, семья перебралась с Солянки на Покровку, в дом №11, квартиру №15.
В ту квартиру, где сейчас в комнате, которой на птичьих правах я владел и где стояло все то, что мог сохранить из семейной обстановки: буфет, старинные тяжелые стулья, дедушкин письменный стол. В этой квартире, уплотненной уже Асей, Агашей, Костей, Барсиком и Марией Исааковной Хургес, я родился.
Но по тем, дореволюционным временам квартира была, как теперь говорят, непритязательной. Всего пять комнат.
Столовая.
Спальня.
Детская.
Комната для прислуги.
Кабинет.
Ванная с колонкой. Хозяин дома, купец Оловянишников, обязывался в договоре по найму ежедневно доставлять дрова для ванны и кухонной плиты.
Мама рассказывала, что в эту квартиру приходили к деду подрядчики, мастера Составлялись договоры. Заключались соглашения.
Подолгу горел ночной свет над дедушкиными чертежными досками. У него были золотые руки. Он любил и ценил вещь. Уважал ее. Многое делал своими руками.
Бабушка вела хозяйство. Дедушка работал с утра до ночи. Мама училась в гимназии с углубленным изучением немецкого языка.
Так и шла жизнь.
Потом грянула революция
Деда забирали в ЧК: выколачивали золото; возвращался во вшах
Уплотнили но с людьми новыми мои предки сдружились и жили хорошо
Дедушку тянуло к живописи. Он стал опять посещать училище. У меня сохранилась фотография, где он, немолодой уже человек, в учебной студии рисует гипсовые модели. Постепенно его акварели и холсты из ученических приобрели характер работ мастера: он много трудился, копировал в Третьяковке Это в голод и холод.
Да, великий труженик он был. И, видимо, бессребреник особого богатства не нажил, дочь только воспитал в уважении к труду, верности избранному пути.
В тридцатые годы делал обмеры храмов московских, подлежащих уничтожению.
Это на его глазах, глазах церковного архитектора, храм Христа Спасителя был обращен в безобразную груду битого кирпича; взорвали церковь в Потаповском переулке, красотой своей покорившую Наполеона; обдирали купола, сбивали кресты, гадили в церквях, рушили, рушили, рушили
Он видел, как глумились над кремлевскими соборами, как в прах обратили Царское крыльцо в Кремле, Чудов монастырь, как в месте погребения отца его устроили уборную Уничтожалось, предавалось проклятию и надругательству все то, чем он жил, что было для него свято.
Дед слег. Из больницы он писал мне, трехлетнему мальчику: «У тебя ушко бобо, а у меня животик Скоро поправимся и будем, Лелик, вместе »
Вместе нам не довелось быть.
Он умер от рака.
И вот сижу я один
И вот сижу я один во вновь принявшей нас после Тбилиси квартире.
Один потому что бабуля в вечных очередях, мама и соседи на работе, папа уже плохо помню, какой он? на фронте.
Иногда приходили от него открытки с короткими сообщениями: «Я в Румынии, это вид базара»; «Я в Венгрии, здесь так одеваются крестьяне»
Несколько раз мы получали от папы посылки. В них печенье «Крекер», невиданное у нас, сало, конфеты. Одна коробка большая, с выпуклыми красными розами на крышке, потрясла меня.
Когда были съедены все конфеты в гофрированных воротничках, с изумительной начинкой, пустая коробка продолжала оставаться тяжелой, приятно, загадочно тяжелой Я потряс ее, и внутри, во чреве этого розово‑голубого заграничного чуда, что‑то многообещающе тихо застукало.
Коробка оказалась с двойным дном.
Я снял фальшивое дно и среди мелко нарезанной бумажной стружки увидел в гофрированных воротничках жирно‑коричневые, источающие неземной аромат конфеты!..
Счастье!
Иногда по карточкам выдавали «американскую помощь»: яичный порошок, свиную тушенку, очень редко сыр. Самое любимое яичный порошок.
Обычно я, не дожидаясь пока его пустят «в дело», цапал ложкой порошок и отправлял в рот. Необычайно вкусно. И никогда больше в жизни не ел я такого вкусного омлета, как тот, что готовила бабушка из сухого яичного порошка на воде!
В школе мы каждый день получали по два бублика. Мягкие, с хрустящей корочкой мы ждали их первые два урока, представляли, как переломим этот розово‑желтый кружочек, как дохнет из него теплом, как откусим и долго будем жевать, не проглатывая, чтоб растянуть удовольствие
Бубликами у нас занимался ученик по фамилии Кривоногов. Он собирал деньги, уходил, а мы ждали, когда он наконец появится. До занятий ли было нам! Очень уважаемая фигура был этот Кривоногов!
В нашей квартире протекал потолок, и мы с мамой постоянно счищали снег с крыши. Но счастливее меня не было человека: мы дома, вот чистим крышу над нашей квартирой, вот в подвале, где смешались запахи валерьянки, осиновых дров и холодной плесени, пилим с мамой дрова, колем их и идем топить наши печки одну кирпичную, на которой можно было и готовить, и две железные буржуйки, трубы которых выведены в форточки
Из‑за холода и сырости у меня постоянно болели уши. Ходил я забинтованный, уши дергало, тек гной. Бабушка лечила меня: чистила мне уши, грела их синей лампой, а они болели и болели Поэтому я часто не ходил в школу.
Во время нашей эвакуации Ася сохранила наши вещи, но от сырости книги покрылись зеленым налетом, страницы были влажными, тяжелыми.
Большая советская энциклопедия читана мною перечитана. В мамином зеркальном шкафу изумительные «Тысяча и одна ночь» издательства «Academia», темно‑вишневые книги Ленина под редакцией Каменева, и еще был полон книг шкаф с зелеными стеклами, который я помню еще с довоенных времен: меня, больного, подносили, чтоб развлечь, к его пупырчатым стеклам
Остатки былого дедушкин мольберт, этюдник, кисти, краски, мастихин, шпатель, какие‑то металлические коробочки, баночки
Знаменитый штангенциркуль в красной коробочке, перетянутой пестрой резинкой от чулок, предмет гордости бабушки она все грозилась продать его и стать независимой Не продала!
Картины в рамах дедушкина копия «Трех богатырей» Васнецова, его этюды, картина Милорадовича
В холодной столовой я устанавливал мольберт, ставил на него доску с бумагой дедушкиным перевернутым чертежом и воображал, будто я художник, выдавливая из тюбиков гуашь и что‑то малюя
И еще был шкаф в передней, там тоже хранились книги, которые я обнаружил значительно позже: «Дневник писателя» Достоевского, «Конь вороной» Савинкова, «Конец династии Романовых», «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова и многое другое опасное, что могло как‑то навлечь на нас неприятности и поэтому спрятано было в шкаф, подальше, и заперто на висячий замок.
Все это: и дедушкин стол с принадлежностями для черчения и рисования, со столярными инструментами ватерпасами, рубанками, отвертками, плоскогубцами, гвоздями и винтами всех калибров; разбухшие от влаги книги; Асина комната со стеклянными пасхальными яйцами, фикусом на высокой подставке, с диким шипящим котом Барсиком; кухня с десятками кастрюль, деревянных корытец для шинковки капусты, со скалками и волнистыми стиральными досками изучалось мною, перебинтованным, сидящим в одиночестве, под звонкое тиканье Асиных ходиков, лежащих на боку.
А в окнах снег, голубой, глубокий, теплый
Вечером приходила с работы Ася, усталая. Вслед за ней возвращалась из очередей бабушка. Потом Мария Исааковна тщедушная рыжая акушерка, пожилая, совершенно одинокая; в ее комнате на крашенных клеевой голубой краской стенах висело единственное в нашей квартире радио черный бумажный круг‑репродуктор. Самой последней появлялась мама в каракулевой кубанке, румяная с мороза, свежая, полная радости от общения со студентами и коллегами.
Мужчин в квартире не было.
Папа на фронте, пишет.
Жора на фронте, не пишет.
Костя, Асин муж, неизвестно где.
О нем у нас молчали, и что‑то таинственное было в этом молчании. Тюрьма? Или скрывается где‑то? Где? От кого?
Правда, за время эвакуации пропали у нас серебряные ложки, что‑то еще, у Марии Исааковны водка из бутылки была выпита с помощью тоненькой соломинки, пропущенной сквозь сургуч, и заменена водой, а табак в пачке заменен газетной бумагой. Когда Мария Исааковна расплатилась с печником за буржуйку этими эрзацами, он, придя домой и увидев подлог, рассвирепел и страшно неприлично заругал Марию Исааковну. Слово «жидовка» было самым мягким в его монологе.
Поздним вечером население квартиры собиралось на кухне. Пили чай с сахарином, слушали по радио военные сводки. Из бумажного круга репродуктора хрусталем звенели куранты на Красной площади и торжественный голос Левитана: « из трехсот двадцати четырех орудий!» Я гасил свет, поднимал черную бумажную штору.
Из черного репродуктора вылетал гром, и несколько секунд спустя сизый зимний сумрак за окном озарялся фантастическим оранжевым, зеленым, красным светом, на фоне темного неба снег на крышах, стены домов оранжево светлели, разгорались все ярче, ярче, а потом этот праздник красок затихал, и становилось темным‑темно.
Но вот опять грохот из репродуктора, и опять фантастически сияют снежные крыши все ярче, ярче И опять мрак
«Союз нерушимый республик ».
«Идет война народная ».
Карта на стене, карта с флажками
У меня была своя страна В. В. Ш. Великая Вторая Швамбрания.
Я рисовал карты, вел дневник
Днем, когда квартира была пуста, я доставал солдатиков моих довоенных и начинал сражение: стреляла карандашами гаубица, валил дым от подожженной кинопленки, бойцы падают замертво, кругом руины домов Тикает Асин будильник, из комнаты Марии Исааковны сквозь закрытую дверь доносится приглушенный хор Александрова, а у меня на столе битвы, рушатся дома, пишутся приказы, расстреливаются предатели и шпионы.
Был у меня один солдатик по фамилии Микешин. Он как‑то интеллигентно выглядел сутуловато из‑за мешка за спиной. Его‑то и расстреляли, он был член правительства и предатель, шпион.
Но это днем.
А сейчас вечер уютно, тепло, чай с сахарином, омлет из яичного порошка, всполохи и гром салюта
На Новый, 1943 год а он был уже с настоящей елкой открыли мы желтую лубяную коробку, где хранились елочные игрушки, и пахнуло оттуда чем‑то знакомым, довоенным и еще более ранним: пряным воском, далеким елочным запахом. Игрушки некоторые были какие‑то буржуйские большие, тяжелые, разноцветные, шары кое‑где закапанные воском, морские флажки, лошадки; кое‑что я с радостью узнавал: это мы с мамой купили до войны вот этого ватного, мягкого внутри, а снаружи будто корочкой льда подернутого снеговика!
На Новый год получил я в подарок настоящий, с отделениями, хотя и побывавший в работе, но с кистями и красками этюдник!
И вот однажды сижу я поздним вечером за маминым письменным столом, уроки делаю. В комнате темно, горит только настольная лампа. Ася, бабушка и мама на кухне пьют чай, слышны их голоса.
Вдруг раздается гулкий стук в дверь.
Нет, это я для красного словца.
Не было гулкого стука. Раздалось в вечерней тишине некое царапанье, осторожный, еле слышный полустук‑полушелест у черной двери.
Надо сказать, что в квартире нашей было две двери одна «парадная», для гостей высокая, с четырьмя зелеными толстыми стеклами наверху, обитая толстыми деревянными планками, с множеством замков, задвижек, щеколд. Обилие запоров возникло после того, как нас однажды до войны пытались ограбить.
Эта дверь вела на парадную лестницу с красной ковровой дорожкой, прижатой медными прутьями, с толстыми полированными дубовыми перилами. На площадке второго этажа стоял солидный диван, чтоб можно было отдохнуть, здесь же ящики для галош, на этих ящиках красовались фикусы. Дверь на улицу была тяжелая, двустворчатая, с большой наискось прикрепленной дубовой ручкой в медном блестящем окладе. И швейцар в галунах, конечно.
Но это все было когда‑то, этого я не видел.
Застал диван деревянный, перила, по которым так здорово было съезжать вниз, медные позеленевшие кольца для прутьев на каждой ступеньке. Фикусов, мягкой ковровой дорожки, блестящих прутьев, галош и швейцара уже не было.
И были «черная» лестница, черная дверь, черный ход. По черной лестнице вносили дрова, она была крутая, каменная, без всяких украшений, вела во двор. Дверь была низкой, толстой.
По черной лестнице к нам приходил татарин‑князь старьевщик. Сначала со двора были слышны его протяжно‑грустные, усыпляющие завывания: «Старьё берём!», «Берё‑о‑ом берё‑о‑ом ё‑о‑омм » Потом он приходил, усаживался, долго выклянчивал какую‑нибудь тряпку «для почина», торговался, плевался и уходил довольный
«Лудить‑паять »
«Стекла вставлять »
«Точить ножи‑ножницы »
Эти голоса звучали во дворе ежедневно, привычно. До войны.
Но я отвлекся.
Итак, в железо черной двери кто‑то зацарапался‑зашелестел.
Все напряглись, замерли. Взломщики? Убийцы?
Тогда Москва терроризирована была бандой «Черная кошка», на Чистых прудах хозяйничали «попрыгунчики», в подворотнях дежурили дворники, милиционеров убивали.
Ребята в школе хвастались финками, «писками»‑бритвами.
Страшно.
Бабуля спросила грозно: «Кто там?!»
И тут засуетилась Ася: «Это Костя, Костя это».
И отворила дверь.
Из темного проема двери метнулась на середину кухни темная бесформенная фигура, покачнулась и гулко бухнулась перед мамой на колени.
Мама хотела выйти в коридор, Костя, раскачиваясь, пробухал на коленях за ней: «Простите! Никогда не бу » Он был нетрезв, оборван и грязен. Слезы лились и оставляли белые кривые борозды на грязном небритом лице.
С колен не вставал. И плакал.
Порешили, что сейчас разговор бессмыслен.
Он пришел на следующий вечер оборванный, но чисто выбритый, трезвый.
Решили, что будет жить у нас.
О прошлом забыть.
Никто никогда не попрекнет вас. Но если
Клянусь. Только как Марь Исаковна?
Это я беру на себя.
Мама поговорила с Марией Исааковной, и та обещала не сообщать в милицию.
И стал Костя жить в комнатке при кухне. Тихо‑тихо. Днем еще иногда проходил по коридору к Асе или в уборную, а вечером ни‑ни. Мария Исааковна, когда я отворял ей дверь с улицы, первым делом спрашивала громко: «Жулик пришел?»
Вначале он и на улицу не выходил. Только значительно позже, лет через пятнадцать после войны, когда умерла Мария Исааковна, он стал осваиваться, чуть осмелел и даже приходил к бабушке в комнату смотреть телевизор. Смотрел, курил «Звездочку» и стряхивал пепел в лодочкой сложенную широкую мозолистую ладонь. А позже мы с ним даже подружились. Костя играл в самодеятельности, любил театр. Мы часто беседовали о театре, о футболе.
В Тбилиси я тосковал по Москве, по снегу, по московским ровным мостовым, по Чистым прудам, по прогулкам с папой и мамой. В Тбилиси, где меня вначале нещадно лупили за светлые волосы, до тех пор пока я не научился давать сдачи, мне казалось: вот вернемся домой а там солнце, сияние, праздник, веселые и добрые ребята.
Но и Москва, моя долгожданная Москва не совсем та, о которой мечтал. За это время стала она строже, краски поблекли.
Во дворе совсем незнакомые ребята.
«Иди, Олешок, к детям».
Пошел я с улыбкой к детям. А дети, матерясь, кинули меня в колючий снег и стали бить.
Их было много.
Снова шел я во двор, и снова то же. И снова.
Только потом, спустя полгода, приняли меня, как «парня с нашего двора», и страшная обида, постоянное чувство стыда и разочарования, чувство полного одиночества постепенно стали исчезать
Школа
Школа рядом. Быстро перебежать Покровку, перемахнуть трамвайные рельсы, и вот он, Колпачный переулок, где второй дом от угла школа.
Многих своих учителей я помню до сих пор. Математик Красников, молодой человек в сапогах, галифе и френче без погон, отлично понял, что в этой науке я полный нуль. Хотя я и старался, до ночи сидел над учебником, но против природы не попрешь Он спрашивал у меня что‑нибудь полегче, ставил хорошие оценки, а урок объяснял очень интересно, просто, захватывающе и мы его любили.
Физика мы звали «Вопшез». Учил он нас плохо. Мы хулиганили, бегали по партам, стреляли из рогаток, а он, бритоголовый, с черной повязкой на глазу, с орденом на потертом штопаном пиджаке, кричал: «Возьмем стакан з водой, нальем тудэ водэ Исаков, вообще‑з, мне надоело тебя слушать, вообще‑з, выйди вообще‑з с урока!!»
Вот и получился он Вопшез.
Химичка входила в класс, держа в руках раскрытый журнал, не давая после шумной перемены, перед тем как вызовут, хотя бы взглянуть в учебник, вспомнить, о чем там речь, в этой ненавистной химии, и прямо с порога: «Басилашвили!» И язвительно улыбалась.
В таких случаях я честно говорил, что урок не приготовил. Забыл. Устал. Или придумывал что‑нибудь еще очень честное. Иногда это помогало, она ставила точку против моей фамилии, и только. А что мне точка!
Николай Михайлович Дуратов. «Никола», «Гром». Обладал звонким и очень громким голосом и страшной внешностью как колено лысая голова, отсутствие какой‑либо растительности вообще, даже бровей нет над белесо‑голубыми глазами, и громадный, ярко‑красный нос, бесформенный, распухший, словно губка, напитанная водой.
Математик. Его боялись. И сильно.
Если пискнет кто‑нибудь, он звонко: «Молчать! Тут! Мне! Все! Ид‑диоты полные! У‑y, бля‑у‑у »
Что это за «бляу» я понял значительно позже.
А так он хороший был человек. Добрый, чуткий. С Красниковым его роднило то, что оба они видели во мне полную бездарь, но не придирались. Частенько Никола попадался на примитивных вещах: он объяснит урок, даст задание на дом, на следующий день спросит меня с места, а я ему честно: «Не понимаю». И Никола, бедняга, начинает мне объяснять Потом понял, что я не лентяй, а от частых болезней у меня пробелы
Он очень любил театр, играл в самодеятельности и поощрял мое увлечение театром. Но это уже потом, в девятом‑десятом классах. Всегда я вспоминаю его с благодарностью и любовью
Бедные наши «англичанки»! Девушки, выпускницы пединститутов. Юные, хорошенькие, щебетали что‑то типа «паст индефинит тэнс», а вокруг здоровенные мужики, раздираемые похотью, одержимые хулиганством, свистели, орали, пускали по классу проволоку с натянутыми «чертями». «Англичанки» бледнели, краснели, потом беременели. Появлялась следующая жертва, шепчущая: «Анбрэйкбл юнион совьет рипаблик » Но и она выходила замуж и шла в декрет
А потом появился новый учитель английского Абрам Иосифович Хасин.
Приземистый, плотный человек в очках, ходил с палкой, враскачку. На лацкане пиджака орден.
По своему обыкновению мы принялись орать, свистеть, громыхать крышками парт. В чернильницы, вделанные в парты, насыпали карбид, и из них повалила отвратительная грязно‑розовая пена, класс наполнился вонью и голосами: «Чернила испортились, писать нельзя!»
Хасин тихо сидел за кафедрой и вызывал по журналу, по алфавиту, к доске, делал вид, что ничего не видит и не слышит.
Естественно, никто не мог ответить ни на один его вопрос, мы ровно ничего не знали
Он спокойно ставил в журнал единицу, вызывал следующего опять единица, еще и еще
Бесчинства в классе продолжались
Он задавал домашнее задание, на следующий день снова всех по очереди к доске, и снова единицы, единицы
Постепенно нас обуял страх: а что же дальше, что же и в четверти, и в году будет единица?..
Первым ответил на пятерку Витька Леонов. Он как бы порвал цепь круговой поруки бесчинств, которые мы творили, буйной забастовки, шаляй‑валяя, хмельной радости от полной безнаказанности.
Потом кто‑то еще стал готовить уроки, еще и еще
Класс начал затихать. На фоне ребят, которые хорошо учились, самые отъявленные благодаря взыгравшему самолюбию тоже стали тянуть руки
А потом мы узнали, что у Абрама Иосифовича нет обеих ног по колено. Что он лишился их на фронте. Он ни разу не дал нам понять о своей инвалидности.
Мы читали «Повесть о настоящем человеке» Маресьев, герой, летчик, лишившийся обеих ног, совершил подвиг стал ходить на протезах, а потом и летать Герой Советского Союза
А тут ни «Повести », ни Героя, а просто затертый костюмчик, круглое бледное лицо в очках, минимум эмоций
Ни разу не крикнул, не выгнал никого из класса, а класс постепенно затих, начал учиться, тянуть руки, стараясь понравиться этому странному человеку, порадовать его. И тишина стояла на уроке.
Некоторые его не любили за строгость в оценках, побаивались, но уважение он вызывал общее.
А когда мы узнали, что он еще и мастер спорта по шахматам, чуть ли не чемпион СССР, мы совсем обалдели, повально заразились шахматами, и уважение наше к нему еще более возросло
Конечно, его предмет мы знали плохо, да и Абрам Иосифович был очень строг, пятерки и четверки ставил редко. Но на экзамене на аттестат зрелости, при мысли о котором у нас, испытавших на себе строгость «Абрама», тряслись поджилки, он каждому, невзирая на качество ответа, поставил в экзаменационную книжку жирную пятерку.
Никогда его не забуду.
Клавдия Петровна, географичка, полная, крашенная хной дама. Она одно время жила в Швеции, видимо, при посольстве, и это наложило на нее определенный отпечаток.
Обязательно во время урока, о чем бы она ни рассказывала, вдруг у нее как бы невзначай вырывалась фраза:
Когда я была в Швеци́и
Именно так не «в Шве́ции», а «в Швеци́и».
И если хотелось получить пятерку, то, о чем бы она ни спросила, хоть о геологическом рельефе Филиппин, то достаточно было сказать: «Прежде чем рассказать о Филиппинах, надо рассказать о Швеции ».
Она окуналась в ностальгическую дрему, и вот она, пятерка
Преподавателя литературы не любили все.
Говорил он всегда выспренним языком, на скучные темы: разъятие произведений на условные куски, положительный образ Печорина, отрицательный Грушницкого, и литература, самый духовный школьный предмет, призванный формировать из нас, обалдуев, личности, воспитывать в нас совесть, порядочность и честь, была превращена в сухую науку. На примере Павлика Морозова и Павки Корчагина нам доказывалось, что советский человек самый лучший, самый сильный, что понятия «отец», «любимая», «мать», «дом» для него стоят на втором месте, после понятий «Сталин», «советская власть», «красное знамя», «командир», «колхоз».
Все это было как‑то неживо, схоластически, и мы, хоть и получали пятерки, ненавидели литературу с ее долбежкой точных фраз, формулировок, которые надо произнести точно как в учебнике, иначе, если скажешь то, что думаешь, получится совсем не то, что в учебнике, и схлопочешь «пару»
Надолго, благодаря этому учителю, получил я отвращение к чтению.
Однажды нам было задано сочинение на демагогическую фразу, сказанную Маленковым, сподвижником Сталина: «Нам советские Гоголи и Щедрины нужны».
К тому времени я уже добрался до шкафа в передней и прочел романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Я был ошарашен этими книгами, влюблен в них.
«Ничего нет проще! подумал я. Вот они, Гоголи и Щедрины, они помогают нам в борьбе с глупостью, стяжательством, демагогией, помогают, очистившись, построить светлое коммунистическое общество!»
Так и написал в сочинении. Надо сказать, что по литературе, как в устных ответах, так и в сочинениях, я никогда не опускался ниже четверки. Читал очень много, язык у меня был подвешен хорошо, отсюда и пятерки с четверками. Да еще и мама‑филолог, если что поможет.
Получил я свое сочинение назад все испещренное замечаниями, вопросительными знаками, подчеркиваниями красными чернилами, словно сыпь высыпала на страницах. А в конце жирная красная подпись: «Уманский» и огромная красная единица.
И я понял, что хоть Щедрины и Гоголи нужны, может быть, но такие, как Ильф и Петров, нет, ни в коем случае
Да, много нам внушалось тогда лжи: и о том, как враги советской власти затравили Маяковского, и как Горького те же враги убили
Есенин, Достоевский о них мы только и знали, что они плохие. Не читая.
Есенин не издавался и был почти запрещен, о Достоевском предпочитали помалкивать
Мы не понимали, что ложь, а что нет, но общая серость, сглаженность уроков производили на нас такое скучное, пыльное впечатление, что ничего более нудного и тяжелого, чем литература, ничего более ханжеского и фальшивого мы не могли себе представить.
Однажды, будучи разбужен вопросом: «Что же главное в произведении Чернышевского «Что делать?». Кривоногов, ответьте!» ученик Кривоногов встал, подумал и сказал:
Блядуны они все.
В десятом классе мы позволяли себе такие, например, забавы. После урока окружали этого несчастного педагога со зверскими лицами, тесня его к окну, дескать, можем и выбросить, а кто‑нибудь якобы испуганным голосом кричал из глубины класса: «Не бейте его, он исправится!!»
А милая наша ботаничка!
Как она, бедная, грохнулась в обморок, увидев двадцать пять обалдуев, которые, когда она входила в класс, встав, смотрели на нее громадными выпученными круглыми разноцветными глазами! Это Исаков притащил шарики для погремушек (его мать работала на игрушечной фабрике), мы разъяли их на полусферы и вставили в глазницы.
Эффект был потрясающий!
«Мишенька» Михаил Иванович Горбунов, директор школы, был гроза и ужас для всех поголовно! Перед началом уроков он стоял в школьных дверях и проверял нас «на вшивость»: мы должны были быть острижены наголо, а обросших Мишенька в дверях сильно тягал за волосы, что было и больно, и оскорбительно
Ну, да что там, школа кусок жизни цельный, на части его не разъять. И вспоминается она не раздельно, годы разные сливаются в одно целое, а хорошее и дурное приобретают один серо‑розовый оттенок.
Сам себе пионер
Наш класс должны были принимать в пионеры.
Дома заранее был приготовлен галстук. Галстук старый, Жорин еще, ситцевый, кончики его завились в трубочку. К галстуку прилагался металлический держатель красивый, никелированный, на нем был изображен красный костер с поленьями. Но к тому времени, когда я дорос до пионерского возраста, держатель был отменен: кто‑то «бдительный» усмотрел в костре и поленьях подобие фашистской свастики и, видимо, получил за это награду, автор же значка‑держателя, скорее всего, был репрессирован, как враг народа. Ни о чем таком я не знал, лишь радостно трепетал, с волнением ожидая общешкольного пионерского сбора, где старший пионервожатый будет вызывать нас, посвящаемых в пионеры, поодиночке, повязывать галстук, и прозвучат слова:
Пионер, к борьбе за дело Ленина Сталина будь готов!
Всегда готов! отвечу я и стану членом этой замечательной дружной организации ребят, упорно и честно помогающим взрослым‑большевикам строить коммунизм.
Как волновался я! Как ждал этого часа!
Бабушка разглаживала галстук старым утюгом с угольями, в кухне пахло дымом и нагретой материей
Провожая меня в школу, она ласково помахала мне на лестнице:
Ну, ни пуха ни пера!
Наташу, дочку маминой ближайшей подруги Эльзы, днем раньше приняли в пионеры. Эльза звонила по телефону и сказала, что Наташа «загордилась совсем, даже на ночь не хотела галстук снимать ».
Я представлял себе, как вернусь домой, уже иной, взрослый, осмысленный, имеющий миллион новых друзей, буду расхаживать по квартире в галстуке, таящем в себе некую общность с чем‑то, не доступным ни бабушке, ни маме, ни Асе
Галстук, выглаженный, чистый, мне завернули в белую тряпочку, и я полетел в школу!
Галстук, Жорин галстук, у меня в сумке!
Жора на фронте, бьет фашистов, а я подхватываю его эстафету и становлюсь в один ряд с ним!!
И вот пионерский сбор. Пионервожатый выкликает вступающих, повязывает каждому галстук.
Звучат замечательные слова:
Пионер будь готов!
Всегда готов!
Знамя, барабанная дробь!..
Вступали в пионеры ребята не только из нашего класса, но и из параллельных, пятого «а», «б», «в».
Много ребят.
Но моей фамилии что‑то нет и нет Я, холодея, еще робко надеюсь, что вот сейчас, сейчас вызовут
Нет, не вызывают.
Может быть, я буду в списке ребят другого класса?
Нет! Прозвучала последняя фамилия, повязан последний галстук, вновь принятые вместе со всеми отдают салют знамени пионерской дружины, резко звучит горн, грохочет барабан, и я, держа в руках галстук, от которого еще пахнет утюгом и свежестью, вместе со всеми выхожу из зала.
Всё.
Теперь главное не показать никому, до чего я расстроен и подавлен. Приняли всех. Кроме меня. За что?! Почему? До слез стало жалко бабушку с утюгом и ее лестничным «ни пуха!» Себя самого, оказавшегося таким ненужным, лишним, чужим
Врожденная робость, стеснительность не позволили мне подойти к пионервожатому и напомнить о себе.
Пошел я в уборную и, стоя на мокром и вонючем полу, сам повязал себе галстук.
Дома я делал вид, что радостен, горд, и тоже, как Наташа, не хотел снимать галстук на ночь, ходил с таинственным и счастливым лицом.
Так я «стал» пионером.
Бабуля
Бабушка моя, бабуля, кареглазый мой седой колобочек!
Родилась она в семье священника. Родители рано умерли, и бабушку воспитывали дядья и тетки. Замуж бабушка вышла по любви, за молодого студента Училища живописи, ваяния и зодчества. Родила двух детей. Сын Миша умер, еще будучи гимназистом. Всю любовь свою к сыну бабушка перенесла на внука.
То есть на меня.
Ради внука жила. Сначала ради того, чтоб не болел внук, потом чтоб хорошо учился, потом чтоб стал человеком, потом потом потом
Ольга Николаевна Ильинская. В девичестве Тольская.
Есть икона Толгской Божией Матери. Не отсюда ли бабушкина фамилия Тольская?
И в детстве, и после замужества окружал ее церковный мир. Старомосковский мир церквей, священников, гула колоколов, просвирок, ладана, долгих молитв Получившая образование, она чувствовала себя на фоне старомосковской толпы барыней, которой не чужда благотворительность. Отправляясь в церковь, всегда брала с собой мелочь раздавать нищим. По праздникам кланялись ей дворники, славильщики, ряженые, приходя с черного хода. Им тоже полагалось бабушкино угощение.
Даже в послевоенные годы иногда раздавалось гулкое буханье в черную дверь, входил дворник, или сторож (тогда еще не извели до нуля эти профессии), или просто сосед Николай Николаевич, и, минуя всех, обращались к бабушке, почтительно кланяясь в пояс, просили «помочь».
Бабушка, всегда быстрая, подвижная, на этот раз величаво удалялась к себе в комнату и, помедлив, торжественно выносила оттуда требуемую сумму, высоко подняв руку; проситель склонялся (еще и потому, что бабушка была очень маленького роста), целуя маленькую пухленькую ручку барыни.
Ты, Петр, не премини отдать в начале месяца!..
Всенепременно, дорогая Ольга Николаевна, благодарю сердечно!
Черная дверь бухала опять, и счастливый обладатель десятки с Ильичом в овале мчался по черной лестнице вниз, в магазин, за «черноголовой», то есть запечатанной черным сургучом бутылкой водки.
С замужества бабушка привыкла чувствовать себя главой семьи. Она трудилась с раннего утра до поздней ночи. Белье, кухня, дети, провизия да мало ль их, домашних забот?!
Уже после войны, в трудные времена, когда и по карточкам‑то с трудом удавалось получить что‑либо, когда бесконечные очереди отнимали все время, в квартире нашей чистотой сияли полы, тугие от крахмала занавески из коричневатого, цвета кофе с молоком, кружева, связанного, кстати, самой бабушкой, менялись каждую неделю; по субботам на кухне и в ванной стиралось белье, в клубах пара в мыльной пене и грохоте ребристой стиральной доски, это в послевоенные трудные дни
А когда‑то когда‑то приходило много гостей: архитекторы, подрядчики, художники, родственники многочисленные (племянники, племянницы, их дети) в рясах лиловых и без ряс, пышно пахли расстегаи, сиял слезящийся балык, вилась стерлядь кольчиком; в граненых прозрачных графинчиках, в изобилии уставивших белоснежную крахмальную скатерть, леденела водочка, разноцветные настойки; в хрустальных вазочках ласкала глаз икорка зернистая; туго свернутый крахмал белоснежных салфеток окольцован был серебряными кольцами; чинно, по порядку, на хрустальных подставочках покоились до поры до времени разнообразные ножи и вилки, мал мала меньше; остро пахли соусы и подливки с вышибающим слезу хреном; на фарфоровой подставке ждал дырчатый сыр, исходящий каплями жира; сине‑зелеными пятнами симметрично горели глубокие и мелкие тарелки; на широкой плите в кухне ждала гигантская кастрюля ухи, горбились под крахмалом полотенец столбы блинов, крутилась, повизгивая, железная ручка мороженницы, покоилось в ожидании громадное белужье бревно в шишечках
В столовой гудели басы: «Ну, с богом!», звенело серебро женского смеха, звякали ножички, тонкую мелодию издавали, соприкасаясь друг с другом, светлые рюмочки
Все это, конечно, до: до революции, до войны; я застал лишь блестящий паркет, занавески на окнах, грохот стиральной доски, клубы пара на кухне, сладкую вонь керосинок с шипящей на них картошкой, сосиски с пюре в светлые дни.
Рюмки, рюмочки, громадные вытянутые в длину блюда для рыбы, белые, большие, как солнца, блюда для пирогов, супницы, ножи, ножички, витые ложечки, странные двурогие вилки для дичи, ложки‑ножи для рыбы, пузатенькие графинчики, какие‑то приспособления для содовой воды, подставочки, розетки для варений, вазы для фруктов, стеклянные в пупырышках масленки, флакончики для специй все это застал я покоящимися в громадном буфете, все возбуждало любопытство
В «деле» на столе, на скатерти, среди гула голосов я не видел этого изобилия никогда. Просто родился поздно.
В свое время бабуля царила в этом доме, она и в последующие годы оставила за собой мнимое право быть главой семьи, барыней. Говорила правду‑матку в глаза, была вспыльчива, не терпела возражений, а потому в доме нашем подчас раздавались нервные возгласы, крики, взрослые надолго переставали разговаривать друг с другом. Мне бывало и досадно, и жалко бабушку, которая в обиде уходила к себе, сидела там, нахохлившись, шепча: «Слово серебро, молчание золото»
Жили мы с ней в одной комнате; по утрам, сквозь сон слышал я ее молитвы:
Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего
Господи, Господи, упокой души усопших раб Твоих Сергея, отрока Михаила
От ее жаркого шепота я окончательно просыпался, сквозь зажмуренные веки наблюдал за бабулей: стоя на коленях, захлебываясь слезами, она просила Бога пожалеть ее, помочь дочери и внуку
Икона Богородицы с младенцем Иисусом на руках висела у меня над головой, в углу, бабушка смотрела поверх меня, часто крестилась, молилась, головой касалась пола, сморкалась в платочек Мне казалось, что я подглядываю за чем‑то запретным, стыдным, я сильнее зажмуривался, а бабушка все шептала, шептала
Нелегко было ей, властной московской барыне, жене уважаемого архитектора, жить вдовой в уплотненной коммунальной квартире на иждивенческую карточку, а затем на крохотную пенсию рядом с соседями, с нелюбимым мужем дочери «диким грузином», с возлюбленным внуком, который составлял все счастье и всю боль ее
Леля, Леличка!
Какой я тебе Леля, бабушка! Олег я!
Олежек, ОлешОк, Лелька, поцелуй меня!
Не знал заботы я ни о чем: бабушка неусыпно следила за тем, чтоб все было заштопано, выстирано, наглажено, пуговицы крепко пришиты.
Часы, недели, годы моей боли уши, уши болят, бухает методически в голове, раскаленный ржавый бурав сверлит мозг, температура. Верчусь на кровати, рядом бабушка с синей лампой, с ватой, вот она греет на сковородке мешочки с солью, а потом прикладывает к моим ушам
Научилась даже опасной операции зондом прочищать уши, делала это профессионально.
Годы, годы учения ненавистной математике поезд вышел из точки А в точку Б, в бассейн вливается и из него же выливается вода, бесконечные велосипедисты, колхозники доставляли мне массу страданий. Бабушка всегда была рядом, мучилась вместе со мной.
Бабушка это был я сам. Бабушку нельзя было отделить от меня, меня от нее; иногда ночью я просыпался и в ужасе замирал: бабушка не дышит! На цыпочках подкрадывался к ее кровати, вслушивался, наклоняясь, нет‑нет, слава богу! Просто дыхание стало тихим, не похрапывает, как обычно
А как не вспомнить долгие вечера в детстве, когда болел?
Вот один такой вечер. Лежу в постели, настольная лампа освещает одеяло, книгу в бабушкиных руках.
Это «Сказки русского народа» в издании Сытина, с иллюстрациями. Их у нас было четыре толстых тома.
Бабушка читает.
И разворачиваются передо мной яркие картины:
изгородь с торчащими над ней черепами, из глазниц которых льется яркий свет;
жуткое чудище, умирающее от любви;
грибы, от больших белых и груздей до малюсеньких лисичек; источая острый запах, вооружившись копьями, идут они на войну;
голова жены‑ведьмы, с клочьями седых волос, оскалив страшные клыки, летит, несется по деревне, впиваясь в горло убегающему от нее мужику;
убогое Горе‑Злосчастье оседлало бедного мужика и душит его, душит
А «Маугли», книжка, подаренная нам другом нашей семьи Семеном Григорьевичем Займовским, самолично им переведенная?
Бабушка, нацепив очки, заправив седые волосы под платочек, скрестив пухленькие ножки, читает мне, то переходя на басы, то на фальцет.
Старая москвичка до мозга костей, сохранившая подлинно «маскофский» говор, его, как язык московских просвирен, записывали, слушая бабушку, лингвисты.
В молодости дядья возили ее в Малый театр. Они были вхожи в компании артистов, брали бабушку с собой.
Особенно запомнились ей Южин и Яблочкина.
Бывало, Александр Иваныч, а он ведь был ба‑а‑альшой любитель до дам, это бабушка изображает Яблочкину, ее рассказ, складывая губки сердечком, все пристает ко мне: «Ну, поцелуйте же меня, душенька, прошу вас!..» А я ему с улыбочкой, хитренько: «Александр Иваныч, вам сладенького захотелось, так вот вам яблочко, скушайте, а я что? Диви бы сладенькая была » Он и отойдет, нахмурясь, а потом и улыбнется, да и захохочет: отходчив был
И бабушка смеется, довольная
Она вообще была театралка, в ее книге записей по хозяйству, которую я обнаружил недавно, попадаются такие записи:
5 января:
Прислуге 20 копеек.
Детям мороженое 10 копеек.
Свечи 1 рубль.
Горох 50 копеек.
Мыло 3 копейки.
Извозчик 2 рубля.
Театр 5 рублей.
Чай, пирожные в театре 2 рубля.
Нищим 50 копеек
Шиканули, значит, с дедом: на извозчике в Малый, на какую‑нибудь «Марию Стюарт» или на Островского, в антрактах чай с пирожными, и домой, скрипя снегом, на извозчике, делясь впечатлениями, позевывая, вверх по Театральному проезду, мимо замшелой Китайгородской стены по Лубянке, Маросейке, и вот она Покровка, дом четырехэтажный, парадное крыльцо. Парфен Назарович, швейцар в галунах, мягкая зеленая дорожка по ступенькам, четвертый этаж, звонок с надписью «Повернуть». «Тише, тс‑с, дети спят »
Все это в прошлом.
Сейчас комнатка в коммунальной квартире, в ней трельяж со слоником, фарфоровой девочкой с отбитой рукой, с синим фарфоровым чайником без ручки для воды; на дне чайника всегда лежит сломанная серебряная ложечка вода становится от этого целебной; вязаные салфеточки; письменный стол с дедушкиными красками, кистями, молотками, гвоздями, с чертежной доской; картины дедушкины на стенах, коричневый лик Богородицы в золотой ризе; матрац на деревянных подпорках, с одеялом в виде ковра, с многочисленными подушечками бабушкино место; кровать обожаемого внука, убираемая бабушкой самолично; карта Европы с нарисованной красным карандашом линией фронта; там, где наши, заштриховано красным, на булавках красные флажки, красное доходит почти до Берлина, только на севере никак не может сдвинуться, не идет дальше Кенигсберга
В этой комнате годы спустя будет учить она со мной студийные роли, тяжко переживая мои неудачи, пытаясь объяснить, как надо играть, пытаясь внушить, что «надо понахальнее, а ты, ты, Леля, очень уж стеснительный, тяжело тебе в жизни будет ».
В этой комнате будет она выспрашивать, как там мой учитель, а для нее просто Паша Массальский: «Не огорчай его, должно у тебя выйти».
В этой комнате тяжко охнет она, случайно увидев в выпавшем из пиджака паспорте штамп о моей женитьбе, зальется краской, заплачет, запричитает.
В этой комнате будет долгие месяцы, сидя на своем диванчике, ждать, когда же приедет ее Леля, ее Олешок из Ленинграда, он ведь там один, он болезненный, и будет слать ему пирожки с капустой, теплые носки, деньги из своей нищенской пенсии
В этой комнате встану я на колени перед кроватью, на которой бабуля в инсультном бреду, без сознания, беспокойной рукой все приглаживала и приглаживала растрепанные седые волосы; встану на колени, поклонюсь в пол, горько‑горько заплачу и попрошу прощения за все обиды и огорчения, которые причинил ей, моей любимой и единственной, моей бабуле, кареглазому моему седому колобочку.
И будем мы с мамой, уцепившись друг за друга, трястись от горя, злой тоски, видя, как уходит в пол крематория маленькая седенькая старушка, уходит, чтобы никогда к нам не вернуться.
Похоронена она в старом крематории, рядом с Донским монастырем, в одной могилке с сыном Мишей.
Маленькая мраморная дощечка, повторяющая очертания церковного купола. И надпись:
«Миша Ильинский 19021911
Ольга Николаевна Ильинская 18831965».
Приезжая в Москву, всегда иду на это кладбище. Долго сижу у маленькой могилки, такой же маленькой, как бабушка. Мысленно говорю с ней, рассказываю о своей жизни.
И думаю: ну, зачем, зачем я был таким, зачем не сказал ей при жизни, как люблю ее, как благодарен ей, что не могу без нее?
Слова, которые сейчас во мне, не были найдены тогда, только сейчас, когда нет бабушки, до конца знаю, что она была в моей жизни.
Но молчание разделяет нас, и никогда не обрадуется бабушка, услышав меня.
А вдруг?..
О книгах
Периодически на меня накатывается панический ужас: надо делать ремонт.
Надо! Никуда тут не деться живем мы в нашей ленинградской квартире двадцать лет. Я согласен терпеть пыль, вонь, грязь, грохот и прочие «удовольствия», унижаться перед рабочими, одно приводит в ужас книги.
Как циклевать полы? Двигать шкафы?!! В них сотни томов нужных, не очень нужных, не нужных совсем.
Один шкаф заполнен всем, что мог собрать о театре, особенно о МХАТе. Тут и драгоценные для меня книги с дарственными надписями Виленкина, Смелянского, Золотницкого, Арбузова, Товстоногова, Рязанова, Юрского, Казакова, Рецептера, и купленные еще в юности книги о Станиславском, Немировиче, Хмелеве, и подаренные мамой, друзьями, гостями книги об артистах, спектаклях, художниках. Одним словом, шкаф этот потянет эдак на тонну
Второй шкаф, еще дедушкин, работы начала XX века, простой, ореховый, с двумя дверцами, с прозрачным зеленым пупырчатым стеклом, с той, родной московской квартиры В этом шкафу мамины книги: ее публикации, книги по филологии, Словарь Пушкина, Пушкиниана Все это я в черном отчаянии после смерти мамы перетащил в Ленинград, пытаясь хоть как‑нибудь продлить прошлое. Потом добавлял еще и еще о Пушкине.
Шкаф этот сдвинуть невозможно развалится Также тонна, не меньше.
Третья тонна шведский шкаф, забитый всяким от Шекспира и Даля до Гиляровского и Диккенса.
Наконец, стенка «Кристина», которая занимает всю стену и предназначена, по сути своей, для столовой посуды, хрусталя, фарфоровых статуэток
Да какие там статуэтки! Вся забита книгами в два ряда
Как «доставал» эту стенку эпопея. В 1979 году мы получили трехкомнатную квартиру в Дмитровском переулке. Счастье, конечно. Что говорить? Престиж! В центре Ленинграда, угол Невского и Владимирского проспектов, все рядом легендарное кафе «Сайгон», место прибежища «неформалов», гастроном «Соловьевский», кафе «Эльф», винный раз, винный два, винный три Наташка Тенякова сказала: «Если б я здесь жила, я бы спилась непременно».
Так вот. Квартира есть, мебели никакой. В магазинах шаром покати. О «купить» не может быть и речи. Достать. Этот глагол «достать» весьма распространенный в советские времена.
Идет, к примеру, человек по улице, а в авоське у него, допустим, бананы. И он не удивляется, когда к нему обращаются прохожие: «Где достали бананы?», или «Где бананы дают?», или еще лучше «Где бананы (капусту, яблоки, муку, импортные ботинки, да что угодно!) выбросили?»
И тут все зависит от владельца авоськи. Если он добр, расположен к людям, счастлив выпавшей удачей и вообще хороший человек, он скажет: «в Соловьевском, идите скорее, там очередь, спешите!!» Таких людей теперь называют лохами, не умеющими жить.
А вот человек, радостный от того, что у него есть бананы (капуста, яблоки, мука, импортные ботинки), а у спрашивающего, да и у всех прохожих, шаркающих мимо ортопедией от «Скорохода», нет, сделает загадочное лицо, промычит нечто невнятное: «Да тут не всем так », чтоб продлить радость обладания тем, чего у других нет, донести эту радость, ничем не омраченную, до дома. Такие ребята теперь предприниматели. Дилеры‑шмилеры
А уж если этот обладатель авоськи с бананами достал эти бананы «с черного хода» (о этот черный ход, о эта мечта, о этот сон наяву!) ну, тогда он по праву считает, что «приобщен», достиг многого в этой жизни, замечен, жил не зря.
Я отец и муж, пользуясь популярностью, пришедшей ко мне от кино, от великого товстоноговского БДТ, тоже иногда «доставал» кое‑что через черный ход.
Представьте: июль, жарища, духота липкая, а жара в Ленинграде особая, умноженная на влажность Вхожу я с черного хода в мясной магазин (на вывеске «Мясо», на прилавках обглоданные кости, «суповой набор», более ничего) с бутылкой «Пшеничной» (тоже достать надо было), в директорский закуток. Говорю, что, дескать, выпить очень хочется, не разделят ли компанию, а закусь у меня найдется: вот хлеб, вот сырки «Дружба» плавленые, мятые, мягкие а иногда и баночка шпрот (достать!!). А мясники здоровые ребята кобенятся: да нет, дескать, мы на работе, вон туша прибыла, рубить надо и прочее. Потом, как бы нехотя, надевают ватники (и я тоже), и идем мы все в морозильную камеру, озаренную стосвечовой лампочкой на гнутом проводе.
Стены сверкают ледяными иглами. Вокруг туши мясные для достигших многого в этой жизни, значит, и для меня тоже. Садимся, разливаем, пьем на морозе‑то оно ох как хорошо! Идут в дело и сырки, и шпроты, потом мясники топором ххэ‑эк! ххэ‑эк! Отсекают мне вырезку, да еще и порубят ее на ломти, я еще для блезиру пару‑тройку якобы смешных историй из актерской жизни выдаю, потом дверь распахивается, и мы из мороза выходим в жару, навстречу солнцу и радостям жизни.
Они за прилавок, а я домой, с авоськой, набитой завернутыми в обойную бумагу кусками мяса.
Жара, липкий грязный ленинградский зной быстро делают свое дело, и я неуверенной рукой жму кнопку дверного звонка. Заливает жгучим потом глаза, бухает сердце, отдает в мозгу
Кто там?
Кто? Это я, я! Вдупель пьяный, но гордый!! Еду вам несу
Вернемся к «Кристине».
Володя Вакуленко, директор нашего театра, направил нас с моей женой Галей к своему приятелю, заведующему Мебельторгом, в Апраксин двор. Звали этого приятеля Владимир Ильич. Он принял нас в своем кабинете. За его спиной мозаичный портрет другого Владимира Ильича, выполненный из разноцветных пород дерева. Маркетри. Неуверенная рука художника придала вождю пролетариата грустно‑удивленное выражение. Владимир Ильич, тот, который директор, спросил, что нам нужно. Мы, робея, заикаясь, сказали, что в общем‑то у нас ничего почти нет, но, понимая всю громадную сложность задачи, просим что‑нибудь для гостиной стенку, стол, стулья, диван
Хорошо, подберем. Зайдите через неделю.
Через неделю Галя отправила к Владимиру Ильичу меня одного, повелев подарить ему шикарную зажигалку «Ронсон», привезенную из Японии. По тем временам обладатель «Ронсона» был равен сегодняшнему обладателю «Мерседеса», ну, «Ауди». Прикуривали‑то мы тогда от спичек; привезенные из заграничных гастролей обычные одноразовые зажигалки считались шикарным подарком.
А тут электронный «Ронсон»! С ума сойти!
Простите это я обратился к секретарше, лицо которой красноречиво говорило о важности ее миссии, простите Я к директору то есть, простите, ради бога к начальнику Он велел сегодня
Владимир Ильич в Смольном! укоризненно отрезала секретарша.
В голове моей пронеслось барабанной дробью:
«Мосты! Почта! Телеграф! «Бгоневичок»! Послезавтра поздно! Гасстгелять!!»
Ушел на цыпочках. С маркетри в спину мне глядел укоризненно‑удивленный Ильич.
Правда, позже, спасибо Владимиру Ильичу, директор который, появились у нас и диван, и стулья, и эта стенка «Кристина», теперь до отказа, тронешь развалится, набитая книгами. Сдвинуть ее с места нереально.
Первое запомнившееся ощущение книги: конец 1941 года. Бомбежка. Холодно. Мы с мамой у ее подруги Лидочки Григорьевой на втором этаже нашего дома на Покровке в случае прямого попадания бомбы в дом на втором этаже не так опасно, как на нашем четвертом. Читаем вслух Чехова в издании Маркса: «Хамелеон», «Дорогая собака», «Лошадиная фамилия» Мама и Лида хохочут до слез, заражая своим смехом и меня.
И даже когда по радио мужской голос объявляет: «Угроза воздушного нападения миновала. Отбой», мы еще сидим, смеемся, неохота идти к себе наверх, на четвертый этаж
Мы с мамой лежим у меня на кровати, ночь, опять зудит немецкий самолет где‑то над нами, а мама читает мне «Приключения Травки» повесть о мальчике Мише, который потерял папу на прогулке по Москве. До сих пор помню сравнение разноцветных огоньков трамваев за морозным окном с электрическими разноцветными елочными огоньками
«Путешествие Нильса с дикими гусями» это поздняя холодная осень в Пушкине. Я дал почитать книгу Борьке, хозяйскому сыну. Когда неожиданно пришлось возвращаться в Москву, Борьки не оказалось дома, и книга осталась в Пушкине Чувство потери чего‑то очень дорогого, нужного долго оставалось во мне
В эвакуации я читал много, а вот в Москве, в школьные годы, почти не читал.
Почему не знаю. То ли других забот хватало, то ли школьная программа по литературе отбивала всякую охоту к чтению: необходимо было «сдать», «ответить» и отвечал, сдавал: по учебнику, по хрестоматии. «Образ Онегина», «образ Печорина», «новые люди» у Чернышевского по учебнику, по хрестоматии. Долбил наизусть высказывания вождей марксизма‑ленинизма о литературе. Тоска на уроках литературы была безмерная. А за сочинение по романам Ильфа и Петрова влепили единицу
«Два капитана» Каверина Даже в самодеятельности играли мы инсценировку этой книги. Была в ней своя, затягивающая тайная правда: осень в провинции, гимназия, такая понятная любовь к Кате, таинственные письма, романтика Крайнего Севера Но «книжного запоя» со мной не случилось.
И только позже, в Ленинграде, стали меня затягивать прозрачные омуты книг
Одиночество. Тишина. Изредка прогрохочет трамвай. И льется в душу странная музыка прозы Юрия Казакова, Виктора Конецкого, Андрея Битова. А потом открылась неожиданная для классики актуальность, буквально газетно‑памфлетная сиюминутность «Обрыва», «Обломова», «Евгения Онегина», и пошло‑поехало.
И дня не мог провести без чтения, а хороших‑то книг не найти было в книжных магазинах. Ходил туда как на рыбную ловлю авось попадется хоть что‑то Заходил, трепеща, в Книжную лавку писателей «Книжную сплавку», по выражению Юрского. Робея (посторонним нельзя!), входил в «отдел обслуживания писателей»:
Можно поглядеть?..
Да, пожалуйста, глядите
А вокруг всё писатели, писатели, в этой пещере Лехтвейса, и все с книгами, с книгами, блестят корешки, целые стопки у них А я по полочкам поглядываю мать честная! Володин. Взять! Дальше мамочка родная! Брэдбери, Сароян Абрамов Трифонов Дергаюсь от книжки к книжке, понимаю, нельзя мне всего, что хочется, наглость это, а тут еще боже! боже! Бунин, Бунин полузапрещенный Беру из всего богатства два‑три томика. Нет! Нет!! Вот же Олеша «Ни дня без строчки», Катаев «Святой колодец» как же этих‑то не взять?!
Наконец беру самое‑самое, робко подхожу со своей маленькой стопочкой к милой седовласой даме, заведующей, и, преданно в глаза глядя, бровки «домиком»:
Можно мне вот это и вот это еще?..
Милая дама перебирает выбранные мной книги, решает судьбу:
Ну, что с вами поделаешь. Берите.
И вот тут скорее, скорее в кассу, оплатить; хрустит бумага оберточная.
Если захотите в наш БДТ я с радостью в любой день вот мой телефон! это я вроде взяткоблагодарности на дальнейшее, и скорее на улицу. Трамвай № 2, час по мокрым рельсам к себе, на Торжковскую или на Дмитровский, а позже на Бородинскую, уже синий вечер, темно Щёлк! желтая лампа у дивана, бух на него и в океан, где я не один, где авторы слышат ту же мелодию, что и я, только громче, ярче И плывем мы вместе
На заграничных гастролях, особенно в странах «народной демократии» Польше, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, первым делом бежал в магазины советской книги, где было почти все то, что и в «отделе обслуживания писателей» в Книжной лавке в Ленинграде. В частности, многотомник «Памятники литературы Древней Руси» под редакцией Лихачева оттуда
И как же трудно нам, книжникам, сейчас, когда в рядовом книжном магазине, в этом разливанном море «все, все есть»!!!
Вот Библия с иллюстрациями Доре Вот полный Бродский Пушкин, да как издан, с золотым обрезом а вот дешевенький, карманного формата, на каждый день
И авторы самых полярных мировоззрений от Маркса до Ильина, от Толстого до Мураками Только держи карман крепче, сразу не покупай, никакие книги не исчезнут
Думаю, это одна из самых значительных ценностей нашей сегодняшней жизни обилие и разнообразие книг на прилавках, возможность читать, сравнивать, делать самостоятельные выводы.
Как‑то в книжном магазине «Снарк» иду между полками, согнувшись, просматривая книжные ряды, и лбом ударяюсь в чей‑то лоб.
Такого же согбенного книгочея.
Поднимаю глаза ба! Розенбаум!
А он мне вместо «здрасьте!» улыбаясь: «Боже, какое счастье!..»
Папа
Стою в быстрых сумерках Койшаурской долины на берегу Арагвы Вокруг круглятся предгорья Кавказского хребта.
Додо Алексидзе, председатель Грузинского театрального общества, повез нас, нескольких артистов БДТ, находящихся с театром на гастролях в Тбилиси, в село Казбеги, а по дороге предложил «перекусить» в Пассанаури. Поняв, что застолье затягивается, я потихоньку выбрался из‑за стола и пошел в густеющих сумерках к реке
Арагва с шумом перебирала камни ледяными струями. Быстро темнело. Что‑то грустное, печальное было в этой картине еле видимых холмов, в безлюдье, в шуме реки, в терпком, ароматном мягком воздухе
Вдруг
Стоп! Я это уже видел и чувствовал: и эту сладкую грусть, почти тоску, и эту сгущающуюся тьму вокруг, и шум реки
И здесь, здесь я стоял во тьме, на берегу Арагвы, хотя никогда, никогда прежде здесь не был. Что это?..
И вдруг торжественно, мощно, словно музыка, откуда‑то сверху пролилось:
На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою
За полгода до этого дня умер мой папа. Как он мечтал поехать со мной в Грузию, в места своего детства, юности, показать их мне! Не случилось И вот стою я в темноте, оглушенный шумом Арагвы, и горько мне, что я один, что не случилось нам стоять здесь вместе, как планировали, что никогда уж больше не увижу отца, не услышу его голос
Наши отношения с ним, настоящие отношения отца и сына складывались сложно
До войны мы гуляли вместе, папа сделал мне электрическую железную дорогу, смастерил из табуретки театр с раздвигающимся шелковым занавесом на медных колечках, с «осветительными приборами» из игрушечных кастрюлек, маленьких лампочек, которые при помощи реостата меняли яркость, раздобыл где‑то разноцветный целлофан для этих приборов. Сцена с декорациями, которые тоже сделал папа, была то синей, то желтой, то красной
Под окном столовой он устроил ботанический сад посадил кактусы, еще что‑то. Аспарагус дожил до 1998 года
Папа подарил мне аквариум с рыбками. Я кормил их мотылем серым, словно пыль, и червячками рубинового цвета.
Однажды папа принес рыбу не рыбу, чудо какое‑то. Это был аксолотль нечто ящерообразное, с четырьмя лапками, хвостом Его поселили в аквариум с рыбками. Когда рыбки стали исчезать, мы грешили на Асиного кота. Ася защищала Барсика: «Никогда, никогда он не возьмет чужое!». Но потом увидели аксолотля с торчащей из его пасти рыбиной Папа выпорол его карандашом, держа за хвост и приговаривая: «Нельзя, нельзя рыбок есть, мерзавец! Запомни!».
Но рыбки исчезали одна за другой, аксолотль стал огромным, и его куда‑то отнесли
Все эти мои видения пронизаны довоенным солнцем, брызгами солнца от велосипедных спиц, сладостью бархатных персиков Сельскохозяйственной выставки, душистой и прекрасной гарью «волшебного фонаря» «Собирались лодыри на урок», ручка поворачивается, черная перепонка ползет вверх и другая картинка: «А попали лодыри на каток »
Мы с мамой и папой в шикарной «эмочке» трясемся по булыжному спуску от Сретенки к Трубной. Едем в кино, на первый стереоскопический фильм «Концерт» едем под солнцем, с мороженым
Мне шесть лет!
И вдруг война.
Папа на крыше, мы в подвале, пропитанном запахом валерьянки. Тьма. Зудит в небе «мессер».
Папа в ополчении. Роет окопы. Черный силуэт его на фоне кухонного окна. Мороз. Каракулевая ушанка с красной звездой, жилет из собачьего меха американский, с зелеными пластмассовыми пуговицами, шинель.
Остро вдруг вспоминаю запах каракуля свежий, острый
Мы уехали в эвакуацию. Папа ушел на фронт. На четыре долгих года.
Вернулся он в июне 1945‑го. И увидел перед собой не шестилетнего малыша, а некрасивого одиннадцатилетнего подростка, наголо бритого, со щелевидной улыбочкой, воспитанного бабушкой и мамой и хорошо усвоившего уроки женского воспитания.
А я вместо с дрожью ожидаемого отца, каким я его помнил веселым, стройным, кареглазым, увидел немолодого майора, располневшего, с крепким брюшком человека, с недоумением глядевшего на меня, не знающего, то ли обнять, то ли погладить по голове этого почти чужого подростка
Помню эту летнюю пору, когда возвращались мужчины с войны: «У Мишки отец приехал!», «У Нинки брат вернулся!»
И Мишка, и Нинка исчезали на два‑три дня, а потом являлись с подарками кто с трофейными конфетами, кто с гильзами от автомата, кто с немецким орденом «Железный Крест» А Мишка еще вдобавок с ухмылкой цедил, что, дескать, видел мать, засыпая, а она в кимоно: ну, стало быть, сами понимаете
Я понимал, что с возвращением папы в мою жизнь входит нечто, нарушающее мою прежнюю жизнь с мамой и бабушкой, и когда раздался крик: «Олег, Олег, иди скорее, там папа твой приехал!» и я увидел улыбающуюся счастливую маму под руку с военным в начищенных сапогах, с блестящими орденами и медалями, то с ужасом понял, что мне придется изображать радость сына, увидавшего отца после долгой разлуки, чтоб никто не заметил ту бурю противоречивых чувств, наполнявших мою душу.
С криком: «Папа!» я ткнулся в мягкий чужой живот.
Шло время, мы с папой привыкали друг к другу, но какая‑то трещина никак не хотела зарубцовываться и только медленно, постепенно исчезала и вот‑вот должна была исчезнуть совсем. Но тут папа умер.
В его документах в графе «дата рождения» записано: 7 ноября 1900 года. На самом деле подлинная дата его рождения неизвестна папа просто‑напросто позабыл ее в вихре житейских забот. Его мать рано умерла, остались еще два брата и сестра мал мала меньше Женитьба, рождение первого сына, смерть жены, Москва, университет, встреча с моей матерью, нищета и голод, мое появление на свет Потом война, послевоенная нищета Да и вообще у него была слабая память на даты. Как и у меня, кстати.
А когда получал первые документы, назвал две даты, самые простые: 7 ноября праздник революции и 1900 год начало века
В Тбилиси, в еще меньшевистской независимой Грузии, он был одним из основателей скаутской детской организации, возился с детьми. Затем, уже после установления советской власти в Грузии, уехал в Москву, поступил на этнологический факультет МГУ. Мечтал стать этнографом. Ездил в экспедиции на Кавказ; сохранилось множество стеклянных фотонегативов с видами Хевсуретии, с портретами горцев в кольчугах, со щитами и кинжалами на фоне хевсурских неприступных башен
Потом вдруг крутой излом судьбы: работа в системе почтовой связи, в Политехникуме связи, где он сначала преподавал, потом стал директором.
Чем вызван этот поворот? Наверное, трудной жизнью, необходимостью зарабатывать на свою семью, да и помочь родным в Тбилиси. Мы жили в коммуналке, в трех комнатах: папа и мама, Жора, которого отец привез из Тбилиси, я, дедушка и бабушка. Теща сразу невзлюбила его, «пришлого грузина», погубившего, как ей казалось, ее дочь, а ведь такая была партия Коля С., он и русский, и химик выдающийся ан нет, попала ей вожжа под хвост Все это и многое другое приходилось отцу выслушивать, изредка огрызаясь. Как удавалось ему сохранять видимость спокойствия?.. Я тогда не задумывался об этом, любил бабушку, хотя и чувствовал ее неправоту, любил отца, хотел мира и уюта в доме и отец делал все, чтобы не разрушать эту мою мирную иллюзию. Чтобы не надрывать сердце маме.
Вечерами сидел за ломберным столиком, остатком дореволюционной роскоши, который служил ему письменным столом, на гнутом венском стуле, чьи ножки для прочности были перетянуты телефонным шнуром, чтоб не развалился, работал: составлял планы лекций, проверял тетради студентов
Иногда вдруг прорывалось в нем странное стихотворчество. Для меня?
Бабка нам печет пироги,
Многи‑многи‑многи‑многи!
Ешьте вечером и днем,
Но не будьте пердуном!
Или:
И чаша, полна раков,
Стоит на столе.
И кошечка ласково
Смотрит на мине.
Причем никаких раков и никакой кошечки, которые могли бы вдохновить папу на этот опус, не было в нашем доме и в помине
Видимо, дремал в нем невостребованный талант шутовства, игры, недаром он так легок и интересен был нам, детям, сохраняя при этом серьезность взрослого.
Иначе зачем бы он, например, взяв у меня, студийца МХАТ, театральные усы и гостя у сестры в Тбилиси, сфотографировался в этих усах, заложив правую руку за борт своего полувоенного френча, держа в левой трубку, стоя на сестрином балконе на улице Авлева, словно на Мавзолее?
Какой шутовской бес заставил его, члена КПСС, члена райкома партии, пойдя на выборы на избирательный участок туда, где ныне шикарное кафе «Ностальжи» и фонд Ролана Быкова, а в его время Министерство заготовок, и где на первом этаже под увитым кумачом и цветами портретом великого Сталина стояла урна для голосования, а сбоку несколько зашторенных кабинок «для размышления», войти в одну из этих кабинок и просидеть там пятнадцать минут, как бы «размышляя»?
Члены избирательной комиссии чуть не померли от ужаса. Шел 1951 год: о каком размышлении можно говорить? В избирательном бюллетене стояла одна фамилия, и опустить эту девственно‑чистую, без помарок бумажку в урну, не входя ни в какие кабинки, было священным долгом каждого гражданина СССР. И все радостно исполняли этот священный долг с бьющимися от счастья сердцами голосовали за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, за партию, за великого Сталина.
А этот ненормальный сидит в кабинке уже пятнадцать минут!
Катастрофа! Маячит Лубянка. За плохую предвыборную агитацию. За не разоблаченного вовремя врага. Да мало ли за что
Отец потом говорил, что хотел там, в кабинке, закурить. Да духу не хватило.
При этом он был правоверным коммунистом, яростно спорил с мамой, нападавшей на святые, как ему казалось, истины.
В хрущевские времена их споры доходили до скандалов.
Приезжаю из Ленинграда, дыша радостью предвкушения встречи с теплым московским уютом, а в доме крик, брань, удары кулаками по столу, звон дребезжащей посуды это папа и мама опровергают политические позиции друг друга.
«Сатрапы! Душители свободы!» кричит мама.
«Болтуны! Бездельники!» не сдается папа
Он ушел на трудовой фронт в августе 1941 года, пришел оттуда домой, на Покровку, в конце октября, черный, исхудавший. Он провел около сотни человек через линию фронта наши войска отступали и бросили гражданских, копавших окопы и противотанковые траншеи, на произвол судьбы, забыли о них. Отец вывел всех в Москву, пробравшись через передовые немецкие позиции, и дошел до нашего дома на Покровке, не встретив ни одного красноармейца.
Отправив нас в эвакуацию, отец добровольцем пришел на призывной пункт и отправился на фронт. Его солдатский вещмешок, так называемый сидор, который он берег всю жизнь, я храню до сих пор.
Он прошел всю войну от Москвы через Курскую дугу, через Сталинград, Яссы, Бухарест, до Будапешта, где встретил Победу в чине майора.
В самые трудные дни войны, в октябре 1941 года, вступил в партию. Это был, несомненно, акт гражданского мужества: никто не знал, чем кончится война, и одержи победу немцы не поздоровилось бы партийным В мирное время вряд ли отец вступил бы в партию. Думаю, он хорошо понимал, что творится в стране, не зря под кроватью много лет у него стоял чемоданчик; в нем теплое белье, носки шерстяные, шапка‑ушанка, варежки, пирамидон набор для зэка.
Но бог милостив. Пронесло. А ведь могло и не пронести в бытность свою в Тбилиси он знал Орджоникидзе, попав в Москву, мог бы заручиться его протекцией. Но, видя, что происходит, ушел в сторону и завел на всякий случай чемоданчик.
А «всякие случаи», то есть аресты, происходили почти ежедневно и до, и после войны.
Исчез К., один из сотрудников Политехникума, сослуживец отца.
Исчез племянник нашей соседки Аси.
Исчезли родители моего детского друга Витьки.
Исчез брат маминой подруги Виктор.
Исчез отец моего школьного приятеля, лауреат Сталинской премии.
Мамин сослуживец повесился на работе: замучила совесть. Он был завербован в осведомители НКВД.
Сошла с ума мамина подруга от страха, считая, что за ней следят и хотят арестовать. Когда сын приходил к ней в психбольницу, она ему говорила: «Не надо выдавать себя за моего сына. Вы грубо работаете, вам я ничего не скажу »
Однажды ночью к нам в дверь позвонили. Вошли трое грузин в бурках, сказав, что наш адрес им дали в родной деревне отца, Карби, и попросились на ночлег. На вопрос, куда они едут, ответили: «Нашего родственника арестовали, мы едем его освобождать».
Не мог отец отказать тогда землякам в ночлеге. Рано утром они исчезли. А месяца через два опять ночью позвонили в дверь. На этот раз они были уже вчетвером трое в бурках, один в ватнике. И опять отец оставил их ночевать.
У отца было несколько орденов: Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За взятие Бухареста», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта».
За мужество, проявленное им в условиях тотального страха, когда он дважды не отказал в ночлеге этим грузинам, я бы наградил его самым высоким орденом.
Только не орденом Ленина.
В страшные и позорные годы сталинского антисемитского террора «борьбы с космополитизмом», когда евреев публично оскорбляли на улицах, в магазинах, не принимали в высшие учебные заведения (коллега моей мамы В. А. Плотникова, выйдя замуж, взяла фамилию мужа, шведа Робинсона красиво, не правда ли?! так их сына, носившего фамилию Робинсон, не принимали на филфак МГУ несколько раз, до тех пор, пока профессору, его экзаменовавшему, не шепнули: «Не еврей!»), так вот, отец брал на работу всех, не оглядываясь на райкомы и горкомы. На гражданской панихиде в Политехникуме, стоя у гроба отца, за это благодарил его кто‑то, говоря, что отец буквально спас ему жизнь, приняв на работу в техникум, несмотря на то что был он, как теперь говорят, «лицо еврейской национальности»
Страх был условием тогдашнего существования. Принцип «не высовывайся» стал главным, хотя и негласным принципом. Большинство руководствовалось этим правилом, порой неосознанно.
Спускался я как‑то вниз по эскалатору на станцию метро «Кировская» (ныне «Чистые пруды»). Шел 1949 год. Сияет красное дерево эскалатора, сияет полированный дуб перил, сияют круглые лампионы, внизу ждет сияющий прохладный серовато‑голубоватый мрамор станции и улыбающаяся голова Кирова (был такой) Народу мало. Идиллия. Все чинно, держась за резиновые толстые поручни, стоя справа, плавно едут вниз. Мерное гудение эскалаторов, чинные ряды стоящих справа, редкие торопящиеся слева. Вдруг кто‑то из торопящихся толкает того, кто стоит справа. Что‑то падает из рук стоявшего. Тот нагибается, его вновь толкает нетерпеливый. Возникает словесная перепалка. Включаются очевидцы и правдолюбцы.
Вы ж его толкнули!
А пусть не мешает! Я тороплюсь!
Хотя бы извинитесь!
Действительно, товарищ! Это же хамство! и так, слово за слово, все громче.
И вдруг:
Молчать! Знаете, где я работаю?!!
И мертвая тишина. Сияние лампионов. Блеск сине‑белого мрамора. Блики на полированном красном дереве. Застывшие в могильном ужасе фигуры заступников‑правдолюбцев, стоящих справа.
И тук‑тук‑тук! стук подкованных каблуков победителя из МГБ, тук‑тук‑тук! по деревянным планкам эскалаторных ступенек, и затем цок‑цок‑цок! по сияющему мрамору пола. Прямо к улыбающемуся Кирову. К поезду цвета кофе с молоком. На мягкий кожаный диван. Ш ш‑шшу! Бах! это закрылись двери. «Следующая станция «Дзержинская»! Готов!» громко говорит девушка в красном берете; в ее поднятой руке жезл отправления. У‑у‑у с самых низких басовых нот и до ц‑ц‑ццциии самых высоких, визгливых, поезд втягивается в тоннель.
Тишина. Блеск и сияние. Идиллия.
Вернувшись с фронта, отец вначале служил в Министерстве вооруженных сил дежурным у маршала Шумилова.
Рассказывал следующее.
Рано утром, где‑то к восьми утра, сотни офицеров шли по Фрунзенской набережной Москвы‑реки, от метро «Парк культуры» в министерство. С портфелями, планшетками, с газетными свертками там домашняя еда на обед. Недавние фронтовики. Грудь унизана орденскими ленточками, нашивками за ранения
Каждое утро толпа в несколько сотен офицеров. И каждое утро на гранитный парапет набережной взбирался некто в офицерских сапогах, в орденских ленточках, туго перепоясанный офицерским ремнем, но без погон демобилизованный, взбирался и со слезами на глазах кричал, надрывая голос: «Товарищи офицеры!!! Слава организатору и вдохновителю всех наших побед великому Сталину!! Ура!!.. Да здравствует великий Сталин гениальный полководец всех времен и народов!! Ура!!»
Шли боевые офицеры. Они за четыре года навидались всякого. Не раз смотрели смерти в глаза, многие имели ранения.
Казалось бы: что им до криков этого психического демобилизованного. Но не дай бог, не дай бог, заподозрят в том, что ты против этих лозунгов, или иронично относишься к ним, выкрикиваемым пусть больным, но искренним советским человеком!
Слава великому Сталину! Ур‑рр‑а!
И над офицерской толпой раздавалось нестройное «ура!»
Четче шаг, товарищи офицеры! Ур‑рра!!
Офицеры, пряча глаза, печатали шаг, покрепче прижимали газетные кульки с котлетами, кричали «ура!» и, краснея от стыда, скрывались в дверях министерства.
Когда этот больной исчез, все вздохнули свободно.
Отец долго не выдержал сидения за столом дежурным офицером: «Стыдно. Это безделье. Надо работать». Демобилизовался. И ушел в Политехникум.
Много раз просил я его «рассказать что‑нибудь» о войне. Он отмалчивался. А если и рассказывал, то совсем не героическое.
Как его товарищ, очнувшись на полу после взрыва снаряда, просил написать жене, думая, что умирает. На самом же деле осколок пробил кофейник с кипятком, который тот держал в руках, горячая вода залила ему гимнастерку, и он принял ее за кровь
Как солдаты, идя в атаку штыковую, кричали не «За Родину! За Сталина!», а «Мама!!». И вот так, с криком «мама!», врывались во вражеские окопы А немцы кричали: «Mutter!»
Как на станции Цимлянская однажды утром после адской немецкой бомбежки он вылез из воронки, где прятался от бомб, пошел к руинам здания штаба. И увидел своих подчиненных, столпившихся у рухнувшей стены. Из‑под кирпичной груды торчали его валенки, которые отец в панике забыл надеть, удирая из здания. Солдаты стояли, сняв шапки, понурые, словно на картине «Смерть командира»
Когда настали мои черные дни, когда пришлось разорять родовое гнездо на Покровке, ибо умерли все старшие, мне пришлось уничтожить все, особенно бумаги. Мамины и папины бумажные залежи я рвал на мелкие кусочки, не сожжешь же нет печки. Конечно, сначала просматривал и оставлял самое для меня ценное. Так я наткнулся в папином бумажнике на листочек бумаги, где был изображен длинношеий юноша с кадыком. И я вспомнил, как отец рассказывал, что однажды он присутствовал на казни трех немецких солдат, захваченных в плен при взятии деревни. Один солдат, уже с петлей на шее, посмотрел на отца и, увидев майорскую звезду на погонах, произнес: «Господин майор, спасибо!» Перепутал со «спасите» Ресницы белые, видимо, альбинос длинная шея с острым кадыком «спасибо» шепчет Но тут грузовик, на котором стояли пленные, подался вперед, немец дернулся и затих.
В своем бумажнике вместе с нашими фотографиями: моей, маминой, бабушкиной, Жориной, папа хранил свой рисунок этого несчастного немецкого солдатика. Сорок лет хранил
Все это рассказывалось за обедом, за рюмкой, и чем старше он становился, вернее, чем старее, тем чаще в его воспоминаниях возникала война. Он говорил о ней с ностальгией, и, думаю, военные четыре года были для него самыми святыми.
Тосковал ли отец по старшему сыну? Знаю, что мама обошла все архивы Минобороны и везде получала один ответ: «Пропал без вести». На Курской дуге Жора был ранен, отправлен в тыл. Но в госпиталь не прибыл. И дальнейшая его судьба неизвестна.
В анкетах, которые мне приходилось заполнять потом всю жизнь, я писал о брате: «Погиб на Курской дуге». Писать «пропал без вести» было опасно: а если он попал в плен?
Мне стало известно, что где‑то во Франции живет некий пастор, у которого будто бы есть снимки всех «перемещенных лиц», и можно узнать, нет ли Жоры среди бывших наших пленных. Может быть, после плена остался на Западе, жив?..
Сказал об этом отцу. Ответ его был категоричен: «Жора убит. А если он жив и не дает о себе знать для меня он все равно мертв». Вот так.
Потом знакомый гример, фронтовик, сказал, что лежал в госпитале в Москве, на Петровке, вместе с офицером по фамилии Басилашвили. Но если б это был Жора обязательно бы дал знать и на Покровку, и отцу, и нам, в Тбилиси
Или артисты нашего театра сообщили мне, что на обелиске братской могилы советских солдат в венгерском городе Мишкольце выбито: «Гвардии майор Г. Басилашвили»
Тоже не он, потому что ранен он был в 1943 году, а Мишкольц это 1945 год.
Сталин и сметана
Конец двадцатых. Папа идет из университета по Моховой на Покровку. В кармане карточки на всю семью. Магазинов нет, продовольствия тоже. Его можно получить по карточкам в «распределителе», их в городе много, туда «прикреплен» каждый работающий москвич. Фокус в том, что и в «распределителе» тоже почти ничего нет. Или есть, но какой‑то один продукт. И тогда «дают» этот продукт на все талоны. Например, за «жиры» «дают» сегодня воблу, воблой можно «отовариться» и за талоны на крупы и мясо и так далее.
Идет папа из университета. В кармане карточки. На всякий случай. Дело в том, что в подвале в ГУМе, что на Красной площади, наш распределитель. Сам ГУМ занят государственными учреждениями. Там заседают мужчины в английских френчах и в крагах. Там барышни в кудряшках стучат на «ремингтонах». Там принимаются судьбоносные решения, влияющие на судьбы миллионов людей.
А люди, пока эти решения не возымели действия, отоваривают свои карточки в подвале ГУМа, кому чем повезет. Крупой, чемоданами, горохом, чечевицей
Итак, идет папа по Моховой. Зима, надо сказать. Падают мягкие крупные хлопья снега. Темно. Машин тогда еще почти не было. Изредка прозвенит трамвай. Вот Иверская часовня. Там, внутри, теплый огонь свечей, отсвет их трепещет на снегу у входа.
Мимо.
Прохожих мало: мороз.
А вот и Красная площадь громадное белое поле. Зубчатые стены Кремля и башни с орлами скрыты густым снегопадом.
Теперь за угол, на Ильинку, еще раз за угол и вниз, в подвал, в распределитель!
Снег на пальто, шапке, ботинках начинает таять. Лицо становится мокрым.
Стоп! Очередь!
Что такое?!
Очередь?!!
Что дают?! По каким карточкам?
Сметану!! Сметану дают по всем карточкам! И за жиры, и за крупы, и за муку, и за мясо! Сметану! Повезло! В очереди простоять, ну сорок минут, не больше, и вот тебе сметана!
Но!
Сметана разливная. Под черпак продавца подставляют каждый то, что есть, банки, кастрюли, бидоны, кто‑то даже свернул из обойной бумаги фунтик донесет, если близко.
У папы нет ничего. Портфель. В нем тетрадки, книжки. Не в портфель же. А как?! Бежать на Покровку за тарой, потом обратно в ГУМ а вдруг и кончится сметана? Что тогда? И когда что‑нибудь еще выбросят? Нет. Это не выход. Но как, как?!
Рядом промтоварный отдел. Там тоже все по карточкам.
Кастрюли есть?
Нет.
Бидоны?
Нет.
Кружки, бутылки?!
Нет.
Что есть, что дают??!
Можем дать таз эмалированный банный.
Ну! Давайте, давайте, давайте!
Отоварился папа тазом банным большой, кстати говоря, таз, сантиметров восемьдесят в диаметре, внутри белый, снаружи зеленый; отстоял очередь, получил полный таз сметаны, это килограммов шесть‑семь, и ручку портфеля в зубы, таз в руках перед собой, осторожно (не расплескать!) шаг за шагом вверх по лестнице, во тьму Ильинки, в мягкий снегопад, шаг за шагом, медленно‑медленно, не упасть бы, нащупывая ногами путь, вверх, к Ильинским воротам.
Ильинка пуста. Кое‑где сквозь снег видны мохнатые огни окон.
Далеко впереди, у Ильинских ворот, возникает какая‑то фигура. Переходит на папину сторону улицы. Идет навстречу. Не торопясь.
Валенки, тулуп, меховая шапка с длинными свисающими ушами.
Постепенно сближаются.
Человек невысокого роста. На черные усы налип белый снег. Идет, погружен в себя. Останавливается, поворачивается направо к зеркальной витрине бывшего банка, пристально смотрит на свое отражение. Снимает варежки, приближает лицо к зеркалу и начинает выдавливать прыщ.
Вдруг вздрагивает, услышав папины скрипящие по снегу шаги, и дико косится на странную фигуру с портфелем в зубах и с громадным тазом, полным чем‑то белым, в трясущихся от напряжения руках.
Папа, дабы успокоить незнакомца и оправдать собственный нелепый вид, пытается улыбнуться и сквозь кожаную портфельную ручку сказать: «Тут сметану выбросили, вот, несу домой »
Получается: «Кук хххекаху выбхыхилы вок неху гомой »
Карий взгляд незнакомца недоверчив, пуглив. Но папа идет дальше и уже у дома вспоминает, что видел этого человека где‑то на студенческом митинге, что фамилия этого человека Джугашвили. Что работает он в ЦК. И шел он по Ильинке из ЦК к себе домой, в Кремль.
А из сметаны бабушка долго сбивала масло. И масло получилось. Потом она перетопила его. И все были счастливы какое‑то время.
Я чувствовал, что мои увлечения рисованием, потом театром папе были непонятны.
И чем старше я становился, чем четче формировались мои пристрастия, тем равнодушнее становился к ним папа.
Выключи, пожалуйста, радио!
Почему? Ведь Качалов читает!
Ненавижу его! Ненавижу его смазанную жиром холеную глотку. Люди вокруг голодают, а он жиром в глотке булькает Ишь ты!
Приходилось выключать радио
Или с презрением об артисте Толмазове из Центрального театра транспорта: «Немолодой уже человек, а глазки подведены, губки подкрашены Стыд».
И когда я определился с выбором профессии, поступил в школу‑студию МХАТ, сказал:
Ты взрослый человек. Волен поступать по‑своему. Но учти помогать деньгами я тебе не буду. Зарабатывай на хлеб сам.
И в первые мои, самые трудные и голодные годы в Ленкоме, а потом и в БДТ мама и бабушка, как могли, пытались мне помочь то денег пришлют, то с оказией носки, свитер, то бабушка пирожков напечет, и еще теплыми я доставал их из тщательно укутанной в несколько слоев газеты коробки. От папы же ничего. Поэтому, когда тянуло меня назад в Москву неодолимо, когда тоска душила сердце, я не ушел из театра. Это значило бы признать правоту отца, признать, что потеряны годы, а вся помощь и надежды мамы и бабушки бессмысленны.
Только позже, значительно позже, когда театр БДТ уже в зените своей славы был на гастролях в Москве, папа, посмотрев один или два наших спектакля я, кажется, и занят‑то в них не был, сказал:
Ну, что же. Вы делаете серьезное дело. Претензии свои снимаю. Давай, работай.
Так началось наше с папой сближение. Он стал ездить в Ленинград и с радостью встречал меня, когда я приезжал в Москву, а это бывало очень часто; готовил обед, обожал готовить грузинские блюда толму, например, или сациви. Тут, конечно, появлялась и водочка (у папы и названия свои для каждого «сорта»: «Коленвал» там, где буквы на этикетке располагались, как прыгающая кардиограмма, или «У Ну» был такой «друг Советского Союза», бирманский лидер У Ну на его портретах один конец головной повязки свисал, как на металлическом колпачке водочной бутылки, или «небоскребовка» с гостиницей «Москва» на этикетке). И начинались разговоры, и анекдоты, и папины рассказы о войне
Я очень виноват перед ним: он столько сил отдавал своей работе, а я почти ею не интересовался. И когда папа привел меня однажды в новое здание Политехникума, строительству которого он отдал столько сил, водил меня по нему, с гордостью показывал аудитории, мастерские, рекреации, флагшток, на котором каждое утро должен подниматься флаг техникума, я со стыдом ощущал себя белоручкой, тем самым сомнительным пошлым артистом с накрашенными губками и подведенными глазками.
Где ты теперь, папа? Мне так много надо сказать тебе. Выслушать твои советы. И просить прощения.
Ахтырка
И вдруг далеко внизу, на берегу извилистой фиолетовой речки, просияла церковь ярко‑красная, с белыми балясинками Стоит, словно игрушечная, светится на солнце, а рядом утопающие в зелени крыши большой деревни
Мы с папой и ребятами стоим на опушке леса, на высоком и крутом берегу Вори, смотрим на эту красоту
Вот! Вот! Вот в этой деревне я хотел бы жить! Экая красота! воскликнул папа.
Красная церковь на зеленом лугу отражается в извилистой речке
Валериан Николаевич, да это же наша Ахтырка! удивленно воскликнул кто‑то из нашей ребячьей компании.
Да, это та самая Ахтырка, подмосковная деревня, в которой мы на лето сняли под дачу пол‑избы у колхозного бригадира!
Мы не узнали ее. Обычную полуразрушенную советскую деревню, с грязью непролазной, с пьянством беспробудным, с дикими матерными частушками по вечерам И церковь там была облупленная, заколоченная, со сбитыми крестами. Вокруг церкви кое‑где кладбищенские каменные плиты, перевернутые, разбитые Вытоптанный газон, где гоняли в футбол деревенские парни
Как же красива Ахтырка с высоты, откуда не видна грязь с утопшими в ней телегами, мусор, заваливший улицу, не слышен мат‑перемат, и как уродлива и враждебна она взору человека, пробирающегося по раздолбанной, засасывающей трясине между кривыми избами и покосившимися столбами!.. Ахдырка прозвали мы ее, глядя из окна на серое небо, полусгнившее гумно, слушая шум многодневного дождя
Как не хотелось мне, московскому школьнику, уезжать на лето из Москвы!! Сколько соблазнов таила она, обожаемая! Как мне хотелось с велосипедом приобщиться к жизни летней знойной столицы, с ее асфальтовым маревом площадей, с восторженным многоголосием автомобильных гудков, к толпам болельщиков в черных кепках на стадионе «Динамо», где мои боги в голубой форме с красивым «Д» на груди и с белой полосой внизу на трусах динамовцы Москвы так элегантны на зеленом ковре стадиона: Карцев, Бесков, Трофимов, Хомич, Малявкин, Блинков Хотелось пройтись от Пушкина на Тверском бульваре вниз, по Горького, к небоскребу гостиницы «Москва», мимо башен Кремля, свернуть от блеска кремлевских куполов в Лаврушинский, в Третьяковку, мимо темно‑красного гранитного Сталина в шинели перед входом в нее, мимо Сталина, словно корабль волну, рассекающего воздух, туда, в любимые со скрипучими полами залы, где Левитан, Репин, Суриков, где васнецовские «Три богатыря» (дедушкина копия которой висит у нас на Покровке), где все: запахи, освещение, скрипучий паркет, сюжеты картин напоминает чем‑то дедушку, мир, открывшийся мне в ящиках его стола, со старыми кистями, высохшими красками на палитре, флаконами с полузасохшей олифой и чем‑то еще, более дальним и прошлым, чего не видел никогда
И дальше в новые залы, где Дейнека, Герасимов, где смотрят на тебя с полотен сильные, веселые люди, что возводят ГЭС, строят дома, где Сталин с друзьями из ЦК размечает на карте лесополосы против суховеев, где советские люди добывают уголь, создают новый быт.
И так хотелось мне этого нового быта!
Снести бы все эти московские развалюхи, построить вместо них что‑нибудь похожее на улицу Горького, на Ленинградский проспект, на площадь Маяковского, забыть про земляные дворы со шпаной, про полуподвалы с клопами, чтоб стала Москва вся такой, какой я хочу: асфальт, синее марево автомобильных выхлопов, блеск стекла, шпили высотных зданий, рев голубого стадиона «Динамо» и машины, машины «Победы», «ЗИСы», «ЗИМы», «эмки» все черно‑лаковые, сияющие!
Ан нет поезжай в деревню.
В Ахтырку.
Приехали. Грязища непролазная. Клопы. За стеной пьяные стоны колхозного бригадира. И дождь, дождь без конца. Ничего нет тоскливее русской деревни в ненастье Но мы постепенно привыкли. Солнышко выглянуло, засветилась трава. Потеплело
Однажды вечером пошел я за избу в огород там в углу скособочился дощатый сортир. Огород располагался на пологом спуске к речке Воре
Вышел из сортира, проскрипев дверью, и замер на месте. Я увидел, как в поздних сумерках чуть поблескивает Воря, черная кромка леса огибает огромное поле, посредине сиреневого неба застыла оранжевая луна
Издалека, из репродуктора на колокольне, доносилась едва слышная музыка Чайковский, опера «Евгений Онегин», сцена письма Татьяны к Евгению
И так это резануло мою душу сиреневое небо с оранжевой луной и серебристое поле, тихая Воря Чайковский Что‑то знакомое до боли и далекое‑далекое.
Тут следовало бы сказать: «И с этой минуты я ощутил неразрывную связь с русской природой, с музыкой, во мне проснулось вдохновение » и прочее.
Да нет. Постоял, послушал, поглядел и пошел в избу доигрывать в подкидного.
Позже я узнал, что Ахтырка эта бывшая усадьба князей Трубецких, что помещичий дом сгорел, что могильные плиты, торчащие кое‑где вокруг заколоченной церкви, фамильное кладбище владельцев, что Ворю перегораживала плотина, она была шире, с купальнями, а изумительной красоты лес вокруг бывший английский парк
Поле за речкой изображено Васнецовым в «Трех богатырях», а рядом, в деревне Абрамцево, где сейчас музей‑заповедник, когда‑то подолгу гостили художники, и «Аленушка» Васнецова, и «У омута» Левитана написаны здесь же, на Воре
Полуразрушенная церквушка в Абрамцеве, где мы с папой прятались от грозы, построена по проекту Васнецова
До революции в Абрамцеве были столярно‑резчицкая и керамическая мастерские, в которых художники возрождали старинные ремесла резьбы по дереву, майолики Все разрушено, могилы поруганы, вокруг пьянство и гибель
Читали «Обрыв» Гончарова?! Знаю, в школе «проходили». Но голову на отсечение даю: почти никто не читал. Также, как «Евгения Онегина», «Обломова», «Мертвые души » и многое другое
Так вот. Прочтите внимательно «Обрыв» Гончарова. Оторвите свои взоры от мобильников, телевизоров, компьютеров и возьмите этот роман. В нем есть глава, где описывается сон бабушки, вещий сон, в котором ей грезится, что станет с Россией, если ею завладеют такие люди, как Марк Волохов. Прочтите и сравните с сегодняшней нашей деревней.
Сколько злобы и черной ненависти потребовалось, чтоб испоганить могилы, разрушить церкви, вырубить леса, уничтожить рачительных хозяев‑«кулаков», споить до скотского состояния оставшихся в живых, заставить их плюнуть на прошлое и махнуть рукой на будущее!
Хотьково
«Знаешь ли ты, что такое счастье?!! согнувшись в полуприседе, гневно кричал в зрительный зал Гриша Гай в роли комсомольца в «Городе на заре», спектакле ленинградского Ленкома. Знаешь ли ты??!! А ты?!! А ты?!!» Зритель цепенел в ужасе и ждал, когда кончится этот кошмарный допрос и начнется действие
А я знаю, что такое счастье!
Это каждый день, проведенный мною вместе с бабушкой, мамой и папой на даче в Хотькове.
В 1949 году мама получила землю под дачный участок в глухомани, в пяти километрах от Ахтырки. Станция та же, Хотьково. Хотьков‑град, как называл его папа, Хотьков с разоренным монастырем, с храмом без купола и с выбитыми стеклами (там наверху пустили корни березки), с полуразвалившейся монастырской стеной, с откуда‑то взявшимся здесь, у облупившихся монастырских ворот, гипсовым львом; вокруг домики, магазин «Продукты» с водкой, хлебом и конфетами «подушечки» Совсем недавно я узнал, что в хотьковском храме похоронены отец и мать Сергия Радонежского.
Мама и кое‑кто из ее коллег получили землю под дачные участки. Мама заняла деньги у академика Виноградова, вместе с соседкой по участку купила в соседней деревне избу. Ее перетащили в глухой лес, прорубили просеку к поляне, на которой поставили дом так, что граница между нашим и соседским участком проходила поперек дома Пол‑избы наши, пол‑избы соседские. Пристроили террасу, поставили печки, крышу покрыли дранкой и дача готова!
Перевезли из Москвы старый дореволюционный стол, венские стулья, перетянутые телефонным шнуром, сундук с клеймом «Петербургъ», две кровати, топчаны поставили на козлы, набили матрацы и подушки стружками, купили на рынке байковые одеяла, растрафареченные масляными красками под «ковер», красота! Бывший мамин платяной шкаф стал «шкафом вообще» там и молотки, и пилы, и семена, и пушкинская картотека, «Похождения бравого солдата Швейка», купленные в Алма‑Ате, сборник Шукшина «Там вдали», неожиданно блеснувший в хотьковской книжной лавке среди завалов идеологической скучищи
Электричества вначале не было, светила керосиновая лампа под потолком. Поставили печку, плиту
Мы с моим другом Юркой первый год осваивали Хотьково, его густые леса, малинники, дубовые рощи, убирали строительный мусор, ходили в рваных тельняшках, а по вечерам при свете «летучей мыши» на террасе репетировали Сатина и Барона из горьковской пьесы «На дне»:
Человек это великолепно! Это звучит гордо!
А я всю свою жизнь только переодевался растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат, потом надел вот это
Мы активные участники самодеятельности: в клубе Министерства внешней торговли в Москве мы играем на настоящей сцене с бархатным занавесом, с декорациями «Снежную королеву», «Двух капитанов»
А в Хотькове мы репетировали Мы казались себе мхатовцами перед открытием первого сезона.
Вся природа хотьковская лес, густой орешник, неожиданно открывавшиеся поляны, глубокие овраги, непроходимые, словно джунгли, рождали в моем воображении поэтически‑музыкальную ноту, родственную поэзии мхатовских спектаклей. Вот зажглись в заходящем солнце густые березовые пряди это третий акт «Дядя Вани», вот горят кадмием верхушки елей это «Горячее сердце» с декорациями Крымова, начинают чуть розоветь верхушки берез и птичка пикает это «Вишневый сад» первый акт рассвет
Иногда очень издалека доносится звук колокола это в Троице‑Сергиевой лавре, что в Загорске, звонят.
Цветы, цветы Это хозяйство Валерии, рассказ о которой еще впереди. Георгины, гладиолусы, персидская гвоздика
В дождь осенью посадили с мамой и папой яблони, смородину, клубнику
Вечер. Потрескивает печка. Тепло, уютно, в желтом свете керосиновой лампы поблескивают полочки с хохломой, резными шкатулками это мамина страсть. Из щелей в бревенчатых стенах свешиваются клочья пеньки так и не хватило денег привести все в порядок
Чай с лесной малиной и карты, игры
За столом мама, папа, бабушка, Валерия, впоследствии Галя с Олей присоединились
Потом проваливаемся в сон, нарушаемый иногда тяжелым буханьем это наш фоксик Тибо прыгает с древнего сундука на пол, когда ему становится жарко И обратно когда холодно на полу. А ранним серебристым утром, когда на фоне бледно‑голубого неба розовеют верхушки деревьев и первые птицы робко начинают пикать, он дышит страстно мне в ухо «выпусти погулять».
Утром чаепитие на террасе. Сквозь густые лианы девичьего винограда бьет солнце Часто в наших утренних чаепитиях принимает участие Владимир Николаевич Сидоров, наш сосед. Смуглое лицо, седая шевелюра, карие глаза. Прихрамывая, опирается на палку. Владимир Николаевич мамин коллега по институту, по Словарю языка Пушкина. Беседа затягивается далеко за полдень, перед террасой дымит самовар, чай из него не то, что кипяченая вода из чайника. Потягивает дымком, и вкус какой‑то особенный
Владимир Николаевич был арестован в тридцатые годы за «участие в заговоре с целью контрреволюционного переворота и прихода к власти филологического правительства». Он прошел и тюрьму, и лагерь, и поселение
Брат его, Борис Николаевич, генетик, был арестован и посажен в лагерь по делу Вавилова. Выпущен в шестидесятых. Был необщителен, тих, молчалив
Все основные продукты мама и папа, а иногда и я возили на электричке из Москвы. Папа с фронтовым «сидором» за плечами, в каждой руке авоськи, сумки тяжеленные.
Так же и мама. От станции два километра пешком до дачи. Я на велосипеде гонял в Хотьково за хлебом, чаем, сахаром, там, у облупленного льва, была лавочка.
И так почти сорок лет.
Холодильником нам служила глубокая яма в сарае. Ставили туда на кирпичи кастрюлю с мясом, закутанным в крапиву, закрывали крышкой. Мясо долго не портилось.
Часто отправлялся я, взяв этюдник с масляными красками, на весь день в леса, поля: так хотелось сохранить навсегда эту необъяснимую, милую, притягательную красоту, такую родную и о чем‑то очень важном напоминающую
Вот строчки из моего хотьковского дневника:
«Солнце повсюду Особенно любимый мной эффект лиственной массы, пронизанной солнечными лучами и оттого горящее, словно драгоценный камень А к вечеру отдаленный шум электрички
Как описать эту тишину, существующую, как вещь, как предмет, который можно разбить нечаянно Ночью абсолютно круглая луна на черном, странном, нереальном каком‑то небе
Совершенно неподвижная листва деревьев, черная и тяжелая, словно из железа
Вчера по радио передавали запись: Качалов играет сцену Сатина с Бароном »
В 1950 году мы с Юркой Лецкиным «репетировали» эту сцену, всячески подражая знаменитым артистам. Тогда для нас Хотьково вообще было открытием неведомой земли смесью реального и фантастического. Я и сейчас, глядя на темные ели, дубы, почему‑то проникаюсь ощущением Метерлинка, Ибсена, раннего МХАТа.
« Тишь, жарища, солнце нещадно палит, дуб недвижимый, и плотная, охватывающая со всех сторон, осязаемая полнота жизни, естественности, правильности окружающего тебя
А чего стоят эти закатные лучи солнца, которые зажигают стволы елей, проникая с горизонта прямо в чащу этих сухих коричневых стволов и зажигая ярко‑красные свечи внутри этой непролази
Бегу утром по мягкой травяной тропке в лесу, и хочется взять с собой и изумрудную траву, и елочки, и небо с облаками Спасибо за все, Хотьково родное »
К вечеру возвращаюсь домой с этюдником а там уже ждут, и самовар кипит, и бабушка волнуется, и мама ругает, что запоздал, и папа потирает руки, вожделея перед рюмочкой и закусочкой, «Коленвал» со шпротами прелесть!
И опять печка потрескивает, желтый свет льет керосиновая лампа, и опять мы все вместе
Закатываем иногда кукольные спектакли А то и настоящие. Оля долго репетирует с соседскими девчонками, затем готовится несусветное количество пирожков, натягивается занавес простыня между деревьями, зрители приходят со своими стульями, им вручаются пирожки и значки «Хотьково», купленные на станции. И разносится по лесу: «Глашка, поди сюда!» это Оля изображает злую барыню.
Потом и Ксюша появилась в Хотькове еще совсем маленькая да удаленькая
Иногда по субботам приезжают мамины друзья по институту Григорьева, Робинсон, Булатова, Реформатский, Левин, Елена Муза. Привозят с собой кто что, зная, что каждый лишний рот осложняет ситуацию
Терраса наполняется клубами дыма от «Беломора», стол завален книгами, бумагами, идут умные научные разговоры.
Я седлаю велосипед и мчусь в Хотьково к облупившемуся льву за хлебом и водкой. Велосипед туго подпрыгивает на корнях и рытвинах, вырывается из леса на «поле Баскервиллей» к заброшенному карьеру, так прозвал его папа, вдоль железной дороги, шурша по песку, затем выкатывается на хотьковский булыжник, вот и полуразрушенный монастырь, сквозь него вниз, по мосточку через речку Пажу, вот и книжный магазин, около льва, рядом «Продукты»
За обедом папа требует прекратить «фунемные» разговоры и речь заходит о другом:
Современные артисты, дорогой мой Олег, это навоз, мягко говоря. Я бы определеннее выразился, если бы не Микки. Так знаменитый филолог Александр Александрович Реформатский зовет маму. Определеннее, да. Но что поделать, мы в дамском обществе! Так вот, дорогой мой, я на своем веку насмотрелся всякого, но вершину актерской работы, когда цепенеешь и забываешь о том, что перед тобой артист, я видел лишь дважды. Это Станиславский в ролях доктора Штокмана и Астрова. Это, дорогой мой, не нынешние мелкачи
Чехов? Ну, это не драматург. Если драматург то плохой. Очень. Он незнаком с основными законами драматургии. Абсолютное отсутствие действия, не менее категоричен Владимир Николаевич Сидоров. Одни скучные, притянутые зауши разговоры. Вот Островский Александр Николаевич действительно образец подлинного драматурга. Все у него на месте: экспозиция, завязка, кульминация, развязка! А характеры!..
Виктор Давидович Левин сыплет анекдотами:
Ну что все говорят: «Ах, Шаляпин, ах, Шаляпин!» Голос у него хриплый, нижнее «до» взять не может, фальшивит, верхов совсем нет
А вы что, слышали Шаляпина?
Нет, но мне Рабинович напевал
И тут же выдает следующий:
Рабинович, говорят, вас вчера избили?
Меня избили вчера?! За что?!!
Вы жульничали в карты, вас избили.
Я жульничал и меня избили?!! Кто???!
Хаимович.
Меня избил Хаимович??!! Где?!!
В клубе.
Э‑э‑э!! Тоже мне клуб!
Все смеются, дымок от самовара поднимается круто вверх, горят кадмием пряди берез в вечернем заходящем солнце.
Ну! На посошок!
И звякают рюмочки из зеленого бутылочного стекла
Но счастье когда‑нибудь кончается. Так и Хотьково: постепенно уходила радость, бледнели краски.
Умерла бабушка. И никто теперь не варил в саду на керосинке клубничное варенье в медном тазу.
Умер папа
Умерла Валерия
Страшным летом 1980 года жарким, сухим, полным прежних ярких восторженных красок маме поставили диагноз: неоперабельный рак. Врачи предсказали ей смерть в конце года. Конечно, я скрывал от нее диагноз, мама считала, что у нее цирроз печени. Я отказался от съемок у Михалкова в «Механическом пианино» и отвез маму на такси в ее любимое Хотьково («Олег, ну что это за купеческий размах, стыдно перед людьми все же на электричках»), где прожили там лето Мама, уже слабенькая, дремала на террасе. Я в отчаянии гонял по деревням в поиска творога, молока, сметаны для нее, варил кабачки
В груди ком горя, знаю, что это лето для мамы последнее лето! А оно яркое, тихое, прекрасное, словно улыбается, прощаясь.
Ночами глядел в бездонное черное небо в звездах и молил, молил Бога пожалеть маму, меня
Она умерла зимой в Ленинграде.
Через два года я приехал в Хотьково. Октябрь. Пустота. Тишина.
Стоит дом, построенный мамой.
Вот папин жасмин, яблони, скамейка
В доме мамины туфельки домашние. Висят на веревке тряпочки для процеживания молока. Поблескивает мамина хохлома.
И звенящая тишина. Никого.
Ночью ударил мороз
И вот стою я в голом уже саду, под голубым небом. Чуть слышно шуршит снежок, ложась на опавшие золотые листья. На террасе радиоприемник, бутылка водки Что‑то ковыряю лопатой, чтоб не сойти с ума.
Из приемника звучит Качалов:
Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле
Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье
И милого душа моя не ждет.
И вдруг он же играет сцену Сатина с Бароном, ту самую, что репетировали с Юркой, когда впервые приехали в эти солнечные джунгли:
« Человек это звучит гордо! Это великолепно!
Ты рассуждаешь. Это хорошо А я вот всю жизнь пэгеодевався надели на меня арестантский хават, потом надеу вот это Это смешно!
Не знаю. Скорее глупо »
Круг замкнулся. И тут я понял, что должен уехать. Как можно скорее уехать из Хотькова. Потому что еще день‑два и я умру от горя.
И я уехал. И продал дом.
Левин
Виктор Давидович Левин был не только выдающимся ученым. Еще он был членом месткома Института русского языка. Эта должность предполагала особую манеру поведения: осанистость, степенность и взгляд о! взгляд деятеля, посвященного в государственные тайны и планы, осуждающе‑снисходительный.
Но нет, нет! Это был живой, импульсивный, остроумный человек, фонтанирующий идеями, центр компании!
Когда советские войска в 1968 году вошли в Чехословакию и наши танки давили Пражскую весну, проливая кровь мирных жителей, несколько человек нашли в себе мужество и вышли с протестом на Красную площадь, к Лобному месту, с лозунгом «Руки прочь от Праги!». Подумать только! Семь человек! Семеро из двухсотпятидесятимиллионного населения СССР! Подавляющему большинству все было, как теперь говорят, «по барабану». Кто по приказу, кто «по зову сердца» «горячо одобряли» это решение ЦК КПСС.
Конечно, эти семеро знали, на что идут! Их тут же скрутили, затолкали в машины Среди демонстрантов двое или трое были из Института русского языка.
Виктор Давидович, конечно, понимал, что грозит этим людям. Либо тюрьма, лагерь, либо, в связи с «либерализацией» психбольница, где из здоровых, думающих людей делают больных и недееспособных. Посыпались письма: организованные «позор отщепенцам» и неорганизованные в защиту оных. Юрий Дереникович Апресян, ныне академик, подписал одно из таких писем. А это строго каралось, вплоть до посадки. От Левина потребовали дать отрицательную характеристику Апресяну. А он дал положительную.
За этот фортель Левина исключили из партии, перекрыли все возможности для работы, даже с книги, авторами которой они были вместе с мамой, потребовали снять его фамилию Мама не знала, как поступить в такой ситуации:
Что делать, Виктор Давидович?
Как что?! Вам что важнее, моя фамилия или наш общий труд? Так оставьте только свою фамилию, а гонорар поделим пополам!
Так и было сделано.
И постепенно русофил, крупнейший лингвист, знаток русской литературы был выдавлен из науки, отлучен от любимой работы
Как‑то Виктор Давидович зашел к нам на Покровку. И я услышал, ушам своим не веря:
Я и моя семья уезжаем в Израиль. Я хочу жить на своей исторической родине. Я хочу быть свободным! Я хочу счастья своим детям!
И этот весельчак, оптимист, еврей, до последней своей жилки пропитанный русской культурой, уехал в неведомый Израиль, исчез навсегда, ибо переписываться с кем‑либо из любой страны капиталистического лагеря, тем более из воинственного враждебного сионистского гнезда, было невозможно, а уж звонить по телефону Словно человек сгинул, улетел на другую планету, исчез
И вот настали новые времена.
Наш БДТ на гастролях в Израиле. Мы в Тель‑Авиве. Жара. Духотища Хамсин. Это ветер из Африки. Ноги в раскаленных подошвах проваливаются в жидкий асфальт. Солнце лупит по голове, а горизонт трепещет и троится
В лавке «Русская книга» мне дарят толстую книжищу «Словарь ГУЛАГа» со словами: «Вам еще пригодится». «Демократия в России навсегда!» отвечаю я с уверенным оптимизмом, но, как теперь очевидно, дарители оказались правы. В той же лавке с робкой надеждой справляюсь о Викторе Давидовиче Левине. Оказалось, его хорошо там знают: как же, он профессор Иерусалимского университета, часто бывает в «Русской книге», сейчас болен. Дают телефон. Трясущимися руками набираю номер и договариваюсь о встрече.
Мчусь на машине в Иерусалим через засаженные лесом горы, сквозь голые арабские районы. Уже стемнело, и жаркая духота ощущается физически, будто обложили тебя со всех сторон горячей резиной.
Во дворе, опираясь на палку, стоит, косо улыбаясь, Виктор Давидович.
Обнимаемся. Левин, приволакивая ноги, ведет меня к дому, вдруг оборачивается и чмокает губами, зовет: «Тибо! Тибо! Домой!»
У меня дыхание перехватывает: Тибо! Тибка! Так ведь звали нашего фокстерьерчика! Это ведь он теребил гостей в Хотькове, гонялся за бросаемыми Левиным мячами!..
Из черной духоты выскакивает милый фокстерьерчик, бежит вслед хозяину.
Сидим за столом Левин, его дети, его жена, пьем чай, вкушаем разные разности Замечаю, что Виктор Давидович избегает воспоминаний об Институте русского языка, о коллегах, о работе над Словарем Пушкина Говорим на общие темы: театр, кино, «творческие планы» Он сыплет анекдотами и снова, бритвой по сердцу:
« Ну, что ваш Шаляпин?! Низов нет, верхов нет, фальшивит »
« Вы меня облили кипятком!
Ой, я думал, это Рабинович!
Даже если Рабинович как же можно кипятком обливать?
A‑а! Он меня будет учить, какой водой Рабиновича обливать!!»
И возникает в памяти хотьковская терраса, увитая девичьим виноградом, сквозь пятипалые листья которого бьет зелено‑золотое солнце, за столом Левин, папа, мама, бабушка, смех, Тибка путается под столом
« Меня избил Хаимович?..»
Папа поднимает полную рюмку ну, на посошок! Березовые пряди полыхают в лучах вечернего солнца
Прощаясь, желаю хозяину скорейшего выздоровления: «Как выздоровеете ждем вас всех в Москве, все будут счастливы вновь вас увидеть!!»
Виктор Давидович не отвечает, но жена его, опустив глаза, вдруг говорит: «Нет. Нет! Никогда он не поедет в Москву! И мы не поедем. Здесь наш дом. Здесь работа. Зачем нам Москва?!»
Виктор Давидович молчит.
Ну что ж.
Прощаюсь. Тибка болтается у ног. Обнимаемся. И опять сквозь душную тьму, сквозь холмы, в Тель‑Авив
Проходит несколько дней. Ранним утром в моем гостиничном номере раздается телефонный звонок. Виктор Давидович. Голос в трубке звенит, прерывается:
Олег, я один сейчас Могу поэтому Когда говорю, что мне безразлично прошлое словарь, Москва Не верьте мне! Не верьте!! Съезд ваш Ельцин телевизор С утра
Только этим и живу Только этим
Передайте!..
И короткие гудки.
Сейчас уже нет на свете Виктора Давидовича. Дай бог его близким здоровья и счастья, быть может, они и обрели его на исторической родине. Я их тоже помню и люблю, потому что они семья Левина. Крупного русского филолога, влюбленного в русский язык, пропитанного до кончиков ногтей русской культурой, смелого, искреннего патриота своей Отчизны. Бывшего члена месткома московского Института русского языка имени Пушкина
Валерия Иолко
Лелька, ты съешь десять пирожных подряд?
Съем!
Матка Боска! Неужели?!
Съем!
Спорим не съешь! Давай на спор: если съешь, я тебя веду в цирк. Если не съешь ты меня ведешь в цирк.
А у меня денег нету на билеты!
А я тебе дам! Мне хоп что!
Валерия, забираясь на стул коленями и подперев голову рукой, смотрела, как я поглощаю пирожные
А потом цирк! Цирк на Цветном бульваре! Карандаш! Клоун Вяткин с собачкой Манюней! Эквилибристки сестры Кох!
Фонарики‑сударики
Горят себе, горят!
Что видели, что слышали
О том и говорят!
наяривает на концертино некто в трусах и в носках на подвязках, в стоптанных штиблетах!.. Свет яркий, радостный, и запах прекрасный запах навоза, зверей, чей рык глухо слышится из‑за красного таинственного занавеса.
На арене появляется шпрехшталмейстер во фраке, с крахмальной, выпяченной вперед грудью:
Вэ‑э‑эздушный атрррак‑цион!
А Валерия, милая моя Валерия Яковлевна Иолко сидит рядом. Она счастлива, что места у нас удобные, колонны не загораживают арену, что ее любимый Лелька рядом, накормлен пирожными, а на арене, на опилках Карандаш! «Бутилька! Тарелька!»
Валерию посадили в 1938 году по статье 58: контрреволюционная деятельность. Она неосторожно сказала кому‑то о фильме «Большая жизнь», что в нем приукрашен шахтерский быт. Кто‑то стукнул, и пожалуйте: отправили Валю в лагерь, на лесоповал, она именовала его «санаторий».
Валерия Иолко. «Ёлочка». Высокая, грузная, с черными густыми волосами и большими карими глазами, она появилась у нас как подруга маминой двоюродной сестры, а потом навсегда уже стала близким и родным человеком.
Каждый ее приезд в Москву был радость: весь привычный, размеренный быт ломался, я забывал про боль в ушах, мама, папа и бабушка начинали улыбаться. Гремели кастрюли, поддоны, лотки, появлялся на свет двузубец на резной ручке, выдолбленное в деревянной колоде корыто для рубки капусты, сечка полумесяцем, все эти подзабытые признаки таинственной дореволюционной жизни оживали на кухне, там шипело, трещало, скворчало. Запахи чудные неслись! Блины! Со шпротами! Их выбросили в «Центросоюзе»! И с крутыми, мелко нарезанными яйцами (их выбросили в «Стеклянном»!) в масле! Ура!! Пирожки! С капустой! (Валерия выстояла за этой капустой многочасовую очередь на Кировской, возле метро.)
А в Хотькове, где не было вообще ничего в магазинах, кроме конфет «подушечки», хлеба, «Беломора» и водки, ухитрилась завести дружбу с продавщицей «будки». Эта будка стояла на краю глубочайшего карьера, где когда‑то добывался трепел осадочная порода, используемый для реставрации кремлевских построек. Карьер давно был заброшен, на дне его образовалось озеро, где купались, а будка торговала водкой и спичками, «Беломором», «подушечками», хлебом и иногда мясом. Так вот Валерия получила «по блату» от знакомой будочницы баранью ногу.
Кстати, Валерия была поражена, узнав от меня, что слово «блат» существовало еще при Пушкине. А как же: «Из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво »
Матка Боска! А ну дай взглянуть!
Даю ей «Медного всадника».
Я‑то думала, что это лагерное, а это Пушкин!..
Пришлось потом просить прощения.
(«Дурак ты, Лелька!»)
Разговоры о бараньей ноге шли долго. Будочница обещала. «Она человек чести», говорила Валерия. Когда нога все‑таки появилась, Валерия несколько часов колдовала над ней, шпиговала чесноком, морковью, томила на плите. К обеду нога была готова и под водку «Коленвал» уничтожена на террасе, в окружении пылающих в лучах июльского заката березовых прядей
Валерия была создана для семьи, для мужа, для детей. Но ничего этого в ее жизни не случилось из‑за невинного замечания по поводу фильма «Большая жизнь». Ее арестовали, но, как она говорила, ей повезло: не пытали. Правда, что, как не пытка, запрет спать днем, а как только раздастся команда «отбой», распахивается дверь камеры: «Иолко, на выход!» к следователю. Там яркий свет настольной лампы направлен в лицо, следователь задает вопросы, на которые нет ответа: «Вы замышляли убийство Сталина? В какой террористической организации вы состояли? Назовите фамилии соучастников!» А второй следователь сидит рядом и, чуть начнут слипаться сонные глаза, легонько этак постукивает карандашиком по виску тук‑тук! Не спать! И так с десяти вечера до девяти утра. Затем в камеру! Койка откинута к стене не спать! Не лежать! И вновь «отбой» и: «Иолко! На выход!» И опять лампа в лицо, карандашиком по виску тук‑тук!
И так несколько недель подряд
По дороге в лагерь в столыпинском вагоне с двумя крохотными окошечками в решетках разнеслась весть, что немцы скоро возьмут Москву. Среди заключенных ликование, еще бы! Ведь они «политические»! Их‑то немцы в первую очередь выпустят! И вдруг звонкий громкий голос пожилой женщины:
Как вам не стыдно! Вы же русские люди! Как можно желать врагу победы над Россией! Россия, какая бы она ни была, родина! Я готова всю жизнь сидеть в тюрьме, лишь бы немец не победил!
Так кричала женщина с седыми грязными прядями волос, в рваном ватнике Фамилия ее была Пушкина. Правнучка Александра Сергеевича.
Как‑то их поезд очень долго стоял на запасных путях. Солдатик с винтовкой образца 18981921 годов, красноармеец, как тогда говорили, обратился к конвоируемым зэчкам: «Бабоньки, родные! Двое суток не спал, вас сторожа. Щас свалюсь. Я лягу и маленько посплю, а вы посторожите, и если пойдет начальник состава будите, не то, ежели застанет меня спящим, упечет под трибунал!».
И сторожили бабоньки, сердобольные враги народа, берегли сон и жизнь несчастного парнишки. Как увидят начальника в малиновой фуражке, будят солдатика, тот встает с грозным видом. Пройдет начальник он опять бух на доски вагона и в сон. А зэчки сторожат.
Из Челябинской области, из лагеря, возили Валерию на очную ставку в блокадный Ленинград. В сопровождении двух охранников с собакой сначала на поезде, потом на самолете через Ладогу. Вот там‑то, на очной ставке в блокадном городе, и поняла Валерия, кто донес, что ей не все нравится в фильме «Большая жизнь»
Следователь на одном из допросов предложил ей закурить:
Курите, Иолко.
Спасибо. Курю только свои, ответила Валерия, хотя своих у нее уже несколько лет не было.
Зря. Своих вам уже никогда не придется попробовать.
Посмотрим, ответила Валерия.
И как только вышла на волю по окончании срока, через десять лет после ареста, нашла следователя и выложила перед ним портсигар с «Герцеговиной Флор».
Лагерь наложил на нее свой неизбывный отпечаток. Валерия стала грубовата, резка в оценках, не считала необходимым мыться ежедневно. Но мат ей заменяло выражение: «Матка Боска Ченстоховска!»
Когда смеялась, заходилась в хриплом кашле. Но я не помню ее грустной. Хриплый лай ее смеха взрывался в цирке, в кино. Любимым фильмом ее был «Цирк» Александрова. Раз десять мы смотрели его с ней в «Колизее».
Весь день мы поём,
Всё поём, опять поём
выделывали свои штуки артисты, а Валя, лающе рыдающая от смеха, валилась с мокрыми глазами с хлопающего стула, на нее оглядывались, а она отсмеивалась за все свои десять лагерных лет!
А уж когда у героини Любови Орловой спрашивали, понимает ли она, как прекрасна и замечательна советская наша жизнь: «Теперь понимаешь?», и Орлова с английским якобы акцентом отвечала, якобы светясь якобы от счастья: «Тэпэу панимаиэшь!», Валюта, зэчка моя дорогая, вставала, хлопая вместе со всеми откидными сиденьями, улыбалась с мокрыми глазами, разминая пальцами «беломорину»:
Ну, Лелька, как? Здорово, правда?! Ну, пойдем наполеоны жрать!
Актерство
Вы математический гений! Вы скрывали это все десять лет! Вы обязаны идти на физмат в университет, воскликнул на выпускном экзамене наш математик Николай Михайлович Дуратов.
Дело в том, что я, абсолютный математический даун, вытащил билет, где нужно было решить довольно простую задачу. При помощи формулы, которую знает каждый, кроме меня, выпускник школы, задача решалась легко. Я понятия не имел о существовании этой формулы. Но паника, ужас, охватывавшие меня при мысли о том, что я не получу аттестат зрелости, без которого меня никуда не примут, заставила меня около трех часов в поту простоять у доски, да не у одной: я исписал три доски и решил задачу.
Что это?!
Решение задачи.
Да, ответ сходится!.. Но тут ведь нужно просто формулу вставить!
Я ее не знаю, Николай Михайлович!
Вы что, сами формулу вывели???!!
Не знаю
Ну‑ка, я посмотрю
И последовала тирада о математическом гении, дремавшем во мне
Может, конечно, и дремал этот гений, кто его знает Но проснулся он лишь один раз и спит по сей день. Конечно, ни о каком физмате и речи быть не могло. Как не могло быть речи и о филфаке, хотя мама советовала идти по ее стопам
Папа требовал поступления в Бауманский на физтех. Я ни в какую. Дошло до серьезной ссоры
Представить свое существование среди непостижимых формул, среди нудной цифири с ума можно сойти от тоски и отчаяния!
Нет, МХАТ! Только Школа‑студия МХАТ, там жизнь, там радость, там всё! Я ведь уже был отравлен «Моей жизнью в искусстве» Станиславского, его «Этикой», книгами о Качалове, Леонидове, Москвине, видел великолепные спектакли МХАТа: «Три сестры», «Горячее сердце», «На дне», «Вишневый сад», «Плоды просвещения» Играл в самодеятельности, подражая мхатовским мастерам.
Как‑то раз иду по абонементу, подаренному мне мамой, на мхатовский утренник. Шло «Воскресенье». Капельдинер в галунах, пропуская меня, говорит: «Поздравляю вас, молодой человек, сегодня Василий Иваныч играет!» Тогда мне невдомек было, что «Василий Иваныч» это великий Качалов, это уж потом я прочел монографии о нем.
МХАТ казался мне теплым домом, где все от чайки на занавесе среди модернистских завитушек до буфета, стены которого были затянуты золотистой соломкой, с громадным самоваром на стойке, все напоминало мне о чем‑то родном и далеком, о том, что согревало мою душу, когда я рылся в дедушкином письменном столе, перебирая кисти, молотки, плоскогубцы, натыкаясь на старинные открытки, карточки «Эйнем», «Чичкин», еще хранящие запахи чего‑то ушедшего, того, о чем шептали мне хотьковские заросли, напоминали далекие звоны из Троице‑Сергиевой лавры, лев у монастырских ворот в Хотькове, красно‑белая церковь в Ахтырке
Много в Москве театров, и хороших, и при них есть училища театральные, но что‑то тянуло меня именно во МХАТ, в его Школу‑студию
Я упросил руководительницу нашей самодеятельности Метельскую попросить актера МХАТа Иосифа Моисеевича Раевского, набиравшего первый курс, послушать меня и сказать, могу ли я стать актером и стоит ли мне пытаться поступить в студию ведь конкурс был около ста человек на место!
Раевский назначил мне встречу у него дома.
И вот иду я на ватных от волнения ногах по улице Немировича‑Данченко, вхожу в квартиру. Раевский был очень элегантен в своем сером костюме, в крахмальной сорочке, с красивым галстуком Мебель в квартире красного дерева, хрустальная люстра
Ладони у меня потные, загородился стулом, вцепился в его спинку. Объясняю, что не ищу протекции, а прошу искреннего совета быть или не быть?
Ну, что ж Почитайте что‑нибудь
Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям».
Еще в школе полюбил я Маяковского. Интуитивно, видимо, чувствовал в его поэзии нечто, ставшее выше житейской прозы и революционной ситуации. А уж в «Хорошем отношении » никакой политики. Рыжая лошадь распростерлась на покатом льду Кузнецкого Толпа серых обывателей гогочет над ней а у нее глазищи карие, блестящие, непонимающие и слезы от обиды и боли И никто слова сочувственного не скажет
И так хотелось мне, чтоб Раевский увидел эту лошадь, ее глазищи в мохнатых ресницах, голубую блестящую слезу, и высохли руки, и до слез самому стало жалко эту лошадь, и радостно, что встала она, назло всем, и пошла, цокая, мимо Дома мод, мимо покатого Союза художников, туда, где дом с чайкой на фронтоне И так хотелось мне, чтобы Раевский увидел ярко эту картину, что я забыл о том, что это вообще‑то экзамен, что решается моя судьба
А ну, прочтите еще раз!
Прочел и еще, уже совсем не волнуясь, чувствуя, что могу и имею право и медленнее, и ярче все делать.
А что у вас из прозы?
Прозы пока нет. Вот если посоветуете поступать выучу.
Прочтите басню.
«Волк и ягненок»
С прозой и баснями плохо у меня получалось. В басне нет, как мне казалось, никакого второго плана чисто бытовые сценки, где надо изображать то одного, то другого персонажа и подойти к морали
Так я и прочел басню, по‑школьному, стесняясь Нет в басне чего‑то такого высокого, но невысказанного, чем можно заслониться и забыть про стеснение
Да ну что ж приходите сразу на третий тур Я вас беру.
Иду, лечу, как на крыльях, вниз по улице Горького, к метро, домой на Покровку!.. Я почти студент, через четыре года артист МХАТа, я в этом уверен! Родителям ничего не рассказал; они по‑прежнему требуют поступления в институт Я отмалчиваюсь.
Подал тайком ото всех документы в Школу‑студию. Милая женщина Наталья Григорьевна Колотова приняла их, сказав, что я должен пройти все три тура. Ладно! Пустяки! Пройду! Меня Раевский берет!
Начался творческий экзамен. В комиссии Раевский, Массальский, Вершилов.
Все три тура читаю Маяковского, какую‑то басню, какую‑то прозу Допущен к общеобразовательным. Это чепуха литература, история, география это я сдаю запросто.
Я принят.
ПРИНЯТ!!
Студент Школы‑студии великого Московского Художественного Театра!
Дома все были в шоке. Родители надеялись, даже были уверены, что не примут меня. И пойду я в один из их обязательных вузов. И вот тут‑то и прозвучала роковая папина фраза:
Ну, что ж. Ты хочешь стать артистом. Ладно. Но учти: помогать я тебе не буду. В смысле денег. Крутись сам.
Видимо, вообразил меня с ярко накрашенными губами, подведенными глазами и нарумяненными щечками. И неприятно ему стало, и обидно.
А я хожу счастливый, и мир вокруг меня не враждебен и пугающ, как совсем недавно, а пронизан солнцем, и все мне улыбается: и Камергерский переулок, и улица Горького, и Покровка моя Все обнадеживает!
И рвется грудь от счастья!
Я талантлив! Я признан!
Студия МХАТ
Соня Зайкова, Нора и Рая Максимовы, Нина Палладина, Галя Товстых, Соня Барто, Таня Доронина, Нонна Бодрова, Леон Кукулян, Владимир Поболь, Михаил Козаков, Борис Никифоров, Ванадий Орлов, Юра Горохов, Марк Ковалев, Анатолий (???) Остроухов, Виктор Сергачев и я. Вот наш первый курс.
И.М. Раевский, П.В. Массальский, Б.И. Вершилов наши педагоги. Ваня Тарханов, сын великого Тарханова, ассистент. Раевский позже стал работать в ГИТИСе, а к нам на курс пришел А.М. Комиссаров.
И вот сидим мы полукругом перед нашими педагогами, пьяные от сознания того, что мы мхатовцы, на груди каждого эмблема с белоснежной чайкой, нам говорят правильные слова о Станиславском, Немировиче‑Данченко, о предназначении актера, об этике мхатовской
Потом начинаются занятия:
Мастерство актера упражнения на внимание, на общение, на точность реакции, упражнения с отсутствующими предметами: нужно, например, ввернуть воображаемую лампочку.
Танец.
Техника речи.
Движение.
Фехтование.
Пение.
И общеобразовательные предметы:
Литература.
Политэкономия.
Иностранный язык.
История МХАТа.
История искусств.
Все это давалось мне легко: и вворачивание воображаемой лампочки в воображаемый патрон, и перекидывание мячами (реакция, внимание), и хлопанье в ладоши (ритм)
Потом пошли этюды. Этюды без слов. Тут уж потруднее. Каждый день новый этюд. Это фантазию в нас развивали. Но тоже играючи и весело преодолевали мы и эти трудности.
С Мишей Козаковым мы до того обнаглели, что придумали систему «Бим‑Бом». Она заключалась в том, что мы не готовили дома этюды, но, если вызывали Козакова и спрашивали, с кем он готовил этюд, он говорил, что с Басилашвили. Если вызывали меня я звал Мишку, и мы удалялись за ширмы. Там в течение двух‑трех минут мы придумывали какой‑нибудь простой сюжет и выходили играть, будучи совершенно неподготовленными. Но нам все сходило с рук. Мы этим пользовались и продолжали халтурить.
А рядом, за стеной каждый вечер творилось чудо мхатовский спектакль. И мы иногда приобщались к нему, сидя, затаив дыхание, на обитых медью ступеньках мхатовского бельэтажа.
Про общеобразовательные предметы и говорить нечего: гуманитарные предметы мне всегда давались легко. Правда, прочесть надо было много. Но и тут находили выход: один читал «Одиссею» и пересказывал сюжет всем остальным, другой «Фауста»; так нами была «прочитана» программа.
Наш лектор Александр Сергеевич Поль обожал античную литературу и литературу Возрождения. От студентов он требовал такого же отношения. Вот типичная сценка на экзамене:
Что у вас в билете?
Данте. «Божественная комедия».
Александр Сергеевич откидывается на спинку кресла, предвкушая удовольствие.
Н‑н‑ну‑с Вы читали?
Конечно!!! (Хотя не читал.)
Н‑ну, и как вам?!
Божественно!!
Идите!! Пять!!
Невысокий, полный, с лысой головой, с римским профилем, поблескивал золотым зубом. Закутать его в римскую тогу вылитый патриций. Пилат. На лекциях он вдохновенно читал Гомера, и если в это время лекции кто‑нибудь снаружи приоткрывал дверь а реакция у него была мгновенная, бросал портфелем в наглеца.
Почти весь первый год в Школе‑студии был для меня веселым и радостным.
Но вдруг я стал замечать бросаемые изредка на меня косые взгляды педагогов
Иногда выслушивал ироничные замечания
И когда в конце первого курса Борис Ильич Вершилов, подводя итоги учебного года, сказал, покряхтывая, что, дескать, вам, Олег, надо за лето подумать серьезно, с какой целью хотите вы стать актером, да и хотите ли, я растерялся. Если честно, я был подавлен. Как?! Значит, все, что я делал, плохо?! Значит, я не так уж и талантлив??! Может быть, я ошибся, стремясь в актеры?
И все начало второго курса я провел в таком подавленном состоянии, раз за разом убеждаясь в своей бездарности, в отсутствии фантазии, ибо все, что я ни делал: продумывал дома этюды, репетировал их в студии со своими товарищами, предлагал различные варианты, все, мягко говоря, не вызывало восторга у педагогов. И сам я чувствовал себя скованным, неловким, неумелым неинтересным, одним словом, и чем больше старался, тем хуже получалось. А вокруг шла интенсивная жизнь Володя Поболь поражал всех своим юмором, Соня Зайкова казачьей статью и темпераментом, Витя Сергачев умом и въедливостью в каждом этюде, Мишка Козаков всеми доблестями сразу, Таня Доронина женственностью и простотой О Таня, Таня тут уж ничего не поделаешь вот она, первая любовь. И сколько сил и энергии она потребовала, сколько времени, которое необходимо было для чтения «Тихого Дона», «Войны и мира» Сколько времени было впустую потрачено на встречи, гуляния, стояния в подъездах, на провожания до общежития, где жила Таня
Сколько радости, горя, отчаяния и счастья испытывал я! А время‑то шло и шло впустую, не прирастал я ни умом, ни знаниями, ни талантом.
Только вот теперь я задумываюсь: а вправду ли впустую время‑то шло? Все‑таки это же подарок от бога любовь! Только тогда, на втором курсе, я не понимал этого и тащил свою любовь, как неподъемный груз, как счастье и горе одновременно.
И все больше и больше убеждался в своей актерской бездарности Чем больше я старался, чем тщательнее вворачивал электролампочку, чем мучительнее и дольше репетировал этюды, стараясь по‑школярски нигде не «соврать», не «наиграть», а действовать только по системе Станиславского, «по действию», стараясь «воздействовать на партнера», стараясь быть безупречно верным «методу» МХАТа, тем трагически яснее становилась мысль я не актер
Старался, стараясь, стараться
Словно мышь в пустой стеклянной банке. Скребет‑скребет по стеклу, и все бессмысленно: скользят ноготки по стеклу, скользят, и вот еще мгновение и мышка упадет на спинку, безвольно раскинув лапки
Выходил на этюды робея, потея, с потными ладонями, и уходил с площадки подавленный, стыдясь смотреть в глаза окружающим.
А этюды надо было приносить на занятия каждый день новые. В голову уже ничего не лезло, она только отупело деревенела в отчаянии.
Как‑то Борис Ильич велел нам сходить в зоопарк, понаблюдать за зверями, выбрать понравившегося и наутро, на занятии «сыграть» его. Такое упражнение на наблюдательность.
Поплелся в зоопарк: смотрел, наблюдал. Ходил из угла в угол, то есть от скамейки до скамейки, словно волк, вызывая изумленные взгляды посетителей, или пытался перенять повадки белого медведя, воспроизвести их. Проходил час за часом, и все скучнее и тоскливее становилось мне в зоопарке. Что же мне завтра кататься по полу, изображая змею, или орать благим матом, словно североамериканский койот?..
Да пошло оно все к черту! Не хочу и не буду. Хватит!
И пошел домой.
А дома старался не думать о завтрашнем неминуемом очередном позоре. Плевать. Как той странной птице из зоопарка стоит посреди вольера на одной ноге и спит.
Спит себе, отключившись от мира. Молодец Так и надо! Плевать на всё!
Пришел утром в студию, спрашиваю, кто чего понаблюдал.
Отвечает один: я, дескать, буду кроликом, другие серной или ланью (это девушки). У всех всё есть, даже наблюдательность. У всех, кроме меня.
Сидят наши педагоги.
Массальский изящен, в темно‑синем костюме, галстук в горошек, белоснежная рубашка накрахмалена, элегантные ботинки блестят, идеально прямая спина не касается спинки стула.
У Вершилова костюм уже не так элегантен, рубашка в полосочку, бабочка с чуть отвислыми крылышками, сидит он прищурясь, сутулится, одна рука закинута за спинку соседнего кресла.
Ванечка Тарханов внешне угрюм, черные волосы крыльями сваливаются на лоб.
Вышли мы
Поболь спрятался за ширму, руку из‑за нее выставил шевелит ею туда‑сюда. Рыбка, значит. Мишка Козаков сел на корточки и часто‑часто задергал губами кролик. Одним словом, кто во что горазд.
А на что я горазд? Да ни на что! Вокруг все яркие, все талантливые. А, плевать! Как той птице. Вскочил я на стул, руки за спину, и задремал. Снится мне лес, речка, неоглядные просторы Вдруг где‑то рядом стук какой‑то. Страшно! Дернулся, открыл глаза ах, вот откуда стук это кролик наш, Мишка Козаков, от напряжения рухнул с корточек на колени Кролик Глупое существо Можно опять помечтать Глаза опять пленкой подернулись. Да нет, не идет этот кролик из головы! Сбил весь сон! Вот он опять передо мной, сучит губками, аж посинел весь Так бы и клюнул его по башке! Э‑э‑э, связываться И опять лес, поля, свобода Черт, не могу заснуть, да и чешется что‑то под крылом Что это? Посмотреть, что ли? Ну‑ка, что там? Вроде ничего ничего, ни че го хр‑хр Что за смех? Чего это они? Надо мной?! (Все это рождается здесь, сейчас, неожиданно.) Плебеи!! Надо мной смеяться нельзя я горд, я летать могу вот, эх, э‑э‑эх, крылья раззудись плечо! Вот черт, крылья‑то подрезаны, не могу лететь скрыть от этих педагогов свою неловкую попытку полета: чего там, это я так, я петь, петь могу! Вот, пожалуйста: а! а! а‑а‑о‑у‑ы! Так что я не стесняюсь, а наоборот! Свободен! Ах, вам смешно, как я пою?! Так плевал я! Засну опять! Вот! Глаза закрыл. На мгновение один глаз приоткрыл: как они смеются?! Да. Ну и плевать! Спать.
Стоп! это Массальский. Ну что ж! Молодцы! Понял, что вы были вчера в зоопарке, наблюдали! Особо хочу отметить вас, Олег! (Я обмер от неожиданности.) Очень хорошо!! И характер есть, и образ мыслей понятен, и пластика рождается поэтому точная! Кстати, как эта птица называется?
Какая это была птица, я и сам не знал. Придумал от отчаяния, ведь отчислят:
Сип белоголовый, Павел Владимирович! Проживает в Северных Кордильерах. Я ее вчера наблюдал.
Я нагло врал, чувствуя успех.
И молодец! Хорошо поработал дома!
И Борис Ильич покряхтывает довольно и почесывает через голову правой рукой левое ухо.
Вот те раз! Когда старался ни черта не выходило, а тут от отчаяния плюнул на все и само собой пошло
Только потом, значительно позже, я понял, что это свободное состояние и есть состояние импровизационное, это «главное в творчестве актера» (Немирович‑Данченко).
Но почему оно возникло сейчас, это состояние, в момент отчаяния и упадка? Откуда эта неожиданная свобода и легкость? И почему нельзя опять, «по заказу» повторить его?!!
Еще школьником я был отравлен театром. Школа наша была мужская, дисциплина строгая. Девочек рядом нет, а как хочется чего‑то романтического И вот рождается идея создать драмкружок совместно с женской школой.
Ставили «Снежок» пьесу об американском мальчике‑негре, как ему там плохо. Репетиции, гуляния по вечерам Стояние под окнами Я познакомился в драмкружке с замечательной девочкой Лидой. Любовь ли это была?.. В кинотеатре «Колизей» мы сидели в задних рядах, рука в руке, не расцепить. Что там на экране не осознавали, главное рука в руке, сердце стучит, пальцы сжимают пальцы, мы одно целое Потом фанерные сиденья хлопают, все встают, загорается свет в зале, мы выходим на Чистые пруды. Искрится хрупкий снежок на тротуаре, провожаю Лиду до Лялиного переулка
«Как дева русская свежа среди снегов
Да, театром тут и не пахнет, тут совсем другое, но не менее прекрасное
Я ставлю для праздничного вечера в нашей школе акт из «Клопа» Маяковского, сцену свадьбы. На спектакле наш директор Михаил Иванович вспрыгивает на сцену и задергивает занавес: его возмутило «хулиганство» Маяковского. Скандал, мы пишем в «Комсомольскую правду»
Самодеятельный театр при клубе Министерства внешней торговли. В подвале здания был прекрасный зальчик мест на сто, с бархатными сиденьями, алым бархатным занавесом, пультом для управления светом. Ставим спектакли: «Два капитана», «Снежная королева», «Молодая гвардия». Я играю там роли Сказочника, Олега Кошевого, Николая Антоновича Татаринова. Руководствуюсь «Работой актера над собой» Станиславского.
Вот мой кумир Станиславский! Его фото у меня над столом, я опьянен его книгой «Моя жизнь в искусстве», подражаю ему, воображаемому мной Станиславскому, мой храм Художественный театр, его Чайка мой амулет, я рисую эскизы декораций, эскизы гримов Я первый среди равных, я пользуюсь успехом у зрителей, Минна Яковлевна Бланк, наш худрук, говорит мне: «Готовьте дырочку на пиджаке! Вы будете лауреатом. Идите, идите в Школу‑студию МХАТ, вы прирожденный артист!»
И я, опьяненный, «вгрызаюсь в роль», «ищу зерно», естественно, нахожу и демонстрирую всем свой талант и скромность, столь свойственную всем подлинным талантам И дальнейшую свою жизнь я вижу яркой, интересной: вот раздвигается занавес с Чайкой и завиточками а я на сцене МХАТа!.. Аплодисменты! Скромный поклон.
«Сип белоголовый», родившийся от отчаяния, вселил в меня надежду. Во время этюда я испытал чувство легкости и свободы, ранее на сцене никогда мною не испытанное
Но дальше дело что‑то не пошло Опять нудные этюды, опять зажим, пот и отчаяние. Женька Евстигнеев, пришедший к нам на второй курс уже готовым актером, во время этюда творил черт‑те что! Например, не просто вдевал воображаемую нитку в воображаемую иголку, а делал это в образе полуслепого паралитика, у которого одна рука кривая, а глаза смотрят в разные стороны; это было до икоты смешно. Вот где легкость, вот как и мне нужно! Но мой пиетет перед Чайкой, перед самими стенами театра, желание быть «подлинным мхатовцем» не давали мне возможности схулиганить, свалять дурака
Когда стали мы репетировать отрывки из пьес мне тоже не везло.
С Нонной Богданович играли мы отрывок из «Воскресения» Толстого Она Катюша, я Нехлюдов. Ну какой из меня, невинного во всех смыслах мальчика тогдашнего, раскаявшийся соблазнитель? Я лишь зажимался от смущения, пытаясь «играть взрослого» Ни о какой свободе и речи быть не могло Бывали, правда, и «взлеты». Но единичные. На общем фоне тяжелой неудовлетворенности Массальский работал с нами «Юбилей» Чехова. Да, там есть, где развернуться! Я играл Шипучина. Ситуация ясная, всё предельно понятно, играем, но не смешно! Долго мы пыхтели, определяли всё «по действию», искали «зерно», а выходило всё равно скучно и традиционно академично. И тут Паша так называли мы любимого нашего Массальского подкидывает мне краску: в минуту наибольшей безвыходности Шипучин издает этакий горловой писк от безнадеги, безвыходности! И тут роль пошла! Видимо, писк этот мог вырваться только в результате отчаяния, в котором пребывает Шипучин; без этого чувства полнейшей безнадеги, краха писк этот будет пустым наигрышем. И отчаяние это должно быть моим, подлинным, тогда всё будет оправдано, забудешь о зрителях, о стеснении И получилось!
Или готовились мы к поездке на целину нам сделали мхатовский занавес с завитушками и Чайкой, и мы репетировали концерт для целинников. Был сделан ряд отрывков из «Тихого Дона», что‑то еще, а Борис Ильич сделал с Володей Поболем и со мной чеховского «Жениха и папеньку». Я играл папеньку: халат, колпак, усы. Поскольку поездка эта и подготовка к ней не включалась в общемхатовскую традицию «мужественной простоты» и считалась этакой летней забавой, репетиции шли легко. Борис Ильич не мучил нас поисками «зерна» и сверхзадачи, и я с удовольствием репетировал этот водевиль, мы с Поболем буквально купались в его атмосфере.
На просмотре всей программы наш «Жених » был с презрением раскритикован за «легкомыслие и бездумность», досталось и бедному Борису Ильичу, и лишь педагог другого курса, Виктор Карлович Монюков, похвалил нас, поддержал, и мы поехали все‑таки. И у целинников имели большой успех!
Вообще эта целинная поездка отдельный рассказ. Я там очень сблизился с Леонидом Броневым и Евгением Евстигнеевым.
Нищий Женька, обычно одетый в почти прозрачный от ветхости костюм неопределенного цвета, с пузырями на коленях, раздобыл в костюмерной МХАТа элегантный смокинг, бабочку, лаковые ботинки. При его худобе этот наряд производил неизгладимое впечатление. Был, правда, один изъян: спереди брюки были залиты чем‑то белым, но если смокинг застегнуть то и незаметно. Элегантен был Женька, как бог! Уж он‑то умел носить костюмы, как никто!! Женька читал что‑то и пел под гитару
Мы проехали весь северный Казахстан. Степь и суслики Ишим‑река почти пересохла, но на глубоких местах вода еще оставалась, и рыбы там было!! На палец намотаешь веревку, загнешь тонкий гвоздик, на гвоздик хлебный мякиш и в воду. И цап! здоровенная рыбина у тебя в руках!
По вечерам приезжали в очередной совхоз, как правило, носивший символическое название: «Целинный», «Ленинградский». Подтягивались жители ближайших совхозов. Грузовики вставали полукругом, из двух делали сцену, натягивали наш занавес с Чайкой, люди рассаживались на скамейках и стульях, а то и на земле
На сцену этаким лондонским денди, этаким вольным фертом выходит Женька и начинает читать. Зрители смеются, хлопают!
Однажды Женька, окончательно уверовав в свою неотразимость, забыв обо всем, расстегнул смокинг, сунул руку в карман И вдруг:
Уйди со сцены! Блядь такая!
Саня, Саня, сядь, что ты! Что ты!
Уйди, блядь! Убью!.. и бросил табуреткой в Женьку. Но промахнулся.
Это одного из целинников так ввело в заблуждение пятно на Женькиных брюках. С тех пор он ходил только в наглухо застегнутом смокинге.
А мы с Поболем имели неизменный успех и были счастливы.
Эх, Володька Поболь! Сколько надежд было с ним связано Худенький, с хрипловатым голосом прямой наследник мхатовского юного Яншина Юмор, органика!
Вечная трагедия русского актера водка Она, проклятая, и Володькино безволие погубили его Давно уж нет его на этом свете, а все вспоминается Царство ему Небесное!
Царство Небесное и другим друзьям моим по студии, моим верным товарищам‑мхатовцам, тем, которых уже нет, которых никогда не забуду и буду помнить о них, как о верных спутниках одного из самых счастливых периодов моей жизни Школы‑студии МХАТ, несмотря на все горести и неудачи всем вам, дорогие мои, низкий поклон и спасибо за всё!
Что‑то я вперед забежал нет‑нет, мы еще студийцы, все живы, здоровы, никто не спился, надежда светит нам, за стеной чудо мхатовской Чайки. Иногда Сталин к нам приезжает я не шучу! Иногда в аудиторию (а они все выходили окнами во двор МХАТа) входили двое, задергивали шторы, садились с двух сторон от окна это, значит, Сталин приехал в свою ложу на спектакль.
Мы продолжаем занятия. Мы приобщены.
Кстати, о Сталине.
Сталин с детства родной, любимый! Он всюду: в солнечных искрах велосипедных колес, в голубом безоблачном небе над Москвой, в надежде нашей на защиту от врага в черном 1941‑м, в географической карте, утыканной флажками освобожденных нами городов Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии
Гром и радостное волнение праздничных салютов это Сталин.
Первые «коммерческие» магазины, где всё невиданное икра всех сортов, осетры, ананасы, пирожные, белый хлеб, незнакомый нам доселе, сыры, колбасы, фрукты это Сталин! Новые автомобили сияющий хромом шикарный «ЗИС‑110» с кожаным нутром, «ЗИМ», «Победа», эти провозвестники новой, грядущей изобильной жизни это Сталин, Сталин!
Как там Сталин, как выглядит?
Похудел, осунулся (это после одной из первых послевоенных демонстраций).
Конечно, легко ли: четыре года и каких! Всё на его плечах. Устал, видно, очень!
И опять отмена карточек, ежегодное снижение цен.
А высотные дома?!!
Вот она, новая жизнь! Прекрасный мраморный дворец, у подъезда «Победа», на столе вкусная и здоровая пища. Колосящиеся нивы колхозные, новые шоссе, самолеты лесополосы
Как ты думаешь, а Сталин иногда все‑таки срёт? задал мне неожиданный вопрос сосед Витька Альбац.
Я в шоке, не знаю, что сказать. Не могу думать о вожде, как об обыкновенном человеке!
Высоко в ночном небе над Москвой сияет портрет товарища Сталина, озаренный лучами сотен прожекторов.
Его именем названа главная премия страны. Как гордо звучит: Сталинская премия! Ее лауреатами стали многие из наших педагогов, артистов МХАТа.
А юмор? Добрый сталинский неповторимый юмор?!
Вождь присутствовал на просмотре фильма «Поезд идет на Восток», сюжет которого представлял собой долгое путешествие в поезде офицера‑моряка и его спутницы из Москвы во Владивосток. Когда поезд в фильме в очередной раз остановился, Сталин спросил режиссера:
Это какая станция?
Новосибирск, товарищ Сталин.
Ну, я, пожалуй, на этой станции и сойду.
И вышел из зала.
Режиссер валится с инфарктом. Блеск!
Или на банкете в Кремле Сталин присаживается к Любови Орловой и ее мужу, режиссеру Григорию Александрову:
Как он к вам относится, товарищ Орлова?
Хорошо, товарищ Сталин.
Сма‑а‑атри, если будет плохо относиться, скажи нам, мы его повесим!
За что, товарищ Сталин?!!
Пауза.
Поднимаясь со стула:
За шею.
И пошел дальше, к другим гостям.
А?!
Или со Станиславским, бедным перепуганным Станиславским, скачущим по лестнице МХАТа в ложу приехавшего в театр вождя, в ужасе спрашивающим у встречных: «Как его имя‑отчество?!! Не могу же я его называть товарищем?»
А в ложе Иосиф Виссарионович ласково так:
Почему больше не идет спектакль «Дни Турбиных»?
Они запретили
Кто это «они»?
Большевики
Ну, хорошо, я поговорю с ними. Думаю, они разрешат.
2 марта 1953 года мы с Таней Дорониной поздно вечером шли по Театральному проезду.
Видим очень ярко светятся все окна Дома Союзов. Просто небывало ярко.
Кто‑то, наверное, умер там, в Кремле, сказала Таня.
А на следующий день, 3 марта, нам объявили о болезни вождя, а затем 5‑го и о его смерти.
Мы стоим вчетвером мама, папа, бабушка и я у гвоздя, на котором висят наушники, и слушаем голос Левитана громкий, с длинными паузами, превозмогающий горловые спазмы: « Коллапс Иосиф Виссарионович Сталин скончался »
Раздаются рыдания. Это бабуля, колобочек мой, епархиалка, лишенная всего: квартиры, достатка, вынужденная тайком молиться, тайком ходить в церковь Папа, как‑то странно взглянув на нее, бормочет: «Ну да со всяким может случиться »
Во МХАТе рыдающий Кедров, заплаканные студенты.
Миллионы рыдающих съезжались со всей страны прощаться с отцом народов в Доме Союзов.
А я, как‑то не подумав, решил ехать 5 марта, в день похорон, кататься на лыжах в Сокольники. Дошел по Чистякам до «Кировской», а там громадная толпа: слушают прямую трансляцию с похорон
Поднимаюсь по ступенькам ко входу в метро и слышу доносящийся из репродуктора голос Берии, срывающийся на визг:
Кто не слеп!! Тот видит!! Что Сталин был выдающийся, гениальный руководитель страны!!! Кто не слеп!!! Тот видит!!!
Левитан мужественно превозмогая себя:
Гроб с телом товарища Сталина вносят в Мавзолей
И вся площадь перед метро срывает шапки и, рыдая, опустив головы, стоит, слушает Шопена
Я повернул назад, по Чистякам, на Покровку.
Сквозь многотысячные толпы, сквозь заграждения я все‑таки прорвался тогда в Колонный зал, к гробу Поразило меня полное отсутствие торжественности Пыльно, светло Венки
Я подошел к гробу человека, рядом с которым я рос и жил, лицо которого, доброе и смешливое, я видел на миллионах портретов. Тот, кому я, счастливый, махал руками на Красной площади, а он махал, улыбаясь, мне в ответ.
Вот он передо мной.
Совсем рядом.
В мундире.
Только какой‑то злой. И левая рука скрючена
Зрители и актёры
Как важен для театра, для спектакля настрой зрителя! Настроенный на восприятие спектакля именно в этом театре, именно этого автора, с этими актерами такой зритель определяет успех спектакля; в первую очередь он, а не актеры, как многим из нас кажется. Теплая волна соучастия, предощущение чуда, радостный духовный отклик на первые признаки его появления!.. Актер чувствует эту волну, купается в ней, и вот уж они вместе творят чудо зритель и актер, творят сегодня, сейчас, в эту минуту.
Таким зрителем был я.
Свет в зале меркнет, но не гаснет окончательно, начинает ярко светиться подсвеченный рампой оливковый занавес. И вот о чудо! о счастье! занавес тихо и торжественно раздвигается, и дрожь пронзает, мурашки бегут по телу Я вижу большую светлую залу, сзади большие двери, полураспахнутые в сад, там свежая зелень, солнце! У дверей несколько военных курят, стараясь не дымить в залу, доносятся их голоса: «Черта с два!..» Прямо перед нами справа софа; на ней, вся в черном, женщина читает книгу В зале еще две женщины, одна совсем молоденькая, в чем‑то светлом Солнечные пятна колышутся на стенах, на вазах с цветами, на платьях
Но отчего все увиденное вызывает странное ощущение? Всё в нем смешалось: и счастье солнечного радостного утра, и тоска по чему‑то далекому и ушедшему навсегда. Ведь никто еще в этом зале, пронизанном солнцем, не сказал ни слова А мурашки от увиденного уже бегут по спине
Офицеры там тихонько о чем‑то говорят, посмеиваются, солнце играет, птички тихонько пикают в саду, женщина в черном, в большой черной шляпе читает на диване
Ах, вот оно, вот же: «Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина Было очень холодно, тогда шел снег »
Ну как же, как же, я это понимал: радость праздника именин и грустная годовщина смерти любимого отца два эти чувства слились вместе и перелились в зрительный зал, заразили зрителей, заразили меня, и я готов к восприятию дальнейшей жизни трех сестер Прозоровых!..
Как же, видимо, наполнены были актеры на сцене этими чувствами, чтобы в общении пока бессловесном со зрителем возникла и утвердилась эта печально‑радостная атмосфера! И насколько организм зрителя должен быть готов к тому, чтоб уловить вот это трудноуловимое, то, о чем так топорно написал я! Как должен хотеть зритель почувствовать эту первую ноту в безмолвии!
Я был готов к восприятию всего, что делалось во МХАТе. Зачастую я даже преувеличивал значение увиденного, добавляя к нему собственные надуманные восторги Чаще всего меня поражала, завоевывала атмосфера действия.
Например, конец третьего действия «Трех сестер», раннее‑раннее даже не утро, а серо‑бледный намек на утро; сестры стелют постели за ширмами, взмахивают простынями, еле видными в этих утренних сумерках. Словно птицы пытаются взлететь и не могут Вдруг раздается глухой и громкий стук.
Кто это стучит в пол?
Это доктор Иван Романыч. Он пьян
Оля! Поедем в Москву! Умоляю тебя, поедем! Лучше Москвы нет ничего на свете! Поедем, Оля! Поедем!..
Медленно идет занавес с Чайкой. Разгорается свет в зале. Я, пытаясь скрыть слезы, иду курить
А густая, чисто московская замоскворецкая атмосфера домика стряпчего Маргаритова, домика, занесенного снегом по ручку двери?.. В изразцовой печке мечется жаркий огонь, дрова потрескивают, а за крохотным окошечком густые синие сумерки в снегах «Поздняя любовь» Островского
Бревенчатые стены с картой Африки, освещенные желтым светом керосиновой лампы. За окном тьма, буря, дождь, изредка молния полыхнет, и слышно: ливень шумит по крыше, вода льется по трубам в бочки, хлюпает в саду, постепенно стихает «Важный дождик». Потом все тише тише вот и совсем тихо только сад капнет и вслушивается все ли он один на свете Тишина. На кружевных занавесках, на самом верху их первый нежный розовый отсвет солнца и птичка: пик‑пик «Дядя Ваня»
И как же легко и свободно должно быть мне, думал я, попади я туда, в эту густую атмосферу! И невдомек пока было, что атмосфера прежде всего в душах артистов, в их состоянии, а все остальное только поддерживает, помогает
Мои учителя
Борис Николаевич Симолин читал у нас историю искусств. Маленький, выцветший какой‑то, глаза голубые, ласковые, усики еле видны Костюм старенький, мятый Приносил с собою проектор, проецировал на стенку старые, в заломах, фотографии
Только человек, влюбленный в предмет рассказа, мог так заворожить аудиторию
Вот он говорит о древнегреческом искусстве. Описывает Нику Самофракийскую:
Берег моря. Вот стоит она, расправив крылья, богиня победы Ника! Тяжелы складки ее туники Поднимите глаза выше, выше! Туника уже легка, она плотно облегает грудь богини, словно стяг, полощется за спиной! Еще один взмах крыльями она взлетит, она свободна, грудь ее полна морского воздуха, и свобода, свобода поднимает ее ввысь!!
Борис Николаевич встает в позу богини. Маленький, в нечищеных ботинках, в брюках с пузырями на коленках, он поднимает руки, словно крылья. Пиджак обнажает штопаную подкладку, но Симолин прекрасен!! Я вижу стройную Нику она вот‑вот взлетит, она торжествует от счастья победы, она объемлет всех нас в радостном порыве и зовет вверх, вверх! В бездонное синее небо!!!
Борис Николаевич опускает руки, просит задернуть шторы, включает проектор. И мы видим тусклое изображение Ники на стенке. Фото старенькое, в трещинках Стоит статуя. Без головы. Скучный старый камень
Друзья! Войдя в парижский Лувр (это говорилось в 1953 году, какой там Лувр! в Болгарию не пускали!), вы, дорогие мои, сразу попадете в длинную высокую галерею. В конце ее, на широкой мраморной лестнице, наверху вы сразу увидите ее, Нику. Остановитесь!! Она приглашает вас к себе издалека, она зовет! Посмотрите на нее несколько минут, запомните ее. Затем опустите глаза и, глядя в пол, пройдите сто шагов. Да‑да, Козаков, сто шагов, не больше, не меньше! Да, можете сосчитать!! Стоп! Остановитесь! Симолин останавливается, замирает и медленно поднимает глаза вверх и изумленно:
Она иная!! Совсем иная! Она вместе с вами пытается взлететь! Да‑да, вы уже чувствуете: морской воздух, соленые брызги Эгейского моря сделали влажными складки ее туники, они тяжелы, мешают, брызги обдают и вас, вас! Вы чувствуете это? Запомните ее. Стоп!!! Стоп!!! Опустите глаза вновь. Поднимайтесь по лестнице, не поднимая глаз, да‑да‑да, Козаков, не поднимая! И вы вы вместе со мной замрите у ее ног.
Симолин замирает и осторожно, словно боясь чего‑то, поднимает глаза:
Боже! Мы летим!! Летим вместе с нею! Ее крылья поддерживают нас! Внизу море, горы, города, войны, а мы летим, летим в небесной синеве! Мы свободны!!! Мы свободны, дорогие мои!
Позже, в Париже, мы с моей подругой‑партнершей Ирен Жакоб пришли в Лувр. Я был там впервые. Я рассказал Ирэн о своем учителе, о том, как тот велел приближаться к богине И мы пошли.
Вот она, Ника, далеко видна на лестнице. Богиня приветственно раскинула крылья, приглашая в полет. Она звала нас! Звала на что‑то большое и радостное. Подошли ближе да‑да! Симолин прав она напряглась, пытаясь оторваться от земли, но как тяжело ей
Встали у подножия, подняли глаза, и дух захватило!! мы летим!! Мы слышим свист ветра в перьях ее крыл!! Мы летим в синем безбрежном океане свободы
Спасибо вам, Борис Николаевич! В страшном 1953 году вы заставили меня почувствовать счастье освобождения, я не понимал тогда освобождения от чего, зачем? но радость была
Тогда в Лувре, в котором вы никогда не были, я прошел маршрутом, по которому вы никогда не ходили, но вы были со мной рядом, мы вместе застыли у ног богини, и соленые брызги Эгейского моря оросили мое лицо. И ветер неведомой свободы подхватил и понес нас.
Несколько лет спустя после окончания Школы‑студии я узнал, что Симолин повесился.
Вениамин Захарович Радомысленский. Веня.
Директор Школы‑студии при МХАТ СССР им. Горького.
Друзя мои!.. так начинал он любую свою речь перед нами, студентами.
Друзя мои! Помните, что вы мхатовцы. Это налагает на вас большую ответственность. Вы не имеете права нигде, ни при каких обстоятельствах ронять честь и достоинство человека, приобщенного к великому искусству Художественного театра
Друзя мои Я тоже бываю пяный и я тоже люблю коняк но и в пяном состоянии вы должны помнить
Говорит тихо, медленно, ласково, с придыханием
Да, друзя должны помнить Это вас касается, друг мой Косолапов И вас, дорогой мой Фоменко
Рассказывает, как однажды Константин Сергеевич повез одну молодую актрису своего театра за город, в Сокольники. Долго в молчании ехали на извозчике, тарахтя по булыжнику. Остановились у домика с вывеской «Фотографiя». В витрине среди разных фотопортретов выделялась фотография той, кого он привез: красавица с прекрасными распущенными длинными волосами.
Вот! сказал Константин Сергеевич. Вот!! Как вы могли?! Ведь вы артистка Художественного театра! Как вы могли выставить свой портрет в дешевой лавочке, да еще в таком неглиже волосы распущены, томный взгляд Вы что, служите в салоне мод или в кафешантане? Артист Художественного театра и за его пределами должен оставаться художественником повсюду всегда нести в народ свое понимание мира, театра вкуса, если хотите. Глядя на ваш портрет, люди подумают, что Художественный театр обычный каботинский театрик, где актрисы с купцами пьют шампанское в антракте, а после разъезжаются по номерам! Вы разрушили своей фотографией то, что с таким трудом мы создавали вместе с Владимиром Ивановичем! Что делать?.. Что теперь делать?!! и заплакал
Вениамин Захарович был еще и помощником Станиславского по домашней студии Константина Сергеевича в Леонтьевском переулке. Благодаря Радомысленскому Школа‑студия стала частью театра, ее атмосфера во многом была сродни атмосфере МХАТа.
Стараниями Вениамина Захаровича нашу Студию посещали люди, общение с которыми могло бы расширить наш еще довольно скромный кругозор.
Читал Чехова, Пушкина великий Дмитрий Николаевич Журавлев.
Играл на рояле молоденький тогда Наум Штаркман.
Играл Отелло осетинский трагик Владимир Тхапсаев.
Беседовал с нами Александр Вертинский:
Вы, молодые люди, газучились гэвэгить пэ‑гусски Нэпгимэу, вот стоит стакан Дэ?.. И сколько звучаний имеет это слово!! Ведь можно сказать СТАКАН. И сгэзу видно, что сделан он из обычного бутылочного стекуа А вот вам СТЭ‑К‑К‑Э‑Н‑Н‑Н!. это чистый хгусталь, звон
Назым Хикмет, турецкий поэт, говорил, что в СССР предано забвению народное искусство
Однажды на вечер памяти Василия Ивановича Качалова пришла к нам Ольга Леонардовна Книппер‑Чехова. Мне не повезло я в тот вечер был назначен дежурным по Студии, должен был следить за порядком и тишиной в коридорах и потому в зрительном зале не присутствовал.
Верный принципу «люби искусство в себе, а не себя в искусстве», я ни разу не заглянул в зрительный зал, а бдел тишину в Студии, таким образом, не услышав ничего о Качалове от Книппер.
Друг мой, пожалуйста, проводите Ольгу Леонардовну вниз по лестнице к машине, она не любит лифты, с придыханием попросил меня Вениамин Захарович.
Из дверей выплывает величественная старуха грузная, седая, невысокая, в коричневом платье, кружевах, на длинной цепочке поблескивает большой медальон с белоснежной Чайкой. И я, трепеща, поддерживая под локоть, веду ее к лестничной площадке. Нам предстояло спуститься на один этаж.
Ольга Леонардовна, опираясь на мою руку, тяжело шагает по лестнице.
«Что бы такое спросить?!!» стучит в моей голове, но я не могу придумать никакого путного вопроса, только глупость какая‑то вертится: «Ну и как вам Антон Павлович?» или «А вы читали «Даму с собачкой»?!!» Нет уж, лучше молчать.
И тут Книппер‑Чехова сама нарушает тишину и молвит низким голосом:
Антон говорил: учитесь у жизни В творчестве не надо идти на поводу у литературы. Жизнь, ее отражение единственное, ради чего стоит работать в театре И вам, молодой человек, советую прислушаться к этим словам
Все это говорится с остановками, медленно, со ступеньки на ступеньку
Я что‑то вякаю: ну, это ясно, а как же, неплохая, дескать, мысль.
Наконец мы внизу, у машины. Что дальше?! Лихорадочно перебираю в голове все известные мне правила хорошего тона (преподаватель Волконская).
Хорошо, говорит Книппер, в награду за вашу любезность, молодой человек, позволяю вам дотронуться до этого медальона с Чайкой и посмотреть, что написано на его обратной стороне
Я дрожащей рукой касаюсь медальона, медленно поворачиваю его и вижу выгравированную на металле надпись: «Если тебе будет нужна моя жизнь, то приди и возьми ее. Антон Чехов».
Вот Вот и соврал. Да. Не удержался.
То есть было все: и Книппер, и коричневое платье с кружевами, и медальон, и лестница
Но до медальона я не дотрагивался. Не предлагали.
А так хотелось!
Виталий Яковлевич Виленкин преподавал нам историю МХАТа. Он рассказал мне однажды, как в период его работы во МХАТе помощником Маркова, тогдашнего завлита, был послан с запиской к Немировичу. Виленкин схватил записку и побежал. Шел спектакль. Кабинет Немировича располагался по другую сторону сцены.
Можно было пройти кружным путем, но Виленкин, сокращая путь, помчался через сцену, позади декораций. Бежит в полутьме, и вдруг голова его с размаху утыкается во что‑то теплое и мягкое чей‑то живот. Поднял глаза (а Виленкин был тщедушного сложения, маленького роста), видит далеко вверху усы, пенсне Господи, это сам Станиславский в роли Гаева
Что это?!! Кто вы?! прошептал Станиславский возмущенно.
Виленкин тоже сдавленным шепотом стал объяснять, что вот, дескать, записка, поручение
Будьте любезны завтра пожаловать ко мне в одиннадцать утра.
Назавтра в одиннадцать Станиславский повел Виленкина на сцену. Он объяснил ему, что работникам театра независимо от их положения строжайшим образом запрещено во время спектакля находиться на сцене. Ну, а уж если возникла срочнейшая необходимость пройти через сцену надо идти специальной походкой, чтоб ни малейшим звуком, скрипом, шорохом не помешать спектаклю, не нарушить его художественной целостности.
Вот эту походку, молодой человек, мы с вами и отрепетируем сегодня, раз что вы работник нашего театра. Во‑первых, надо идти не с пятки: она, соприкасаясь с планшетом сцены, издает стук. Ступать надо на носок и медленно‑медленно переносить тяжесть тела на всю стопу. Так же и следующей ногой с носка и на пятку! Попробуйте.
Виленкин пошел. Но, как ни старался, все‑таки какие‑то скрипы и шорохи издавал.
Нет. Не верю! Вы не чувствуете, что на сцене происходит акт художественного творчества! Представьте себе, что сейчас идет «Вишневый сад» или «Три сестры». Наступил ранний‑ранний рассвет, и только первая птичка робко попробовала голос Тишина Ну‑с, еще раз!
Опять Виленкин пробует. Опять неудачно. Станиславский останавливает его:
Нет. Не то. Вот смотрите.
И сам начинает громадными шагами красться по сцене. Но и у него иногда скрипнет доска в планшете сцены.
Так. Видите? Скрипит! Попробуем еще раз!
И опять, балансируя руками, крадется вдоль декораций. Еще и еще.
Теперь вы! Включите воображение! Итак, предрассветная тишина, все замерло Идите! Так так хо‑ро‑шо Стоп!!! Опять скрип! Еще раз!
И неважно ему было, что Виленкин не артист, а служащий в театре. Он не отпускал беднягу до трех часов, пока не добился от него совершенно беззвучной походки
Как‑то под часами, висевшими перед выходом на сцену у диванчика, где собирались все участники предстоящего акта пьесы, появился приказ:
«Мною замечено, что артист Станиславский вошел на сцену во втором акте Вишневого сада, не обмотав мягкой тряпочкой конец палки, которая при соприкосновении с планшетом сцены издавала громкий стук, что разрушило художественную цельность спектакля. Приказываю лишить господина Станиславского месячного жалованья за это нарушение.
Станиславский‑Алексеев».
Сейчас это звучит как анекдот.
Все четыре года обучения в Студии мастерство нам преподавал Борис Ильич Вершилов. Это он фигурирует у Булгакова в «Театральном романе» под фамилией Ильчин. Это он, Вершилов, принес во МХАТ роман «Белая гвардия» и начал репетиции пьесы «Дни Турбиных», потом уступив свою работу Илье Судакову. Это он помогал Станиславскому работать над многими спектаклями «Женитьба Фигаро», например. Почему прекратилась его работа во МХАТе для меня тайна.
Сутулый, медлительный, с остатками рыжеватых волос, плотно приглаженных к сияющей лысине, с неизменной усмешкой. Никогда не повышал голоса, говорил с хрипотцой, хмыкая, откашливаясь в носовой платок. Он некогда работал в Вахтанговской студии, но рассказывал о ней редко. Вообще мхатовцы были крайне осторожны с воспоминаниями. Поэтому для нас, студентов, Булгаков, например, был лишь неплохим драматургом, один спектакль по его пьесе «Пушкин» был поставлен во МХАТе, когда‑то шли «Дни Турбиных», но декорации сгорели. О существовании романа «Мастер и Маргарита» никто и не знал. «Театральный роман», «Записки на манжетах», «Собачье сердце» все было под спудом
А Михаил Чехов мы и имени такого не слышали.
Как‑то клею себе нос из гуммоза, рядом Массальский, вдруг говорит: «Не надо так много! Вот Миша Чехов: крохотную гуммозную горошину, бывало, положит, еле видную, а характер готов!» и тут же осекся, посуровел, отошел.
И вот, представьте, на четвертом курсе как‑то после репетиции Вершилов в неизменной своей позе: сидит, откинувшись на спинку стула, нога за ногу, левая рука закинута за спинку стоящего рядом стула, в неизменной чуть потрепанной бабочке, поношенном уже темно‑синем костюме, как всегда, как‑то странно ухмыляясь, глядя белесыми, чуть навыкате глазами куда‑то в пол, говорит, похмыкивая:
Да эхгм когда я работал в студии у Вахтангова э‑эхгм Миша Чехов был приглашен Станиславским в Художественный театр на роль Хлестакова в «Ревизоре» Тот был, конечно эээхгм!.. счастлив необычайно. Правда, он тогда был, надо сказать, наиболее популярный молодой артист в Москве да и не только роли в «Сверчке на печи», «Гибели «Надежды»» в Вахтанговской студии да и в «Короле Эрике XIV» это уже я эхгм с ним работал принесли ему необычайную славу Но Художественный театр это Художественный театр эхгммм. Да. Миша артист был поразительный. Вот вы меня спрашиваете: что такое гений?.. Так вот Миша гений. Он позволял себе, волнуя всех, прибегать буквально за две минуты до начала спектакля, хотя общая явка назначалась за два часа, а играл поразительно! Станиславский, узнав об этом, издал распоряжение «Мною замечено ». Да нарушение этики и всякая такая вещь обязал его, как и всех, приходить за два часа до начала собраться, настроиться и прочее.
Стал приходить за два часа но играть все хуже и хуже Да такая история Станиславский издает новое распоряжение «Мною замечено ». Короче, все обязаны приходить за два часа, а Чехов «не ранее, чем за пять минут до начала». Да И Миша заиграл!!!
Борис Ильич смотрит на нас с ухмылкой, один глаз прищурен, другой, белесый, навыкате, пристален. Продолжает хрипловато:
Да Эээхгмм! Так вот Хлестаков Там заняты все первачи МХТ Москвин, Книппер, Грибунин Да Миша счастлив необычайно. Начал репетировать с Константином Сергеевичем. В общей сложности они около года репетировали. И Миша становился все мрачнее и мрачнее. И худел. Он и так‑то эээхгмм!.. сложения субтильного, а тут совсем в тень превратился. Жаловался мне, что ничего ни‑че‑го не выходит. Что старик это он о Станиславском садистически мучит его Иногда, правда, приходил счастливый получилось!!! а потом опять в ужасе и панике «Я, говорит, убью его! он мучит меня! Я куплю пистолет и убью!» Чем ближе к премьере, тем больше ужаса в его глазах. Чует неминуемый провал. «Там, говорит, Москвин и прочие блистательно работают, а я на их фоне бездарный заштатный актеришка. И весь этот мой успех в Студии ничего более, как местечковые радости». Да местечковые радости эээхгмм! И вот одна из первых репетиций на публике. Миша приглашает всех своих товарищей и меня в том числе. «Приходите, говорит, обязательно все!! Один раз опозорюсь, а дальше хоть трава не расти!.. На мой вопрос: «Ну как, выходит?» затряс отрицательно головой. «Это конец » махнул рукой безнадежно в глазах слезы Эээхм‑гм. Да
И вот мы на спектакле. В зале вся Москва
Меркнет свет, открывается занавес чудесные декорация Добужинского «Я пригласил вас, господа » Москвин, чиновники, городничиха, удивительно найдены характеры атмосфера провинциальной России А вторая картина под лестницей Грибунин Осип удивительно ххэгмэээххгм да играет такой быт, точно воплощенная Россия где‑то там за Пермью, или э‑эх‑хммгмм да, извините за Молотовом
И вот вертится ручка двери входит Миша Ужас. Бледный от дикого панического ужаса, мокрый как мышь. Да совершенно белый от ужаса и мокрый пытается свистнуть, но губы пересохли от волнения, свист не получается да ну, думаем ээх‑хмг все, провал
И вдруг весь зал, все до одного человека встал. Да. Встал иээхмгм!!.. Потому что на сцену ворвалось настоящее, на самом деле не игра, а настоящее ужас, паника человека маленького, тщедушного, попавшего вместо Саратова черт знает куда, вот уже несколько дней без гроша в кармане, голодного, живот прилип к позвоночнику да
И зал увидел не актера, а живого человека, попавшего в эту ситуацию. Миша мгновенно понял, почувствовал да иээхммгм!.. почувствовал нутром, понял, что вся эта театральная элита у него вот здесь!
Борис Ильич вытянул вперед руку в белой манжете с железной запонкой, сжал ладонь в кулак. Сильно сжал, косточки побелели Посмотрел на кулак с ненавистью:
Да вот здесь!!! И пошел откалывать номера! Это был триумф!!! Старик да год мучил его заставил почувствовать да кожей почувствовать
Борис Ильич смотрит на нас с ухмылкой; один глаз прищурен, а другой широко раскрыт, рука с кулаком вытянута. Вдруг сразу обмякает, суровеет, взгляд гаснет и переходит внутрь; он встает и, сутулясь, направляется к двери. Оборачивается: «До завтра».
Часто спрашиваю себя: а может ли юноша, не имеющий фактически никакого представления о жизни, не имеющий твердой гражданской позиции, ни разу не ошеломленный вопросом, зачем он живет в этом набитом мириадами звезд бездонном черном страшном пространстве, быть актером?
Или, точнее, имеет ли он право выходить на сцену? Что он несет зрителю? Для чего? Может ли он, будучи равнодушен к бедам окружающих, быть неравнодушным к судьбе персонажа, которого ему предстоит сыграть?
Вспоминаю лето, по‑моему, 1946 года. Станция Пушкино. Мы с друзьями перебираемся через многочисленные разветвленные железнодорожные пути. Жарища. Пахнет дегтем от шпал, каленым железом, паровозным дымом
Мы едим мороженое, за которым ходим на станцию. Идем не торопясь, облизывая вкусные морозные кругляшки в вафельках. На запасном пути стоит поезд: коричневые товарные вагоны «40 человек, 8 лошадей».
Под крышами вагонов по два зарешеченных окошечка. Часовые с винтовками Малиновые фуражки Жара
Видим из‑за одной решетки оконной, тюремной чьи‑то руки, за другой очень бледное лицо. Пытаются привлечь наше внимание
Магадан Воркута Состав с заключенными. Что‑нибудь шевельнулось в моей душе? Ненависть и праведный гнев, например, к врагам народа хотя бы? Или наоборот сострадание к попавшим в беду людям, заключенным в эти раскаленные ящики на колесах? Ничего. Для меня и моих друзей этот товарняк был составной частью, условием нашей жизни как, допустим, вечер, или дождь, или мороз
Вот уже четвертый курс, мы репетируем «Нору» Ибсена, «Глубокую разведку» Крона, водевиль «Два труса», «Сомов и другие» Горького, «Машеньку» Афиногенова, «Волки и овцы» Островского.
Блистательно репетирует Женька Евстигнеев Мориса в «Глубокой разведке», Лыняева в «Волках и овцах».
Да почти каждый нашел что‑то для себя, отрабатывает детали на репетициях.
У меня все валится из рук
«Нора» Ибсена. Я муж этой прелестной женщины. Собственник, эгоист, честолюбец Нечуткий к переживаниям других, гордящийся чистотой и порядком в доме, где Нора должна играть роль прелестной белочки‑игрушки, послушной воле своего Хельмера. Мне ли, неопытному юнцу, сразу же попавшему под каблук очаровательной повелительницы Татьяны Дорониной, с которой мы поженились еще на третьем курсе, испытавшему на собственной несчастной шкуре все прелести несхожести менталитетов родителей и жены, постоянно мечущемуся между этими двумя огнями, мне ли дано было испытать и почувствовать прелесть пребывания в уютном доме, где так все мирно и послушно моей воле, где я царь и бог, где жена послушная рабыня, забавная и тихая белочка
Бедная моя бабуля, сколько сил она потратила со мной на заучивание текста, на попытки как‑то ободрить, успокоить. Без толку все
Ты уж Пашу не огорчай, беспокоилась бабуля.
А Паша Павел Владимирович Массальский делал все, чтоб помочь мне, показывал, проигрывал за меня куски роли, мрачнел, требовал отмены «плюсиков», когда я очень уж старался, и, наоборот, когда я убирал «плюсики» требовал «большей отдачи»
Ночей я не спал, воля моя ослабла, но надо, надо, надо!!
Вы, Олег хммг да Ваша главная работа это «Нора» да. Вы должны лишь на ней сосредоточиться. (Это Борис Ильич Вершилов, с которым я репетирую Сомова в пьесе Горького и Беркутова в «Волках ») Да сосредоточиться Думайте об этой роли. А о нашей х‑х‑ммг!.. работе: не уделяйте ей много времени, ведь это всего по одному акту у вас, так что Нора, Нора, Нора! Да! И пошел, прищурясь. Снял с меня напряжение, хитрец!
Мне полегчало: не надо над Сомовым ломать голову Я и не ломал. Текст знаю и слава богу! («Нора» вот болезнь моя!) «Сомов и другие» одна из «идеологических» пьес Горького; в ней враги советской власти во главе с Сомовым затевают ее свержение. Первый акт, который мы репетировали: вечер, мы выходим из дома на террасу и продолжаем наши антисоветские разговоры.
Все разобрано до мелочей: обстоятельства, сверхзадачи, задачи, действия, круги внимания, все по системе Станиславского. Все вроде верно. Но неимоверно скучно, плоско и неинтересно.
И вот однажды
Как вы думаете, спросил Борис Ильич, обращаясь к нам, как вы думаете, который сейчас час? То есть да в котором часу закончили они, ваши персонажи, свое собрание и вышли на террасу?
Часов в восемь вечера
Так Июль Заседали они с десяти часов утра эххмг да значит, сидели они в эту июльскую жару в душной прокуренной комнате да форточки плотно закрыты, чтоб никто не подслушал дышать нечем да наконец все на террасу. А вокруг июльский вечер, речка блещет между березами, свежайший воздух Хорошо А ведь закат всегда несет с собой умиротворение и печаль Как прекрасна и грустна вечерняя земля!.. Ээххмг!.. И как ничтожны да да ничтожны все эти политические игры да и все эти театры, успехи и неуспехи, удачи и неудачи по сравнению с вечной красотой природы, с розовыми от закатного солнца верхушками берез, с алыми стволами сосен да Помните Левитан «Вечерний звон» или «Околица», да?.. Ээххммг!! И вот отдать эту грустную красоту каким‑то хамам?.. Ээххммг это они так считают хамам да А ведь эта красота и печаль вечерняя ради нее они готовы да готовы отдать жизни Вспомните‑ка свои ощущения после жары дневной начинается закат Чистое розовое небо покой Давайте‑ка на ближайшие дни займемся этюдами на эту тему, забудем пьесу Ээхммг!
И несколько дней мы делали этюды, чтобы уловить ощущение этого июльского вечера, не изобразить человека, которому, дескать, «ах, как хорошо вечером, ах », а почувствовать эту подлинную атмосферу «Вечернего звона» в своей душе, зажить ею
Как ударил хрустальной чистоты воздух в сердце, когда неожиданно дверь из прокуренной, душной невыносимо комнаты открылась, и я очутился в этом печальном вечернем раю!!! Как поменялась атмосфера; как новая, прекрасная, вытеснила первую, плоскую и скучную!
И мне стало легко‑легко Важно было защитить то, чего зритель не видит и о чем не догадывается, то, что дороже мне всего на свете, родину, березы, ели, вот этот утихающий, отдыхающий день. Слова это так, между прочим
И у меня впервые получилось. Я впервые испытал свободное чувство хозяина сцены, мне не было стыдно: я отстаиваю свое, дорогое мне, вам необязательно знать что, да я и не скажу. А враг я народа или не враг народа это меня не касается, это вам судить.
«Мы не можем научить вас быть актерами Да не можем это Борис Ильич. Мы можем только помочь вам хотя бы один раз за все четыре года испытать чувство легкости и актерской уверенности на сцене Радости да ээххмг! Запомните это чувство. Если оно будет у вас в любой роли да!., в любой значит, вы играете правильно, хорошо, как бы вас ни ругали и наоборот а когда вас хвалят превозносят до небес а вам стыдно радости и покоя вы не испытали, то как бы вас ни хвалили знайте: вы неправильно плохо играли пусть это ощущение радостного покоя будет для вас лакмусовой бумажкой да Впрочем я ххмг!.. верю твердо это ощущение посетит вас не один раз да! Но, слава богу, вы теперь знаете, как это трудно!»
В «Волках и овцах» я показался средне: Беркутов, прожженный циник, прагматик, трезвый делец, и я, трепещущий перед экзаменационной комиссией робкий вьюноша, сочетались плохо Там блистали Евстигнеев и Доронина!
«Нора» с очаровательной Раечкой Максимовой в главной роли и я в роли ее мужа‑деспота Я старательно «действовал», но комиссию до конца не убедил
«Нору» и «Глубокую разведку» мы играли на сцене филиала МХАТа. Вела спектакли легендарная помощница Станиславского Рипсиме Таманцова, меня осеняла белоснежная Чайка на оливковом занавесе.
Во МХАТ меня не взяли.
Пасха
Я обучался в нормальной школе и поэтому был во всех отношениях нормальным советским рядовым мальчиком. Я боготворил Сталина, у меня билось сердце, когда меня принимали в пионеры. Был заядлым футбольным болельщиком; учился довольно средне; к религии относился, как и полагалось пионеру, а затем комсомольцу, с иронией. Правда, никогда не выказывал презрения или насмешки служителям культа, их я почти и не видел
Слышал только, что есть у нас какие‑то дальние родственники священники: один отремонтировал церковь сам и на свои деньги, другой приходил к бабушке в пальто, скрывавшем фиолетовую рясу с крестом на груди
Дома у нас, в нашей с бабуленькой комнате, висел образ Богоматери с Христом на руках, лики темные, оклад позолоченный, блестящий. Образ висел над моей кроватью в углу, и каждое утро я сквозь сон слышал, как бабуля, стоя на коленях, в слезах, через меня, молилась Богородице. Я сквозь сощуренные веки глядел на нее и слышал только: «Богородице, Дево, радуйся ».
Сталкиваясь со священниками в доме, слушая бабушкины молитвы, я испытывал чувство неудобства и какого‑то стыда, что ли, неловкости.
Один из наших родственников жил в доме, стоявшем во дворе церкви. Церковь эта была в крутом переулочке, соединявшем Хохловский переулок и Покровский бульвар. Церковь стояла «на бугре» за оградой, дом тоже, балкон квартиры, где жили родственники, выходил прямо на паперть.
Родственник этот то ли был старостой церкви, то ли еще имел какое‑то к ней отношение
И вот мама повела меня в пасхальную ночь к нему домой, чтобы я с балкона мог всё видеть и слышать.
«Была лунная тихая свежая ночь», как в романе Льва Николаевича Толстого «Воскресение». Лучше не скажешь.
Действительно, ночь была какой‑то теплой, уютной
По дороге нам изредка попадались женщины с кулёчками, внутри которых светились огоньки горели свечечки. Чем ближе к церкви, тем больше.
Мы спустились по Покровскому бульвару, миновали Воронцово поле, повернули в переулок, где уже было много народу, а во дворе еще больше. Поднялись на второй этаж, были встречены как‑то радостно, просто, и стали ждать. Настало время, мы вышли на балкон, и я остолбенел
В темной ночи переулок и двор церкви были трепетно подсвечены сотнями свечей Теплая река света переливалась, трепетала, бросала блики, неясные, расплывчатые, на стены домов, согревала и без того теплый воздух. Переулок светился тихим, мягким и уютным светом. Стояла звенящая тишина. Что было в этой тишине: протест? внутренняя свобода? Не знаю Но что‑то было пугающее, неведомое в этой тишине.
А для меня, типичного московского школьника даже что‑то враждебное.
Внутри церкви ударил колокол двенадцать раз. С последним ударом из церкви до нас донесся голос священника: «Христос воскресе!»
Мощно и убежденно ответила ему громадная, светящаяся желтым толпа: «Воистину воскресе!»
Ночь, теплые огни, паперть, горящая золотом внутренность церкви
Нас пригласили за стол с пасхой, куличами, крашеными яйцами (Мы, кажется, еще принесли свои, крашенные бабулей.) Странное чувство тогда овладело мной: смесь восхищения, восторга перед этим неизвестным мне раньше русским подлинным чувством, противоречившим идеологии, в которую я верил, и даже какой‑то смутной опаски перед этой независимой силой
Мы вернулись домой, легли спать. А потом жизнь пошла своим чередом.
Пирожки
До войны у бабушки был обычай: отправляясь со мной на прогулку, пройти по Чистым прудам до Кировской, чтобы в угловом магазине «Хлеб» купить мне пирожок.
Помню, помню чарующий запах этих пирожков, будоражащий мой детский аппетит одним видом противня с ними с пылу с жару! коричневыми, жареными, с такой чудесной хрустящей корочкой и со сладчайшим повидлом внутри.
Бабуля уговаривала есть пирожок в магазине, но для меня делать это на улице было величайшим наслаждением! И вот врезался в память вкус этой корочки, затем какой‑то плотной, пропитанной чем‑то душистым белой мякоти и повидла одновременно с зеленым глазом светофора, висевшего на углу неподалеку от этой булочной.
Как‑то мы стояли под этим светофором, ели пирожки и вдруг нахлынула какая‑то толпа, милиция в белой форме, раздались гудки машин, а с неба, с крыш, как снег посыпались тысячи падающих, кружащихся бумажек
Кажется, это встречали папанинцев, или челюскинцев, или Чкалова Кого трудно сказать, но вот помню вкус, милый вкус этого пирожка, зеленый глаз светофора, белую милицию, черную толпу и тысячи падающих листочков
В свои приезды в Москву, я, выйдя из метро «Кировская», шел в эту булочную прямо с вокзала, вкушал пирожок, вдыхал запах его, покупал какой‑нибудь гостинец для бабушки, выходил на улицу и смотрел на светофор, дожидаясь зеленого света
Теперь дома, где была булочная, нет. На его месте нагло и бездарно уселось какое‑то жутко‑безликое громадное здание
Вообще‑то бабушка была непревзойденным мастером по домашним пирожкам
Боже, как она их делала!!! Сухонькие, с мясом, с корочкой сверху, только сверху! с вареньем и самые мои любимые жаренные в масле целиком, коричневые, с капустой, с тончайшей корочкой со всех сторон!
Она священнодействовала на кухне! Разгоряченная, с покрасневшим влажным лицом, спутанными седыми волосами, она вносила в столовую громадное блюдо с горячими пирожками под белой крахмальной салфеткой
Свои пирожки бабуля ухитрялась присылать мне в Ленинград в коробках из‑под конфет, уже чуть подсохшие, но все еще очень вкусные. После смерти бабушки, которую она так глубоко и остро переживала, подхватила эстафету мама, стала делать пироги: пирожки, видимо, не удавались. И в каждый мой приезд в Москву меня опять встречал духмяный запах пирогов с капустой или вареньем; мамочка на пороге, заждавшаяся, счастливая, папа, предвкушающий долгие «вумные» разговоры за рюмочкой. И родной дом милая коммунальная квартира, где все родные и близкие, пережившие в ней революцию, голод, холод, войну, бомбежки, тревоги, рождения, смерти, ссоры и счастливые примирения. И салюты, и марши из круглого репродуктора
Покровка Маросейка Колпачный переулок Старосадский, Потаповский, Армянский Окна моего номера в гостинице Белорусского посольства выходят в Армянский, прямо на дом‑усадьбу Тютчева, а вот там, чуть левее Сверчков переулок. Если идти по нему, а потом свернуть направо, мимо усадебного дома со львами на воротах, выйдешь на Покровку, затем налево и вот он, мой дом № 11, где аптека. Где когда‑то земля во дворе была пропитана запахом валерьянки, во дворе, где играли мы в «штандер» или гоняли теннисным мячиком в футбол, куда я вывел свой первый взрослый велосипед, сверкающий никелем, где бабушка кричала мне из кухонного окна: «Леля, иди обедать!» Помню, как смущало меня это «Лёля» девчачья какая‑то кличка Двор, куда ночами сорок первого года мама выводила меня с черного хода, а над нами было ночное небо, по которому шарили светлые лучи прожекторов, и мы ныряли в бомбоубежище; двор, по которому с бьющимся сердцем я шел, приезжая из Ленинграда, в предвкушении радостной встречи и она всегда была радостной с пирогами, разговорами с папой и мамой.
Потом их не стало, никого не стало Я выходил во двор утром из опустевшей квартиры к моим друзьям стае бездомных собак во главе с Бимом, ревностно охранявшим по ночам наш двор от чужаков. Собак кормил весь двор, и я в том числе
Сейчас я уже не могу прийти к себе домой, не могу вдохнуть родной воздух Не могу благодаря хитрости чиновников, лишивших меня моей десятиметровой комнаты, куда я в свое время перетащил всё памятное мне, оставшись один
Потому‑то, когда приезжаю из Питера, то селюсь в Армянском переулке, чтоб хоть часик‑другой подышать родным воздухом.
Но с каждым днем воздух меняется. Дышать все труднее. Всё вокруг изменилось и продолжает меняться с каждым днем. Всё теперь иное. Лучше или хуже не знаю Иное
Множество ресторанов, кафе, бутиков, салонов, всё пестрит яркими вывесками Почему‑то ресторанчики, кафе почти все на восточный лад, хотя тут бы уместнее что‑то московское: Покровка все‑таки
Покровка забита миллионом машин, улицу перейти невозможно.
А где же мои москвичи‑однокашники?
Разъехались все, забурели, опустились или вознеслись Где мой Юрка, с которым так нелепо разругались и перестали общаться А мне так всегда не хватало и не хватает этого общения.
А кого‑то и нет уже
Где эти московские земляные дворы с шарканьем ног под «Рио‑Риту», «буханьем» домино?..
Ладно, пойду пройдусь
Колпачный переулок. В здании моей бывшей школы какой‑то сверхбанк с охранниками, которые готовы растерзать тебя, если что не так Напротив псевдоготика: бывший райком ВЛКСМ, ныне некий офис: охрана, минивэны с затененными стеклами, блеск стекла и металла; а некогда это был особняк Кноппа, владельца обширной сети магазинов канцелярских и школьных принадлежностей. «В магазине Кноппа выставлена жопа » горланила мама в компании подружек из школы‑коммуны в красных косыночках.
А дальше, вниз по Колпачному, мимо Института питания (какое питание?! Да еще в институте?! В магазинах‑то комбижир грязными желтыми кусками, гнилой картофель да кости с бледными следами тщательно срезанного мяса Да! Еще водяра и плавленые сырки «Дружба»), дальше «хитрый домик»: то ли явочные квартиры МГБ, то ли гостиница для шпионов.
Напротив это уже на моих глазах строилось за высоченным кирпичным забором с колючей проволокой наверху пленные немцы построили громадный красно‑кирпичный дом. Почему немцы? Уж больно хорошо, ладно положен кирпич, кирпичик к кирпичику, аккуратненько! Школа МГБ. Это великая тайна была. Но мы-то, ребята из 324‑й мужской школы, знали всё: для обычного здания уж больно хорош был кирпич гладенький, ровненький, красно‑коричневый
Колпачный упирается в домик‑крошечку, «он на мир глядит в два окошечка» Там, налево, бывший Архив, где Пушкин выторговал себе право рыться в документах пугачевской поры Рядом дом и сад Мамонтовых, где художнику Левитану была построена мастерская. Здесь нас с мамой холодной осенью 1941 года застала первая воздушная тревога.
Дальше вниз сады Шуйских и дом Шуйского, могучий, неприступный.
Дальше дом, где жил мой одноклассник Володя Смирнов, красивый губастый мальчик, тщательно скрывавший, что отец его священник ближней церкви; Володя погиб нелепо, страшно
Дальше Солянка, Хитров рынок
Но стоп! Стоп!
Ничего этого уже нет, всё иное: «бьюики», «белые воротнички», холдинг‑центры, уик‑энды И кому я нужен со своей старой Москвой? Я, странный медленный пешеход. Стоп!
«Другая жизнь»
Яркие впечатления: лето в Пушкине, Студия, Тбилиси, «Синяя птица», бомбежки, вспоминать легко.
Гораздо труднее вспоминается обычная, рутинная, трудовая жизнь Да, именно так: трудовая рутина. И все падения, взлеты, радости и беды все в одной череде: работа, работа
Итак: во МХАТ меня не взяли.
Таню Доронину тоже не взяли, хотя она, несомненно, проявила себя ярче всех среди наших девушек. Причина мне неизвестна. Театр Интриги, интриги
Отчаяние. Стыд. Безнадега. Мечта рухнула. Если не во МХАТ так все равно куда. В Москве я насмотрелся спектаклей по горло. «Ревизор» в Малом классика, с прекрасными актерами, но начисто отсутствует какая‑либо атмосфера действия, места сцена, декорация, загримированные актеры И всюду: в Театре Моссовета, в Театре Советской Армии, Станиславского, в Детском, в Московском драматическом, в Вахтанговском присутствуют яркие актерские работы, но во всем одинаковость: громкий стук актерских каблуков по пыльным сценам, громкие поставленные голоса, яркий грим все не так, как во МХАТе, хотя почти так, за исключением того, что было «там», театральная поэзия, точная и неповторимая атмосфера почти каждого спектакля.
Правда, в Ермоловском на спектакле «Бешеные деньги» в постановке Лобанова, с Орданской, Якутом, Корчагиным, несмотря на потрепанные, колышущиеся при малейшем движении актеров декорации, вдруг вспыхивала чарующая, поэтическая нота старой Москвы, еще не знающей ни войн, ни революций, ни коммуналок. Или благодаря игре Пашенной в Малом, на «Вассе Железновой» пустынную сцену вдруг неожиданно заливала трагическая фуга безысходности и пустоты российской жизни. Или Пушкин у великого Якута озарял сцену Ермоловского
Но это великие! Единицы! А театра, который грел бы душу, нет.
Бедна и однообразна была театральная жизнь Москвы шестидесятых.
И мне было все равно в какой театр я попаду. Куда‑нибудь да возьмут. Мечта не осуществилась
Правда, мы с Таней получили распределение Министерства культуры СССР в Сталинградский областной театр. Но можно было и не ехать туда, попытаться остаться в Москве, в любом театре.
Но отец сказал: «Я был в Сталинграде от звонка до звонка. Медаль «За оборону Сталинграда» для меня самая ценная награда. Я защищал этот город. И это не пустой звук. И вы обязаны быть там, куда вас направляет Министерство».
Ну что ж. Сталинград так Сталинград.
Я измучился от безрезультатных попыток наладить отношения между Таней и моими родными.
И мы очутились в Сталинграде.
Сталинградский областной производил тогда грустное впечатление. В зале пятьдесят‑шестьдесят человек. Спектакли сделаны на скорую руку, чтобы как‑то зарабатывать деньги и привлечь публику новым названием. Театру было не до воспитания молодых актеров, ему были нужны артисты опытные, с именем. На это мы и сделали главный упор, умоляя руководство отпустить нас. И нас отпустили, вздохнув, как мне показалось, с облегчением! А до нас ушли оттуда Смоктуновский, Римма Быкова.
Так что, папа, прости: поехать‑то мы поехали, но вскоре дезертировали, давая театру возможность пригласить на наши ставки опытных хороших актеров.
В Ленинграде, куда мы отправились, после показа нас пригласили в Театр имени Ленинского комсомола. Пусть так. Хоть бы куда.
Надо было ехать в Москву: выписаться, собрать вещи, потеряв при этом надежду опять когда‑нибудь вновь стать москвичом прописаться заново в Москве почти безнадежно.
Прощаемся с Покровкой, с родными, Асей и Костей Мама и папа провожают нас на вокзал. Идет дождь Стоим у вагона деревянные дощатые полки, коричневая краска, фонарь со свечкой. Мама держит меня за руку, боится отпустить Лицо ее напряжено, губы крепко сжаты, как тогда, в Тбилиси, в 1942‑м, когда она вела меня в первый класс. Когда я плакал от жалости и любви к ней.
Мама, я ведь близко буду, часто буду приезжать!
Да, да!!
Обнимаю Таню демонстративно дескать, не одного же меня вы провожаете!
Какая‑то синяя с перепоя бабища подбегает с воплем: «Ах, ты, итить твою мать!» и больно ударяет меня по шее
К счастью, к счастью!! И дождь, и эта баба к счастью! преувеличенно радостно кричит мама
Свистит паровоз. Дым заволакивает здание вокзала, щиплет глаза Три раза ударяет колокол
Папа и мама машут рукой. Уплывают вместе с мокрым перроном назад
Я долго гляжу в мокрое окно, стараюсь разглядеть в темноте уходящую навсегда Москву.
Танины родители Василий Иванович и Анна Ивановна милые добрые люди. У них одна комната в ленинградской коммуналке, когда‑то богатой питерской квартире, в бельэтаже. Жить вчетвером в одной комнате было очень трудно, и мы сняли комнату неподалеку, в том же переулке Ильича.
Единственное окно нашей комнаты упирается в стену напротив, поэтому даже в солнечный день здесь царит полумрак. На стенах множество фотографий, ковер с лебедями. Холод собачий: центрального отопления нет, как, впрочем, и во всем Ленинграде. Длинная ребристая железная печь‑голландка в углу. Топлю ее торфом, за которым езжу в семь утра на трамвае.
«Ночью топить нельзя! говорит нам злая соседка. Пожарники увидят, подумают, что пожар, и приедут. И вообще не шуметь тут!!»
Хозяйская гитара на стене громко стонет при любом неловком движении. Какая уж тут личная жизнь!
Перебираемся в гримерную театра.
Театр Ленинского комсомола новый, громадный. Гигантское, во всю двухэтажную стену фойе, окно выходит на зеленое поле перед красным казематом Артиллерийского музея, а за ним вонзается в синее небо ослепительная игла Петропавловской крепости. Сцена огромная, с синим бархатным занавесом, зал не меньших размеров, бело‑голубой. Красиво. Гримерки просторные, светлые.
Живем в одной из гримерных, слушаем по внутреннему радио трансляции спектаклей.
Таня отлично дебютировала в спектакле по пьесе Александра Володина «Фабричная девчонка», «наделала шороху» на весь Ленинград! И сразу стала известной. Моим актерским дебютом стала роль Гоши Филиппова в комедии Владимира Киршона «Чудесный сплав». Режиссером спектакля был блистательный Игорь Владимиров, в энергию, юмор и фантазию которого я влюбился. Мою работу признали удачной, и я был счастлив.
Потом был Федор в спектакле «В поисках радости» по пьесе Виктора Розова. Ставил спектакль Саша Белинский. Пьеса бытовая: конфликт в семье. Он заключался в неприятии матери Федора, которого я играл, его жены‑мещанки Леночки. Мещанство ее заключалось в том, что она купила новую мебель для квартиры, которую получили они с Федором и куда собирались переезжать.
Тут уж моя аффективная память сработала о конфликтах в собственной семье. Не знаю, как насчет мебели, но состояние человека, безуспешно пытающегося примирить мать и жену, мне было крайне близко, и я чувствовал себя в этой роли, как рыба в воде Леночку играла Таня, и мне было легко.
Сыграл я Обломова в спектакле «Обломов». Главным здесь было чувство героя к Ольге, а что, как не любовь, испытывал я к Тане, которая играла Ольгу?! Так что и тут победа!!!
Мы переехали в общежитие театра, которое находилось тут же, во дворе. Этакое актерское общежитие имени монаха Бертольда Шварца с одной уборной, общей кухней, с клетушками‑комнатами Купили тахту, театральный столяр сколотил книжный шкаф и подарил его мне на день рождения, шкаф служит мне до сих пор вот это настоящий мастер!! Спасибо, дядя Федя!
Мы были счастливы тогда. И радостная, легкая работа в театре, наши друзья‑актеры, и молодые, и не очень, все были одной семьей, жили весело, легко, помогая друг другу и в быту, и на репетициях.
Ушло тупое отчаяние от своей несостоятельности, которое владело мной в Студии Наоборот, окрепла вера в себя: чувство причастности, своей необходимости театру не покидало нас! Мы любили друг друга, мы любили театр, театр любил нас. Да, мы были счастливы.
Ленинград
Общежитие и театр стоят в парке Ленина, который до революции назывался Александровским садом. Он был создан каким‑то прекрасным парковым архитектором громадный, разнообразный, с густотой деревьев и звонкостью полян
Скамейка в парке Лазурное небо, солнце брызжет, сирень, тепло
Я читаю вслух «Евгения Онегина». И так, что сливаются Пушкин, синева неба, золотая игла Петропавловки, сиреневый дурман Свобода и вера в себя радость!
Ленинград это особая тема. Я был им оглушен еще в 1945 году, когда мы с бабушкой приезжали погостить к ее сестре Надежде Николаевне. Вместе с дочерью Леночкой и ее мужем Петром Васильевичем они жили в одной из комнат громадной квартиры в гигантском доме на улице Некрасова. Дом занимал целый квартал. Когда‑то квартира принадлежала отцу Петра Васильевича. После революции их «уплотнили», оставив одну большую комнату.
Три высоких окна. Камин облицован кафелем болотно‑зеленого цвета. Гигантские книжные полки На стенах рисунки Бенуа, Лансере Бабушкина сестра была замужем за неким Азовым, который до революции издавал литературный журнал «Черный кот», дружил с Аверченко, Добужинским Азов в 20‑е годы был командирован в Париж, где и остался, бросив жену и дочь в голодном Питере. В свое время, до революции, Азов устраивал в этой квартире литературно‑художественные вечера, знаменитые посетители которых художники, писатели, артисты расписывались на скатерти. Потом эти автографы вышивались разноцветными нитками.
В послеблокадном Ленинграде меня потряс Исаакиевский собор: было лето, жара, а из огромных дверей собора валил густой пар это испарялся смертный блокадный холод Поразили прямые, словно протянутый ремень, улицы и проспекты, парадные подъезды домов с остатками витражей, в которых ощущался запах гнили и болота. Меня пронзили насквозь необъятная красота Дворцовой, гармония дворцов и доходных домов, мрак дворов‑колодцев, тайна Лебяжьей канавки, покой и тепло Летнего сада, мостов, шпилей, тень Пушкина на красавице‑Мойке и Нева, плещущая на гранит, о который опирался Александр Сергеевич
Я слышал цокот копыт по булыжнику Инженерного замка, поскрипывание натертых паркетов Зимнего дворца и чуял быстрый шелест маленьких ножек, поспешающих на тайное свидание Я слышал тяжелое шарканье по каменным ступеням шагов юноши с топором в петле под полой пальто, ощущал тоску и отчаянье маленького человека в старой шинели, не спасающей его от холода жестокой зимы
Весь великий город звонко‑гордый, свободный распахнул прекрасные объятья гигантскому небу, золотым небесам белых ночей
И теперь, в 1956 году, в моей душе воскресли любовь к этому городу, детское восхищение его красотой и величавостью.
Частенько Петр Васильевич дядя Петя, выпив рюмку‑другую, заводил патефон, ставил пластинку Лещенко или Вертинского, садился в просиженное кресло и плакал, глядя в огромные окна. Плакал о том, что его били в ЧК, что истребили многих его друзей, что погиб отец, уничтожили свободу
Тетя Надя быстро‑быстро стучала по столу наслюнявленным указательным пальцем, собирая крошки хлеба со стола, отправляя их в рот блокадная привычка
Я говорил дяде Пете, что наступила оттепель, что власть стала гораздо человечнее, и Хрущев заявил, что он вместе с интеллигенцией!
Дядя Петя сморкался в большой платок, кривил презрительно рот и произносил свое любимое: «А‑а‑а! Пустой пас!» Надевал капитанскую фуражку с золотым крабом и уходил.
Я относился к его «антисоветским» проявлениям снисходительно‑иронично: да, недостатков много, но это временные трудности, ведь принимаются все меры для улучшения жизни народа! В ответ звучало только: «А‑а‑а! Пустой пас!»
Тетя Лена давала мне почитать книгу «Императорский Эрмитаж» Александра Бенуа замечательный, очень обстоятельный путеводитель по Эрмитажу, с биографиями художников, иллюстрациями, комментариями. Я назвал бы эту книгу краткой историей западноевропейского искусства.
Меня тогда ставило в тупик отсутствие в Эрмитаже того или иного шедевра, упоминаемого в книге Бенуа. Где, например, «Венера перед зеркалом» Тициана? Вот же она, в путеводителе, под номером, вот же ее черно‑белое изображение? А в зале Тициана ее нет! Как и многого другого. И только через двадцать лет я увидел «Венеру перед зеркалом» в мадридском Прадо. Как увидел в Лондоне, Нью‑Йорке многое из шедевров, украшавших когда‑то залы Эрмитажа.
Я выходил из Зимнего на необъятный простор Невы. Горбатился мостик через Лебяжью канавку (помните: «Уж полночь близится, а Германна все нет »), а там, вдали, высоко‑высоко в небе золотой ангел осеняет город
Вот пытаюсь я подобрать слова, выстроить фразу так, чтобы читатель понял и разделил мой восторг и опьянение Ленинградом, и не получается.
Как Бунин описывает поездку по зимней Москве: «розовые кресты на куполах» и сразу видишь: зима, мороз и заходящее солнце Или Олеша, поучая молодого Катаева, придумал ему конец рассказа, где на героя печально смотрели «голубые глаза огородов». А Пастернак сравнивал ледяные бугорки на замерзшем тротуаре с донышками бутылок от шампанского
Вот это сравнения, это метафоры! Куда мне, неопытному графоману.
Только поверьте: Ленинград вошел в мою душу, опьянил и сделал чуть‑чуть другим Свободнее, что ли Определеннее
И когда сегодня я слышу, что питерские символы шпиль Адмиралтейства, Петропавловка, Исаакий, Биржа, Ростральные колонны «устарели» и город нуждается в новых, современных символах, что в небо над Невой должна вознестись 500‑метровая башня Газпрома и, подавив великий невский ансамбль, «стать новым символом, символом энергетической столицы России», все переворачивается во мне, и я представляю себе автора этих слов бывшего фарцовщика с комплексом неполноценности, заимевшего ныне миллиарды и мечтающего вознестись выше ангела‑хранителя Питера и плюнуть с высоты на город, где когда‑то он был изгоем
Вот опять занесло меня
Ладно. Итак, 19561959 годы. Мы в Ленинграде. Мы артисты! Таня и я много и успешно работаем и счастливы
Вонища, плюется жиром сковорода на общежитской кухне, дребезжат крышки кипящих кастрюлек.
Володя Сачков завпост Ленкома, влюбленный в театр, готовый отдать за него жизнь, приглашает «по маленькой», с «пластинчатыми» это с солеными грибами, сыроежками собственного изготовления. Внешне Володя очень напоминал Женьку Евстигнеева: та же лысина, на худющем лице шлепающие губы. Половины зубов нет следы пребывания в лагере.
В 1945 году, демобилизовавшись, в надраенных медалях, с «сидором», набитым трофеями, прибыл он победителем из Германии на Московский вокзал Ленинграда, сел на трамвай и поехал по Невскому к себе на Петроградскую сторону к маме, которую не видел четыре года. На площадке трамвая двое подвыпивших матросов стали приставать к девушке; та безуспешно отбивалась. Володя встал на ее защиту как же, фронтовик. Завязалась нешуточная драка. Тут подоспел патруль, и Володю арестовали. И с ходу отправили в лагерь. Так до дома он и не доехал какой‑нибудь километр.
Попал на урановые рудники.
«Спустили нас, рассказывал Володя, вижу, все стены светятся. Ну, думаю, хана мне. Поработал так неделю, потом выдал себя за штукатура, там потребовались. И так уцелел».
Несмотря на лагерь, был жизнерадостен, деятелен, работящ
А артист Лобанов, благоухающий тройным одеколоном, выслушав мои сетования по поводу каких‑нибудь непорядков, ну, к примеру, отсутствия горячей воды, прищуривался и говорил:
В етим (именно «в етим», а не «в этом»), Олежек, прэлэсть нашей систэмы!
Зарплата была у артистов крохотная, купить новые штаны, носки становилось почти неразрешимой проблемой. Пытаюсь вспомнить, как мы питались, и не помню, все‑таки, видимо, что‑то ели. Но мне было все нипочем: я артист, необходимый театру, работа дается легко, скоро вернусь в Москву на коне, да и вообще жизнь прекрасна, и я вместе с обитателями нашей «Вороньей слободки» стою ночью на крыше общежития; радостными криками «ура!» мы приветствуем маленькую звездочку, медленно ползущую по ночному небу, первый советский искусственный спутник Земли.
На сцене полутемная, сыроватая комната в большой ленинградской коммунальной квартире. За стеной еле журчит радио, которое соседи не выключают даже ночью Стол, клеенка, тахта Бедно, но чисто. На этажерке несколько книг: Маркс, Ленин. Хозяйка молодая одинокая женщина, работница чулочной фабрики, спасающаяся от одиночества общественной работой в месткоме и заботой о племяннике. Фабрика местком очередь за продуктами дом. И так каждый день. Из года в год. Сердце ее и лицо давно погасли, остыли.
И вот я вижу, как на сцене происходит чудо. Вижу, как согревается сердце этой женщины, как уходят морщины, темнеют волосы и как на смену тоскливой обыденщине с кастрюлями, соседями, партийными собраниями и сочинениями Маркса главную, всепоглощающую роль начинает играть то, что является основой всего живого на земле, любовь. И понимаю, что именно в этой комнатке ленинградской коммуналки, в этом доме, на лестницах которого воняет мочой и кошками, за этими дверями в квартиру, утыканными десятками кнопок‑звонков «Ивановым», «Михайловым», «Рабиновичам», происходит наиглавнейшее, а все остальное ложь и неправда.
Я сижу в синем бархате партера зрительного зала БДТ на спектакле по пьесе Володина «Пять вечеров» в ошеломлении от пришедшего понимания: то, что казалось мне нужным, радостным, интересным, успешная премьера, выпивка с друзьями, первомайские демонстрации, октябрьские застолья, общие собрания, да все, все, из чего состояла наша повседневность, чушь собачья по сравнению с тем загадочным и прекрасным, что испытывают эта маленькая работница ленинградской чулочной фабрики и ее возлюбленный, бывший сокурсник. Что именно эта коммуналка и является центром Вселенной, а люди, населяющие ее, солью земли.
Не кремлевские кабинеты, не парторги, изрекающие правильные мысли, не герои со знаменами, а именно они, эти люди, миллионы им подобных, ничем не приметных, неинтересных творят жизнь и являются единственным объектом пристального и любовного рассмотрения.
Выйдя из здания театра после окончания спектакля, я посмотрел на окружающее иными глазами. Так бывает, когда по весне вымоют оконные стекла и привычный унылый заоконный пейзаж вдруг засияет по‑новому
В Амстердаме, в музее Ван Гога, висят его ранние картины: «Едоки картофеля» вполне реалистичная бытовая сценка из крестьянской жизни, работы парижского периода, подражание японцам И вдруг о чудо!! будто нашатыря нюхнул, промыл глаза, и сияющий свежий букет нарциссов и дальше, дальше тот самый Ван Гог, глазами которого мы смотрим теперь на окружающий мир!
Так и «Пять вечеров». Товстоногов, Сирота, Шарко, Копелян, Макарова, Кузнецов, Лавров, Николаева это они заставили меня взглянуть по‑новому на окружающее.
«Лиса и виноград» Гильерме Фигейредо.
Я уже жду чуда. И оно происходит. Яркое солнце раскаляет мрамор колонн и ступеней, глубокая синь неба и белый портик храма там, вдали В этом полуусловном древнегреческом мире словно на шахматной доске идет борьба мудреца‑раба Эзопа с Ксанфом, его хозяином‑глупцом, претендующем на роль философа. И набившее уже оскомину слово «свобода» («Свободу Анджеле Дэвис!», «Славься, Отечество наше свободное » и т. д.) приобретает вдруг какое‑то космическое, всеобъемлющее значение.
И сжимается сердце, когда Эзоп бросается в пропасть, предпочтя смерть свободного человека жизни в рабстве
«Санкт‑Петербург, господа! Санкт‑Петербург!» протяжно провозглашает проводник вагона При взгляде на странную фигуру человека в широкополой шляпе, закутанного в легкий не по зиме плащ, на то, как он притоптывает поношенными легкими ботиночками, в сердце мое проникает сырой мороз раннего петербургского утра, скрип ботинок по мерзлому снегу, бессонная ночь «Идиот» со Смоктуновским.
Все это спектакли БДТ имени Горького, режиссера Георгия Товстоногова. Я смотрел их, затаив дыхание. И чудилось мне, что та самая мхатовская атмосфера радостного чуда, которая околдовала меня в Художественном театре, поселилась здесь, в Ленинграде, на Фонтанке
Я видел в Ленинграде и спектакли в других театрах. Видел великих актеров Симонова, Черкасова, Толубеева, неповторимого Меркурьева Видел с их участием замечательный «Бег» Булгакова
Но лишь один спектакль вне БДТ окутал меня мощной атмосферой это «Оптимистическая трагедия», поставленный великим Товстоноговым еще в Академическом театре им. Пушкина (Александринке).
А БДТ Я ловил себя на том, что, играя спектакли в Ленкоме, невольно начинаю подражать Смоктуновскому. Вытягиваю руки как он в «Идиоте», так я в «Обломове», а это ни к чему
«Я мечтал создать театр, который бы соединил в себе лучшее, что было в Художественном театре, в Театре Вахтангова и у Мейерхольда. И во многом это мне удалось», говорил впоследствии Товстоногов.
В Москву меня тянуло непреодолимо Белые ночи, проспекты, дворцы прекрасны, но вспомнишь о Покровке, о Хотькове сердце щемит И так хочется туда, обратно, в уют. Приезжала часто мама, привозила бабушкины подарки: в коробке из‑под ботинок мои любимые жареные пирожки кирпичиком с красно‑коричневой корочкой, с капустой. Одеяло верблюжьей шерсти: ее любимому Лёлиньке холодно там, на севере
И мы были готовы к отъезду в Москву уже были во МХАТе, беседовали с Прудкиным, Кедровым. Любимый наш Леонид Викторович Варпаховский (с ним мы репетировали «Дни Турбиных» в Ленкоме; спектакль впоследствии был запрещен Ленинградским обкомом КПСС) уже приглашал к себе в Ермоловский, потом в Малый Москва, кривые и теплые улочки‑переулочки ее, Чистые пруды, все такое родное и любимое с детства было совсем рядом.
И вдруг Товстоногов пригласил в БДТ. В БДТ, чья сцена согрета невидимым присутствием белоснежной мхатовской Чайки.
И мы остались в Ленинграде.
Я думал, что ненадолго. Оказалось на всю жизнь.
Театр Товстоногова
Первая моя роль в БДТ Степан Лукин в «Варварах» Горького.
Дебют. Оглушительный провал. Провал, надолго выбивший меня из колеи
Атмосфера закулисья БДТ, того самого БДТ, который околдовал меня со сцены, с самого начала подавила меня
Полутемные коридоры, низкие своды актерских гримерных Старые стены театра источали атмосферу страданий, радостей, пота и отчаяния многих поколений актеров
Взаимоотношения между артистами ничуть не напоминали братское общение актеров покинутого нами Ленкома. Уровень требований здесь был значительно выше, чем в Ленкоме, и слабости, необязательность жестоко карались.
На репетициях царила напряженность, эгоистическим (и вполне понятным!) желанием каждого было понравиться Товстоногову. Все знали: две‑три неудачные репетиции, и он снимет с роли. Тогда под откос, смотреть на удаляющиеся красные огоньки поезда под названием «БДТ».
И, попав в эту новую, гнетущую (меня, видимо, одного) атмосферу, я вновь испытал давно забытый со времен Студии МХАТ груз ответственности. Ведь это не Ленком! Это ведь почти МХАТ!!! И потом: «нет маленьких ролей » Я должен показать, что и в этой крохотульке я артист!
Я репетировал, старался изо всех сил, делая все «по системе», прочел всего Бакунина, Кропоткина (революционер!), копал вглубь а толку ноль! И чем больше я старался, тем больше был зажат, беспомощен, неорганичен
И казалось мне, что многие (и Товстоногов в первую очередь) смотрят на меня косо, недоброжелательно. А может, так оно и было Конкуренция была высочайшая: а что этот новенький, только место занимает, да еще и без корней ленинградских ни друзей детства, никого
И я на репетициях краснел, бледнел, стеснялся самого себя.
Премьера прошла с бешеным успехом.
О Тане заговорили не только в Ленинграде, но и в Москве! И все Луспекаев, Стржельчик, Лебедев, Шарко обласканы были прессой. А мне в глаза старались не смотреть
И кошмар этот надолго поселился в моей душе и возродил самые скверные мои качества абсолютное неверие в свои способности, тупое, словно топорный обух, чувство подавленности и тоски, потный ужас от крика режиссера, позорную рабскую стыдливость.
Олэг! Снимите, в конце концов, эту вашу птичку! Вы же не во МХАТе работаете!!
Это Товстоногов, блестя стеклами роговых очков, требует, чтобы я снял с лацкана пиджака мою мхатовскую Чайку Почему, зачем? Он ведь не понимает, что эта Чайка единственное, что осталось у меня от моей мечты, белоснежная птица в окружении шехтелевских завитушек с надписью «МХАТ» Он ведь не знает, с какой гордостью мы, студенты, носили этот медный надраенный прямоугольничек.
Что‑то я пробормотал, краснея, в защиту Чайки; Товстоногов отвернулся, недовольный
Мы репетировали пьесу Володина «Моя старшая сестра». Таня в главной роли Нади Резаевой, у меня малюсенькая роль режиссера Медынского, молодого театрального энтузиаста. Вначале он заставляет комиссию принять Надю в театральный институт, а затем, уже в театре, после ряда неудач разочаровывается в ней и отказывает в помощи, но после удачной Надиной роли радостно восторжен.
После премьеры все получили восторженные комплименты, а я
«И вновь я не замечен с Мавзолея » Помните эту строчку‑стихотворение Владимира Вишневского? Так вот, с Мавзолея, на трибуне которого Товстоногов и вся театральная рать Ленинграда, меня просто не заметили Да и что замечать‑то?.. Был я зажат, естественно, да и комплекс неполноценности работал во всю мощь: жена ведущая актриса, играет не первую главную роль, а ты, Олежек, опять в дерьме И надежд никаких. Серая бездарность. Позор и стыд.
И вот мы на гастролях в Москве. В каком же виде я предстану перед своими?!
Это первые товстоноговские гастроли в Москве. Привезены лучшие его спектакли; все имеют бешеный успех. Таню носят на руках: тут и ВТО с капустниками в нашу честь, и цыганские рыдания по ночам, и груды цветов и приемы на уровне министра культуры СССР Фурцевой. Она опоздала в ресторан гостиницы «Москва», где проходил прием, минут на сорок, объяснив это тем, что в Кремле у нее была беседа тут она многозначительно подняла взгляд на потолок с ним ну, вы понимаете и все сделали многозначительно‑понимающие лица
Тут же Ливанов с фужером, Прудкин, Марецкая, Белокуров (мой любимый Чичиков из «Мертвых душ» мхатовских):
Пейте, пейте, Танечка, вашу славу! Пейте, пока молоды! И цельным заглотом весь фужер хххэ‑эть! И огурчиком, огурчиком!
Должен сказать, что весь этот триумф был абсолютно закономерен Товстоногов действительно первый своими спектаклями обратился к теме реального человека, сломал многометровый лед фальши социалистического реализма и заговорил о том, что волнует всех здесь, сейчас, заговорил на новом, свежем театральном языке
Так вот, играем мы спектакль «Моя старшая сестра» на сцене Центрального Детского театра. Играем в Москве в первый раз. Зал забит до отказа. На люстрах висят. Весь московский театральный люд! В зале бабушка и мама Боже, как жаль их!..
И вот сцена экзамена. Главное проскочить незамеченным. Очень смешно играет Штиль абитуриента читает Чацкого, а сам коротенький, мускулистый, этакий Швейк
Смеются, хлопают.
Доходит дело до моей сцены. Чтоб не видели, что я стараюсь, а у меня не выходит, решил я просто «доложить» текст. Без игры. И побыстрее. Пошло все это к чертовой матери!
Говорю первую фразу. Но что это?! Аплодисменты??! Вторую, третью опять!!! Ах, так? Можно и так? Обретаю уверенность, становится свободно и легко! Кончаю сцену овация и даже «браво!». Москва плечо подставила. Помогла!
Выхожу за кулисы словно на крыльях! Тут же Товстоногов он не смотрел спектакль, ждет антракта:
Олэг, как вы отнесэтесь к тому, чтоб вымарать эту вашу сцэну из спэктакля? Она вэдь просто лишняя, тормозит дэйствие!
И тут от отчаяния и обиды меня прорвало:
Георгий Александрович, если б вы смотрели спектакль, вы бы сказали, что эта сцена самая главная! Вы слышали овации после каждой реплики?!!
Он удивленно взглянул на меня:
В самом дэлэ?
Да!!
Да?! Странно
Антракт. Повернулся и пошел принимать комплименты.
Как описать состояние человека, во имя театра покинувшего родной город, тепло родной семьи и оказавшегося у разбитого корыта? Актерских побед ноль, зарплата мизерная, правда, получили квартиру, но Таня все чаще стала приходить поздно, а иногда и совсем не приходить. У нее появились новые друзья, прежний интерес друг к другу уменьшался с катастрофической быстротой, да и жизненные позиции, как оказалось, были чуть ли не противоположными. Мы расстались.
Большой Драматический набирал обороты, создавая шедевры, превращался в театр‑трибуну, с высоты которой языком искусства утверждалась запрещенная доселе подлинная правда человеческих взаимоотношений; даже старая, хрестоматийно изношенная пьеса Грибоедова «Горе от ума» озарила город, страну ярким светом злободневной правды «Догадал меня черт родиться в России с душой и талантом! Пушкин», вспыхивала огнем эта фраза в терракотовой полутьме фамусовского дома. Хотя фраза и была убрана по настоянию инквизиторов из Ленинградского обкома КПСС спектакль не потерял своей актуальности, зритель воспринимал взаимоотношения людей фамусовской Москвы как сегодняшние, понимая, что ничего не изменилось за сто с лишним лет, что Чацкий вынужден обращаться за пониманием к сидящим в зале зрителям в тщетной надежде, что они‑то, люди двадцатого века, поймут его. Ибо вокруг удушающая пустота, заполненная карьеризмом Молчалина, тупостью и самодовольством Скалозуба, обывательски циничной философией Фамусова
Блистательны были работы Юрского, Лаврова, Дорониной
У кассы театра круглосуточно стояли очереди, люди приезжали из других городов на один день с твердым намерением «прорваться» и увидеть «Идиота», «Синьора Марио», «Горе от ума», «Варваров», «Пять вечеров». Все спектакли были насыщены густой атмосферой, присущей только данному шедевру: в «Горе от ума» своя, старомосковская, с густым теплым снегом за окнами, в «Варварах» провинциальный быт, заполненный пыльным зноем и стрекотом кузнечиков
А ваш покорный слуга тоже по мере сил пытался участвовать в этом процессе создания нового великого театра, но как? Говоря несколько фраз в «Моей старшей сестре»?! Или выходя на сцену полузажатым юношей с потными ладонями в «Варварах»? Или бегая в маске по диагонали сцены в образе господина N в «Горе от ума»?! И все это после удач в Ленкоме?! После премьерства
Да еще и одиночество навалилось
Вот тут меня и настигли черные дни ленинградской зимы, осени, весны, лета Помню себя сидящим без сил у дверей аптеки на Большом проспекте Петроградской стороны. Я пришел туда за каким‑нибудь тонизирующим средством, но сил не хватило, и рухнул я на грязный подоконник.
Прежде блистательный, радостный Питер обернулся дворами‑колодцами, с душным мраком и сыростью, с вечно мокрыми ботинками, хлюпающими по грязному снегу, а тревожное небо белых ночей гнойного цвета не давало покоя
Спасением, радостью были репетиции и спектакли на Ленинградской студии телевидения! Боже, сколько же тут было играно‑переиграно! И какая огромная практика, ежедневный тренинг для актера в моем положении! Здесь я освобождался от товстоноговского диктата, страха перед ним, а его почти все боялись: у знаменитого Полицеймако, этой глыбы с трубным голосом, коленные чашечки стучали друг о друга и издавали мелкую дробь, когда из зрительного зала раздавалось товстоноговское:
Виталий Павлович! Я нэ понимаю Что з вами?!!
С одной стороны, это прекрасно такой авторитет режиссера, и желание выполнить немедленно его указание, но с другой подобное состояние отбивает инициативу, лишает свободы, импровизационного чувства.
А у некоторых просто вызывает «зажим» и невозможность что‑либо сделать, исходя из собственного «я».
Вот в такой ситуации находился я в этот период. Уж на что я не шел, чтобы избавиться от этой зависимости: пытался быть остроумным, нахальным, даже наглым. Надевал берет с куриным пером и ездил в таком виде в метро, чтобы привыкнуть к насмешливым взглядам, часто выпивал в одиночестве, чтоб «расслабиться», но тупое, унизительное чувство собственной неполноценности, униженности не покидало меня. Этакий «человек из подполья» Может быть, вернуться в Москву домой, на Покровку?.. Но как я посмотрю в глаза бабушке, маме?! Они же так верили в меня, помогали, чем могли. Они так ждут моих побед
Нет уж! Буду биться до тех пор, пока не докажу себе и окружающим, что я актер, что я самодостаточен, что меня можно уважать! И тогда уйду!
И я бился, острил, хамил даже Товстоногову, краснея и бледнея при этом, вспоминал, как Вершилов сказал мне однажды: «Нахалом на сцене быть омерзительно, но вам, Олег, надо бы набраться побольше нахалину есть такой актерский витамин э‑х‑хмм‑гм »
Я вспоминал, как мне году в 1947‑м сшили первый костюм серый, двубортный. Время тогда было страшное, голодное. Сел я в этом костюме на трамвай «Аннушку» возле «Колизея» и вдруг смутился, ощутив себя среди людей в полувоенном, заношенном этаким барчуком‑фраером, этаким белоручкой даже, и как стыдно и неловко мне было Ну разве это психология артиста? Психология человека, ежедневно выходящего на позорище («позориште» по‑болгарски «сцена»!) и, не стесняясь, делающего свою работу?!!
Как писал Станиславский в «Работе актера над собой», человек, приподнявший угол тяжелого рояля, не может умножить 37 на 9, не может вызвать в своей памяти какой‑либо запах или ощущение. Ибо напряжен. Вот в таком состоянии напряжения, усиливающегося с каждым окриком Товстоногова, я и находился. Конечно, громадную роль в образовании этого комплекса неполноценности сыграл уход Тани.
И я боролся, пыхтел, изображая, что мне все нипочем, вымещая свою неудовлетворенность на женщинах, на милых созданиях, которые встречались на моем пути.
А телевидение как оно помогло мне! Большие и маленькие роли, удача или провал неважно, я чувствовал себя профессионалом среди софитов, кабелей, мониторов, камер
С огромной благодарностью я вспоминаю режиссера Александра Аркадьевича Белинского. Как много он дал мне своей мнимой «необязательностью» репетиционного периода!! Как освобождал меня фразой: «Я не оскорблю вас репетициями». С ним было всегда легко и интересно
Вот зажигается красный глазок телекамеры и начинается спектакль «Обломов». Хозяин положения я! Могу делать все, что хочу! Никаких окриков не будет. Микрофоны и камеры работают на весь СССР.
И я неплохо сыграл Обломова, ей‑богу, неплохо! Стыдно Илье Ильичу принимать участие в этой мерзкой жизни легче лечь на диван, закутаться в халат и вспоминать, вспоминать!.. Да это же про меня, про меня! Ольга пробуждает его, дарит надеждой и потом предает. И гибнет, гибнет Илья Ильич
А Манилов из «Мертвых душ»? Тоже постановка Белинского.
Как давно ждал Манилов такого гостя, как Чичиков! И все эти разговоры о покупке мертвых душ, о соседях всего лишь вуаль, покрывающая некую подлинную, таинственно‑либеральную цель, о которой догадывается Манилов, но, как умный человек, говорит о пустяках, имея в виду другое, о! другое!.. Вы же понимаете?!
Манилов одна из лучших моих ролей!
На ленинградском телевидении в то время много было прекрасных режиссеров Цуцульковский, Бирман, Лукова, Маляцкий, Карасик, которые заложили основу художественного телевидения. Работали здесь и такие большие мастера, как Товстоногов, Сирота, Владимиров
Они создали ряд превосходных спектаклей, и мы, молодые, могли попробовать себя во всех жанрах и амплуа от Шекспира до Чехова и от трагедии до водевиля.
Ленинградское телевидение того времени было студией‑театром, выпускающим почти еженедельно в прямой эфир телеспектакли, и во многих я был занят, а за кое‑какие могу даже поставить себе если не пятерку, то уж четверку с плюсом точно.
С радостью вспоминаю работу с Карасиком в «Страхе и отчаянии в Третьей империи» роль молодого нациста, щеголяющего своей властью над окружающими.
С Луковой в «Моей жизни» по Чехову.
С Бирман в «Детях солнца» Горького
Относительная независимость давала свободу, возможность хулиганить на репетициях и в кадре, получать удовольствие от работы
На телевидении уходили мои комплексы, появилась уверенность в своих силах
Да, в БДТ товстоноговская планка требований была значительно выше, чем на телестудии, отношение к актеру очень жесткое, что, видимо, диктовалось более глубоким пониманием литературного материала и попыткой этот материал как можно ярче выразить. Но здесь, на ленинградском ТВ, неокрепшему полупрофессионалу было легче, комфортнее подминать материал «под себя», обходить острые углы, набирать уверенность и вершиловский «нахалин».
Невольно сравниваю «продукцию» сегодняшнего телевидения, почти всех его каналов, кроме «Культуры», с тогдашним ленинградским ТВ. Помимо того, что оно было своеобразным «полигоном» для режиссеров, художников, гримеров, актеров для совершенствования их профессиональных навыков, ленинградское телевидение, опираясь на традиции мирового и русского искусства, обращаясь к литературным образцам, воспитывало в телезрителях лучшие человеческие качества.
Нынешнее телевидение это либо, в лучшем случае, шоу с деньгами, либо намеренно растлевающие душу зрителя зрелища. Я задаю себе вопрос: это что политика целенаправленного превращения народа в тупую толпу, орущую «хлеба и зрелищ!»?! Да, этой толпой легко управлять. Но еще легче потерять народ. Потерять страну
«Вы мне очень нужны»
Ленинградское телевидение вселяло в меня робкую уверенность в своих возможностях, но в Большом Драматическом меня не оставляло все то же тупое, гибельное чувство позора и одиночества.
Как вспомню эти первые провальные и, казалось, абсолютно безнадежные годы, когда бегал по диагонали сцены в «Горе от ума», когда чувствовал себя одиноким, не нужным никому ни театру, ни окружающим И главное, не находил в себе возможностей для театральной жизни, не вписывался я ни в актерскую действительность, ни в компании с бутылкой, где можно забыться и отвести душу.
Сижу как‑то на батарее в закулисном закутке. Греюсь. Смолю «Беломор». За крошечным окошком барабанит дождь со снегом, гнилой ветер посвистывает. Серо, тоскливо
Вдруг из‑за угла дымок сигареты, поблескивание очков. Модный клетчатый пиджак и брюки внизу гармошкой: длинноваты. Товстоногов.
Встаю:
Здравствуйте, Георгий Александрович!
Здравствуйте, Олэг!
Остановился. Смотрит. Молчит.
Ну, думаю, всё. Сейчас скажет: «Олэг, а не пора ли вам подумать о перемене мэста работы? Ну, например, о переходе в другой тэатр: ведь здесь не складывается!» Или что‑то в этом роде, не менее ужасающее
Молчит. Пауза затягивается. Пф‑ф!.. Выдыхает дым «Мальборо» Смотрит
И, наотмашь:
Олэг! У меня ощущение, что вы хотите уйти из тэатра Это так?
Вот оно! Что сказать?!! Скажу «да» и он ответит: «Ну и правильно » Скажу «нет», а он: «А вы все‑таки подумайте об этом!» Мямлю что‑то нейтрально‑невразумительное
И вдруг:
Олэг! Я вас очень прошу нэ дэлать этого! Вы мне очень нужны!
Пф‑ф! Выдохнул «Мальборо». Повернулся, блестя очками. И гордо пошел, посапывая
Понимает ли мой читатель, какие чувства я испытал?!
Скажу одно: с этой минуты всё изменилось. Мрак за крошечным окошком развеялся. Выглянуло солнышко, и всё окрасилось в теплые, радостные тона! Жизнь снова прекрасна!
И как‑то постепенно стало у меня всё налаживаться и внутри, и снаружи: постепенно прибавлялась уверенность, ощущение свободы, дотоле почти неизвестное мне. Оно, правда, временами возникало раньше на отдельных репетициях, но быстро исчезало, а тут, после этого разговора с Товстоноговым, стало расти, расширяться, давало мне возможность свободно импровизировать на сцене на репетициях, а при неудаче не опускать руки, верить, что всё наладится! Я ведь нужен самому Товстоногову! Нужен!
Мы вместе создаем театр, лучше которого нет на свете, в который рвутся и не могут попасть тысячи зрителей; нам завидуют актеры других театров. Нашему сценическому освещению (лучшему в СССР! Браво, Синячевский!), нашему радиоцеху со стереофонией (слава Юре Изотову!), мастерству и самоотдаче наших рабочих, гримеров, бутафоров, костюмеров, завидуют тому и это главное, что работает с нами Товстоногов и что в его руках актеры раскрываются неожиданными, неведомыми ранее прекрасными гранями своего таланта, что наш общий изнурительный и радостный труд выливается наконец в замечательное создание спектакль! «Спэктакль!»
Олэг! радостно блестя очками, отведя меня в сторону и понизив голос почти до шепота, говорит мне Товстоногов. Олэг! Хочу поздравить вас! Вы хорошо рэпэтируете! Вы лидэр в этой троице! Как это ни странно
Идет репетиция спектакля по пьесе А. Штейна «Океан». А троица это Лавров, правильный советский человек, Юрский, мятущаяся душа, и я (в роли Куклина) карьерист, пустая душа, доносчик, к финалу изгоняемый друзьями. Ироничен, общителен. Ибо как может человек быть положительным, если он с иронией относится к словам «коммунизм», «партия» и т. д. и т. п.??!
Мне было легко иронично комментировать идеологический спор двух моих приятелей, один из которых демагог, а второй дурачок, принимающий демагогию за простое заблуждение.
И на одной из сценических репетиций Товстоногов полушепотом и сказал: « Вы лидэр в этой троице, как это ни странно »
Я был счастлив безмерно! Наконец‑то получил похвалу от Товстоногова!!! Впервые за три года! Да еще в компании с его любимцами, Лавровым и Юрским, я оказался на первом месте! Свершилось!
В этот день я репетировал как на крыльях, меня несло, присутствующие в зале смеялись, я был свободен, как птица, импровизация шла за импровизацией, неостановимо!! Талант! Талант!!! Прорвался наконец‑то!
«Прорвался!» вспоминаю, как так же радостно орал я на московском стадионе «Динамо», когда динамовец Трофимов ловко обвел двоих армейцев и вышел один на один с вратарем.
«На жопе чирей!» возразил сидящий рядом болельщик команды‑соперника.
В этот момент защитник ЦДКА Кочетков в подкате выбил мяч из‑под ног динамовца.
Нечто подобное произошло и с моим «прорывом».
Придя домой, я стал вслух проигрывать свою роль, улучшать и исправлять некоторые куски, а на следующей репетиции постарался повторить вчерашний триумф.
И о ужас! как‑то все омертвело Я старался сделать все так же, как вчера, а получалось плоско, сухо. Наутро остался только страх, что не выйдет опять, и опять все шло хуже и хуже, даже забывать стал текст. Дело дошло до бессонных ночей, когда сотни раз в темноте я твердил вслух одну и ту же фразу на разные лады, испытывая отвращение к самому себе.
Олэг! Что з вами? Вы так прэкрасно рэпэтировали! И вдруг всё исчэзло! Куда?! Вы не умеете закреплять!! слышу возмущенный полушепот, вижу огорченные товстоноговские глаза со слезой за стеклами очков, мелкие бисеринки пота на верхней губе
На премьере триумфаторами стали Юрский и Лавров, а я, проведя ряд мучительных бесконечных предпремьерных ночей, бормоча на разные лады фразы из роли, сыграл как бы сказать ожидаемо серо
Только значительно позже, где‑то на пятидесятом‑шестидесятом спектакле, я освоился, раскрепостился, привык к соседству боготворимых мною талантов Юрского и Лаврова и нащупал то самое, что поразило тогда Товстоногова
«Океан» выдержал безумное число представлений около трехсот.
И, разумеется, всякое случалось С. С. Карнович‑Валуа, игравший адмирала Часовникова, выходил на сцену дважды в прологе и в эпилоге. Три часа в промежутке он посвящал нетеатральным делам. Надевал мягкие тапочки с пышными помпонами, с турецкими задранными носами, скидывал адмиральскую шинель и читал, писал письма, беседовал с друзьями кайфовал, так сказать. Потом опять облачался и шел на свои три фразы в эпилоге. Однажды он так увлекся разговорами, что вышел на продутый всеми ветрами пирс лютого Северного моря в полном адмиральском облачении и в остроносых тапочках с красными помпонами. «Океан! задумчиво и значительно произнес он. Большое хозяйство!» Музыка Эффект был потрясающий! От Товстоногова мы скрыли происшедшее. Обошлось
Ирина Тайманова, режиссер Ленинградского телевидения, говорит мне:
Олег, я в восторге! Смотрела по телевидению «О бедном гусаре замолвите слово» вы очень хорошо сыграли эту роль!
А я все роли очень хорошо играю! Все без исключения! отвечаю я.
Наглость, конечно. Надо было сказать: «Благодарю вас, Ирина! Мне очень ценно ваше мнение! Спасибо!» И тут, конечно, последовал бы «разбор» моей игры, то да сё
А я не хочу этого разговора. Мне почему‑то не по себе. Видимо, каждая роль дело очень‑очень личное и таинственное. И трудно, и не хочется открывать подноготную.
Поэтому я отделываюсь хамством. Хамство это моя броня. Как панцирь у черепахи. А актерство тонкая материя, зависит от миллиона факторов, приведенных к одному знаменателю. Одна миллионная не в порядке и всё: сломался. Роль не идет. Так что все эти разговоры опасная штука.
Потому‑то актеры подчас так показушно циничны могут, например, сказать, идя на спектакль:
Ну‑с, пошел «творить»!
Или, объясняя партнерам отсутствие ожидаемых аплодисментов: «Потрясены!» Это про зрителей. И так далее
Дескать, наплевать мне и на аплодисменты, и на спектакль: я не придаю никакого значения этой ерунде А на самом деле это защита от возможности впасть в зависимость от излишней ответственности, которая приведет к зажиму, к излишнему старанию, к форсажу и в результате к оскорбительной фальши.
По крайней мере, у меня так дело обстоит. В течение многих лет в БДТ я растил эту броню, ее очень часто пробивали, я ее подчас терял, но все равно наращивал, наращивал понемножку
По правде говоря, все комплексы уходят, когда в роли есть что‑то, что поднимает тебя над всеми привходящими обстоятельствами, заставляет забыть о них, волнует, требует выхода. Чем богаче душа актера, чем значительней его опыт, тем быстрее он находит это в роли.
Счастье, когда ты это находишь
А тэпэр я поднимаю бокал за Олэга! Поздравляю вас, Олэг! Вы сегодня сделали такой рывок! произносит тост Товстоногов на премьерном банкете после «Трех сестер» Чехова.
Счастье опустошенности после премьеры было безмерным.
Весь репетиционный период перед моими глазами стоял великий спектакль Немировича‑Данченко Меня душили слезы, когда я вспоминал Чебутыкина Грибова, Солёного Ливанова, да всех, всех моих любимых мхатовцев Последний марш уходящего полка «Если бы знать Если бы знать »
Но одно дело чувствовать, и совсем другое заразить этим чувством зрительный зал! Вот тут Георгий Александрович сделал все, чтоб помочь мне.
Я находился в плену мхатовского исполнения романтико‑реалистического: например, хорошо помнил Станицына в роли Андрея и его сцену в третьем, «пожарном» акте. Вначале я пошел по тому же мхатовскому пути.
Олэг!! Что з вами?! Почему вы входите, словно от мухи отмахиваясь?!! Ведь что такое для вас этот пожар?! Эта бессонная ночь?!! Этот Ферапонт??!!
Взбирается по ступенькам на сцену. Сигарета зажата в оттопыренных пальцах. Очки блестят.
Мечта ваша наука, музыка рухнула! Вы превратились в серого обывателя! Из‑за жены, из‑за собственной бесхребетности. Эта мысль гложет вас, не дает ни минуты покоя!! А Ферапонт все время за вами по пятам, как привязанный. Ферапонт страшное напоминание, свидетельство вашего падения! Убежать! Убежать от него! Ворвитесь в комнату. Слава богу, нет этого Ферапонта. Уф‑ф! Опять он?! Вошел!! Вот тут как там в тэкстэ?
Что тебе нужно? Я не понимаю.
Вот! Что! тебе! нужно! Я не понимаю!!!!! То есть вон!! Вон немедленно!!! Ногами топает! Кричит! Воспален! Неадекватен!!! Попробуйте!
Пробую.
Вот!! Туда, туда! Но еще не до конца погружены!! Нет! Поймите, был бы ваш Андрей постарше умер бы этой ночью!! Пожар, пожар не там, на улице, а у вас!! В вашей душе, в вашем сэрдцэ, понимаэте?!!
Еще раз вхожу. Врываюсь!
Вот!! Да!!! Дальше. Ферапонт испуганно что‑то бормочет: «Пожарные, Андрей Сергеич » и так далее Так вот: я вам, считающим меня мелким обывателем, не Андрей Сергеич, а как?
Ваше высокопревосходительство
Вот!! Конечно!! Это же идиотизм полный, позорный. Вот вы ко мне обратитесь, скажете: «Георгий Александрович » А я вам: «Во‑первых, я вам не Георгий Александрович, а народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии товарищ Товстоногов!» Это же смешно, глупо, стыдно А перед вами ваша рухнувшая жизнь. Сохранить достоинство! Оправдаться!!!
Затягивается сигаретой Дым.
Вот пепельница, Георгий Александрович (это говорит помреж).
Что?! Какая пэпэльница? Что з вами?!.
Вы курите на сцене
А! Да. Спасибо. Не остывайте, Олэг! Здесь сестры, которые все время своим молчанием, неодобрительным, понимаэтэ, напоминают о вашем якобы предательстве идеалов и так далее. «Так это и вас касается, милые мои». И как можно суше к ним как?
«Я пришел к тебе. Дай мне ключ от шкафа, я затерял свой. У тебя есть такой маленький ключик »
Вот! Именно! Дескать, если б не ключ не пришел бы.
Делаю.
Покажите, покажите размэр этого ключика пальцами, будто бы только это вас и занимает «маленький ключик».
Опять делаю.
Сопит и радостно хмыкает.
Хм‑ха! Вот!.. Увидел сестер так понял, в каком свете предстал перед ними как там дальше? Пэпэльница, пэпэельница где?!!!
Вот, пожалуйста, Георгий Александрович (это помреж). Просто вы отошли от стола, и
Да‑да. Пошутите. Дэскать, и вовсе я не страдаю как, как там?
«Черт знает, разозлил меня этот Ферапонт, я сказал ему глупость Ваше высокоблагородие ».
(Радостно.) Вот!! Замэчательно! Посмейтесь, посмейтесь над собой и передразните себя «высокоблагоро‑о‑одие »! Вот!! Вот!! И посмейтесь, посмейтесь Ха‑ха И сестер призывайте! Ждите хотя бы улыбки! А ее нет. Нет и нет! Осуждают?
«Что же ты молчишь, Оля?».
Вот!!! Как точно! Это Чехов! Так вот раз и навсегда разберемся в моей якобы несостоявшейся судьбе, в моем якобы предательстве наших общих идеалов. Если вы уж так хотите откровенности. Дальше о жене разговор, так, Олэг?
Да. «Во‑первых, вы имеете что‑то против Наташи, моей жены Если желаете знать, Наташа прекрасный, честный человек а все ваши неудовольствия, простите, это просто капризы!»
Да!! Да!!! Именно. Сохраняйте спокойствие, демонстрируйте свою правоту а кто прав, тот спокоен!! Сказал это и чувствует: еще ниже падает в их глазах!! А что делать?! Признать, что жена пошлячка, изменяет ему, мещанка до мозга костей, расписаться в полнейшем своем падении?! И врет, врет, и с каждым словом спазма в горле от тоски, от этой лжи Попробуйте с самого начала.
Делаю. Врываюсь в комнату. Кричу! Пытаюсь превратить все в шутку. Упрекаю сестер в черствости
Вот. Туда, туда. И теперь второе это уж полная ерунда, в кавычках, конечно, что я не ученый, не занимаюсь наукой. Итак, первый пункт о жене, что она хорошая Страшная ложь. Да?! Страшная Не дайте себе разрыдаться. Вот!! Вот! Да. Наберитесь сил. И второе с более высокой ступени «вы сердитесь, что я не ученый, не занимаюсь наукой». Подчеркните, подчеркните мизерность их претензий «учё‑ё‑оный, нау‑у‑укой». Вот! Хм‑ха‑ха. (Сопит, довольный. Зажигалка. Дым новой сигареты.)
«Но я служу в земстве, я член земской управы и это свое служение считаю таким же святым и высоким, как служение науке. Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать!»
Вот!!! Поняли?!! Держите, держите! Почти на визге понимаете, да?! « если желаете знать!!!» Сорвался, чтоб не зарыдать! Пытается порвать паутину, а она все гуще! Вот! Хорошо!! Не реветь! Наоборот а вот теперь о действительной своей вине дом заложил Это главное хотя это совсем и не главное, да? Но поставьте это на первый план, подчеркивая этим ерундовость первых претензий. «Вот в этом я виноват » Есть там слово «Вот»?
Нет.
Так добавьте!!! «Вот в этом, подчеркните, в этом я виноват, да, и прошу меня извинить » Дальше. Нина!! Что вы за мной ходите, как этот Что з вами?! (Это помрежу.)
Я пепельницу ношу, вы же курите на сцене.
Не мешайте работать! Извините. Да, Олэг, попробуйте с самого выхода! А я спущусь в зал.
Играю сцену под одобрительное посапывание, возгласы: «Вот!!», «Да!», «Держите!!»
Огонек сигареты мечется вперед‑назад по проходу между креслами.
Попытайтесь оправдаться: так уж случилось! Пожалейте меня!
«Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы все счастливы Но боже мой »
Ну!!! И!!! Из последних сил держитесь!!
«Милые мои сестры, дорогие мои сестры, не верьте мне, не верьте »
Вот! Прорвало только здесь плотину! Зарыдал! Закройтесь руками, убегайте! Юра, дайте звук набата!.. Давайте
Сопит Стекла блестят Хмыкает Ходит, ходит по проходу, победоносно оглядывая присутствующих: ну, как вам, а? Каково?!!
Георгий Александрович подарил мне понимание не бытовой формы, а высокой трагедии, даже трагикомедии моей роли. И Владик Стржельчик, Царство ему Небесное, стоит на премьере в кулисе и слушает мой последний монолог о детях, заражаемых нашим неотвратимо пошлым влиянием, монолог под звуки марша уходящего навсегда полка и плачет
Я ему шепчу: «Ты что?»
А он: «Какое горе!.. Боже, какое горе »
Владик играл Кулыгина блистательно. Трогательный, глуповатый от любви
А великая русская актриса Эмма Попова?! Как она билась в третьем акте: «Никогда мы не уедем в Москву, никогда!»
Я сидел за декорацией в темноте сцены, слушал ее мороз по коже!..
Тут ведь и Чехов, Чехов в издании Маркса, и мама читает мне его во время бомбежки, и бабушкины пирожки, и Москва моя любимая, и Хотьково все, все и Чайка
И надо все это передать зрителю! Это главное!! И никаких комплексов!!
Наш маленький друг
Вера Григорьевна Грюнберг. Костюмер. Сухонькая, прямая, с гордо поднятой головой. Чем‑то напоминала Ольгу Берггольц та же короткая седая прическа, строгое каре.
После революции мать Веры оказалась в Италии, а сама Вера загремела в ГУЛАГ как ЧСИР, член семьи изменника Родины. Во время хрущевской оттепели ее выпустили.
Вера вернулась в Ленинград, но на работу никуда не брали. В конце концов решила «хоть куда‑нибудь». Когда познакомилась с Товстоноговым, тот, поняв ее положение, тут же оформил Веру костюмером в театр. «Меня нэ касается, что у вас в паспорте. Мнэ нужны люди, преданные тэатру. Работайтэ». И Вера Григорьевна, нервно дымя «Беломором», работала.
«Здравствуйте, говорила она, входя в нашу гримерную. Это мы к вам пришли, ваши маленькие друзья!» Очень ответственно помогала одеваться. «Повернись!» говорила она одетому уже актеру. И щеткой чик‑чик‑чик! обязательно пройдет по пиджаку, брюкам. Потом провожала на сцену. Там опять придирчиво оглядывала актера, опять щирк‑щирк щеткой, подталкивала в спину и, незаметно для всех, мелко крестила. Вера была предана театру до конца, не мыслила себя вне его. Была у нее одна маленькая слабость после спектакля любила чуть выпить. За отсутствием лишних денег иногда баловалась «Тройным одеколоном». Мы закрывали на это глаза: делу это не мешало.
Ее престарелая мать писала ей письма, приглашала к себе, в Италию. Вера в панике горячечным шепотом советовалась со мной отвечать ли, ведь могут посадить опять за «связь с изменником Родины». А если писать, так что наврать? Не рассказывать же, что она живет вместе с дочерью и ее мужем в одной комнате в коммуналке это будет очернением советской действительности! За это точно посадить могут! Я всячески пытался успокоить ее, говорил, что не те времена. В ответ она испуганно махала сухой ладошкой: «Да что ты, что ты?! Какие другие, что ты?!!»
Ее старуха‑мать была очень богата, владела в Италии какими‑то производствами. Неожиданно Вера получила письмо от матери: «Хочу умереть на родине. Возвращаюсь в Ленинград». Продала всю свою миллионную собственность и с чемоданом золота и драгоценных камней прилетела на самолете в СССР!
И тут чистые руки чекистов приготовили мышеловку. Зная всю подноготную письма, естественно, просматривались, старушку, не знающую никаких тамошних правил, они пропустили через таможню, не сказав, что надо заполнить на ввозимые ценности таможенную декларацию. Старушка, не заполнив ее, ступила на родную землю. И мышеловка захлопнулась.
Нагрянули в коммуналку кагэбэшники, все камни и «драгметаллы» реквизировали, а старуху, обвиненную в контрабанде, предали суду. От отчаяния ее разбил паралич, и в суд ее возили на носилках. Вскоре она скончалась.
Вера сильно горевала. Похудела, замкнулась. Но все равно: щеткой щирк‑щирк
А изобретательные чекисты получили ордена за отлично проведенную операцию. Это мне доподлинно известно.
Тэд
На репетициях часто можно было увидеть в темноте зрительного зала неприметного человека в белом халате, из нагрудного кармана которого торчала алюминиевая расческа. Это художник‑гример Тадеуш Щениовский Тэд.
Ты был на репетиции Ну, что скажешь? обращаюсь к нему.
Молчит или бормочет что‑то типа: «Нормально ну, пока, знаешь надо еще посмотреть »
Понятно. Да я и сам чувствую то, да не то. Вроде правильно все, да что‑то не залаживается.
Олэг! Ваш дядя Ваня, мнэ кажется, должен быть заросшим, лохматым, знаэте, этакий леший! Ведь двадцать пять лет только и делал, что работал в усадьбе, косил, сеял, продавал. Какие там парикмахеры, понимаэте? Провонял навозом, коровьей мочой А за последний год совсем опустился, пить начал. Появилась Елена сам себе кое‑как подровнял бороду Этакий эпатаж, знаэте? Не принимаю эту жизнь! Нацепил щегольской галстук На остальное плевать! Недаром Елена говорит: «Вы мне противны », понимаэте?
Бороду, состоящую из трех частей, чтоб не очень стягивала лицо, усы Тадеуш принес ко мне в гримерную. Положил налицо тон, какой‑то желтовато‑бледный. Прилепил усы и бороду. Смотрю в зеркало. Ну и что? Да, борода и усы неухоженные.
А теперь, Олежек, только не сердись, я хочу попробовать бровки, только попробуем и снимем тут же, если не понравится. Ладно?
Ну, давай, говорю я, не предвкушая ничего хорошего, просто лак будет еще и на бровях. Вообще все лицо стянет.
Давай
Легонько так, едва коснувшись моих бровей, кисточкой с лаком прилаживает поверх моих бровей легкие, еле заметные новые брови. Прилаживает как‑то косовато
Я молчу.
Смотрит долго в зеркало. Вдруг решительно берет указательным пальцем коричневый тон, смешивает его с желтым. Что‑то серое получается и аккуратно наносит где‑то пониже глаз два еле различимых пятнышка. Спутал волосы, торчат, на лоб падают
Смотрю в зеркало. На заросшем лице появились два глаза, смотрящих на меня по‑детски открыто и мягко Какая‑то незащищенность появилась сквозь бороду, длинные нелепые усы, сквозь этакий эпатаж глаза одинокого, страдающего ребенка
И на репетиции я почувствовал, что к моему Ивану Петровичу добавилось нечто очень важное, а может быть, главное, чего мне так не хватало до этого. И роль двинулась.
Спасибо тебе, Тэд!
Подобные чудеса он проделывал не только со мной; его ценили очень многие!
В этот день вечером должен был идти «Ревизор». Тадеуш всегда, как и все гримеры, приходил за несколько часов до начала спектакля: надо привести в порядок усы, наклейки, парики, разнести их по гримерным. И в этот день он пришел заранее.
Но по пути в театр Тэд совершил страшное преступление: он шел один. Это было на гастролях за границей, в Финляндии. Нам было запрещено появляться на улице заграничных городов группами менее чем в пять человек. Труппу разбивали на пятерки, у каждой пятерки назначался начальник (что заставляло четверых подозревать этого пятого в тайном стукачестве). Того, кто ослушался, ожидали жестокие кары.
Все артисты и гримеры сели толпой в автобус и поехали в театр «к явке», за сорок пять минут. Тэд же, как человек профессиональный, отправился в театр значительно раньше, чтобы сделать свою работу. За что и был объявлен ненадежным человеком. «Невыездным». Вместо него на гастроли за границу стал ездить другой человек, очень советский и надежный.
Надо заметить, что заграничные гастроли, помимо весьма незначительного туристического интереса, таили в себе интерес наиглавнейший: возможность купить в прогнившей насквозь капстране одежду (приодеть себя и родственников), радио и телеаппаратуру и прочее с возможной последующей продажей здесь, в стране развитого социализма с абсолютно пустыми прилавками.
Поэтому борьба за участие в загрангастролях велась на уровне дирекции, парткома и режиссерского управления очень жесткая.
Владик Стржельчик и я пошли к Товстоногову с просьбой помочь Тадеушу вновь стать выездным.
Мало того, что он прекрасный гример, профессионал, творец, помогающий перед спектаклем актеру войти в образ, он ведь и автор гримов в «Дяде Ване», «Пиквикском клубе», других спектаклях. И это очень несправедливо: талантливый художник не едет, а бездарный поденщик пользуется всем, что создано другим, говорили мы.
Товстоногов разделял наше негодование и обещал восстановить справедливость.
Он появился у гримерного цеха за полчаса до начала очередного спектакля. Гордо и загадочно вышагивал по коридору, сопя и дымя сигаретой. Дождавшись, когда в гримерном цехе собралось много народу, включая начальника цеха и самого Тадеуша, он вошел туда, подошел к Тэду, поздоровался с ним за руку, приобнял и громко на весь цех произнес:
Уважаемый Тадеуш! Вы можете быть совэршэнно спокойны! На следующие загрангастроли едете вы! Вы талантливый художник, и ваше участие в гастролях нэобходимо тэатру! Повернулся и гордо пошел к выходу В дверях обернулся и, обращаясь ко всем, многозначительно произнес: До свидания. Сверкнул очками и вышел.
Ну, а дальше Через неделю Товстоногов поехал куда‑то за границу выпускать спектакль. И не мог уже непосредственно влиять на происходящее в театре. А потом театр поехал в ту же страну на гастроли. А Тадеуш? А что Тадеуш? Его не пустили
Гримерная, где сидели три человека Гаричев, Юрский и я, была большой, с низкими боярскими сводами, двумя крохотными окошками, с большим старинным диваном и тумбочкой, на которой красовалась скульптура с надписью «Невинность» изделие времен петербургского Серебряного века: девичья головка с невинно опущенными долу глазками, зеленовато‑серая.
Все своды пестрят разноцветными подписями. Наши гости, вставая на стул, расписывались на потолке специально приготовленными кисточками.
А гости были со всего света! Театр был знаменит. Наряду с Таганкой, «Современником», эфросовской труппой он был одним из передовых театров Союза, да и Европы, пожалуй. В него всегда стремились зрители, кое‑кто даже для престижа.
Вообще‑то вначале Толя Гаричев, прекрасный артист и талантливый художник, предложил «сваять» во дворе театра Памятник неизвестному актеру. («О! Я заслужил памятник при жизни!» воскликнул Боря Лёскин, впоследствии эмигрировавший.) Идея была подхвачена нами, но уперлась в технические трудности. Тогда он предложил расписать своды нашей гримерной наподобие Сикстинской капеллы, и эта идея долго владела нами, но постепенно переродилась в расписывание потолка автографами гостей. Чьих только подписей не было на потолке!
От моего педагога Массальского (он вошел за кулисы с громким возгласом: «Где здесь гримерная артиста Басилашвили?» А играл я ничтожную роль Малберри в брехтовской «Карьере Артуро Уи». Мой педагог таким образом хотел меня поддержать) до великого Шагала, который на нашу просьбу нарисовать что‑нибудь на потолке сказал, что вам, дескать, молодые люди, это будет слишком дорого стоить! Правда, на портрете, быстро набросанном Толей, он подправил свой нос, чем Толя впоследствии очень гордился От тогда еще опального Солженицына до Артура Миллера. Лоуренс Оливье, Сартр, Симона де Бовуар, маршал Жуков, Аркадий Райкин, Эраст Гарин Господи, да чьих только автографов нет на этом потолке!..
Многие «самозванцы» пытались поставить свою подпись, войти в общество избранных ан нет! мы проводили тщательный отбор!
Наша троица первая поставила свои подписи. Товстоногов увидел наше художество, засопел, взял кисть и крупно расписался. И пошло, и поехало
Стена с автографами в кабинете Любимова на Таганке в Москве это уже вторично, это они с нас взяли пример.
Наша троица жила дружно. Казалось, так будет всегда
Лидером в нашей гримерной, несомненно, был Юрский. Он был лидером всей театральной жизни Ленинграда. Его роли Чацкого, старика в «Я, бабушка, Илико и Илларион» Думбадзе, профессора Полежаева в «Беспокойной старости» Рахманова (отнюдь не сладостного апологета советской власти, каким сыграл его в кино Черкасов), Виктора Франка в «Цене» Миллера, Джузеппе Дживолла в «Карьере Артуро Уи», Тузенбаха в «Трех сестрах» выделялись на общем театральном фоне не только ярким талантом и мастерством. Было в них нечто, что ставило Сергея в один ряд с людьми, которых я называю «общественными ориентирами» некий второй или третий план, порождаемый твердой, бунтующей гражданской позицией. Это вызывало восхищение одних и зависть и недоброжелательство других, очень многих.
Конечно, тот актерский клуб, в который превратилась наша гримерка, обязан своим рождением именно Сергею. Славные люди приходили сюда: Павел Панков неторопливый, мудрый; Борис Лёскин острый, саркастичный; Миша Данилов человек с энциклопедическим кругозором, гоголеман (томик прижизненного издания Гоголя был у него всегда с собой, в специально пришитом кармашке); Вадик Медведев красивый, добрый, да всех и не перечислить. Каждый вносил свою ноту в компанию, и было счастливо, хорошо.
Сережа одним из первых среди нас начал сниматься в кино на «Мосфильме», привозил из Москвы песни дотоле неизвестного нам Окуджавы. Научился играть на гитаре и пел, пел Читал стихи, и свои тоже. В Доме актера был, если не ошибаюсь, его первый исполнительский опыт он читал «Случай в Пассаже» Достоевского. А я, каюсь, не придав значения этому событию, пошел в буфет и просидел все время Сережиного выступления за графинчиком, чем, конечно, обидел Сергея, и до сих пор мне очень стыдно
На мой взгляд, нет сейчас мастера, подобного Юрскому, который мог бы с таким блеском играть моноспектакли, подобные Сережиной «Сорочинской ярмарке» и другим. Это не просто «художественное чтение», но каждый раз яркое действо, рожденное талантом не только актера, но и умного, четкого режиссера Юрского
Мы сочиняли пародии на оскомину набившие фальшивые «Последние известия» на радио.
Интонация укоряющая:
Союзу советских художников требуются советские художники!
Обеспокоенная:
Заводу «Электропульт» срочно требуются электропульты!
Интонация ликующе‑объективная:
Под Ленинградом открылся новый однодневный концлагерь. Уже в первые дни его посетили рабочие, колхозники, много интеллигенции
С радостной улыбкой:
Открылась первая очередь дерьмопровода Москва Ленинград. Первый секретарь обкома партии товарищ Романов перерезал алую ленту, и первые тонны московского дерьма хлынули на широкие проспекты нашего прекрасного города
Захаживали к нам и старики‑мастера Полицеймако, Копелян
Это моему экспромту Ефим Захарович, заглатывая ус, беззвучно до слез смеялся:
Проказница Мартышка,
Осёл, Козёл и косолапый Мишка
Затеяли сыграть квартет.
Их вызвали в Центральный Комитет
Толя Гаричев вдохновенно писал на картоне гуашью великолепные портреты наших артистов. Должен, положа руку на сердце, сказать: ни одному из известных мне художников не удавалось так точно схватить характеры и внешний облик Шарко, Лаврова, Юрского, мой
Я читал стихи, и Сергей первый посоветовал мне выступать с чтением на эстраде. Значительно позднее я воспользовался его советом, и это стало второй любимой моей профессией.
Так что видите? этакий салон искусств, а не гримерная, этакое «Стойло Пегаса»
Наиболее ярок был, конечно, Сережа, и, повторяю, это не давало покоя многим неярким товарищам.
И чего ради он выпендривается?! осуждающе говаривали они.
К сожалению, мимо меня проходило многое из того, что трогало Сергея и питало его душу. Бродский, Шемякин и многие из этого круга были знакомцами Сергея, они взаимно обогащали друг друга, а я лишал себя всего этого, прежде всего из‑за зацикленности на своих личных проблемах, на себе самом Был, видимо, ленив и нелюбопытен.
Сережа с энтузиазмом воспринял и воплотил на сцене то новое, что пришло к нам с появлением в БДТ польского режиссера Эрвина Аксера. Эрвин, ставя пьесу Брехта, требовал актерского существования в новой, подчеркнуто яркой стилистике, требовал «отчуждения» брехтовского, и наиболее ярким апологетом этого нового метода стал Юрский. Многие считали это «отходом от славных традиций русского театра», «предательством основ». Насколько легче сидеть сложа руки и пользоваться уже наработанным, чем пытаться идти дальше, искать новые пути А те, кто не успокаивается, ищет как они раздражают, мешают жить, ненужно бередят совесть.
Так что же заставляло толпы поклонников после спектакля ломиться в нашу гримерную, прежде всего к Юрскому, жаждать поставить свой автограф на потолке? Что притягивало актеров нашего БДТ в нашу гримерную? Что объединяло всех?
Убежден: объединяло, притягивало в первую очередь ощущение внутренней свободы, исходящей от Сергея; свободы, позволяющей ему быть критичным, независимым, не испытывать ужаса перед различными «табу», искать, ошибаться, находить. Ему тесен актерский плацдарм он идет в режиссуру, ставит «Фиесту» Хемингуэя сначала в театре, потом на ТВ, ставит «Мольера» Булгакова на сцене БДТ, свой самый знаменитый спектакль «Фантазии Фарятьева» на малой сцене.
Вызывало это и восхищение, и, к несчастью, зависть и глухую вражду. Недаром товарищ Романов, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, дал негласное распоряжение запретить показывать Юрского по телевидению, транслировать его по радио в Ленинграде. Его, видимо, как и очень многих, раздражала эта внутренняя свобода, позволявшая Юрскому быть самим собой, не считаясь с общепринятыми правилами, работать, опираясь в первую очередь на ощущение собственной правоты.
Такие люди опасны. А что, если все начнут руководствоваться только этим ощущением? Как управлять ими? Вычеркнуть Юрского из жизни и конец. «Есть человек есть проблема, нет человека и проблемы нет». Известная, популярная фраза. И сейчас она незримо парит на фронтонах некоторых учреждений.
Когда я, пользуясь любым удобным случаем, спрашивал у «власть имущих»: что произошло? В чем вина Сергея? следовал ответ с ухмылкой и подмигиванием: «А вы у него спросите!..»
У руководства Ленинградского ТВ были крупные неприятности, когда в «Новостях», в телерепортаже с какой‑то фотовыставки среди прочих портретов мелькнул нос (только нос!) Сергея Полетели головы!
Товстоногов ходил черный, словно концертный рояль. Он обожал Юрского. Ревновал его как режиссера, но боготворил как актера, мечтал ставить с ним «Дон Кихота» Булгакова, многое другое
Посмотрел бы я на вас, читатель, попади вы на место Сергея! Конечно, он бывал «неадекватен», как принято сейчас говорить. Агрессивен, подавлен Когда на свободного человека надевают наручники, какую реакцию это вызывает?! Нервы напряжены, обида клокочет все становятся подозрительны многое делается назло
Короче, Романов своего добился.
Юрский уехал в Москву.
Уехала и Наташа Тенякова вместе с Сережей.
Гримерка наша осиротела, остались мы вдвоем с Толей Гаричевым. Но ушел и он, и я остался один охранять потолок с сотнями автографов. А потом перевели меня в одноместную гримерную, в коридор под названием «народный тупик». Ребята мои дорогие, как же мне вас не хватает! Телефон? Да что можно по телефону
Как быстро на этих страницах летит время! А ведь почти семнадцать лет просидели мы втроем в нашей гримерной. Было тут все и радость, и горе
Но главное спэктакли! Без всяких скидок, многие из них были шедеврами. Разве забудешь такое?
«Три мешка сорной пшеницы»: война, голод, умирающая без мужиков деревня. Последние три мешка, «заначенные» председателем для будущего сева, и те отбирает чекист «для фронта». Двое подростков Тенякова (Вера) и Демич (Женька Тулупов), ощущающие себя уже зрелыми бабой и мужиком, голодные до любви, до близости, остаются наконец‑то наедине. Кровать с бомбошками. Подушки горкой, одна на другой. Дощатый стол. На столе поллитровка, лук, две алюминиевые кружки. Привычно «хакают», выпив водяры, занюхивают луком. Скидывают одежду. Она в длинной сорочке, серой, застиранной, он в видавших виды кальсонах. Садятся на скрипучую кровать. Ну?! И тут неожиданно словно откуда‑то с неба раздается детская песенка, хор, примитивная, легкая детская мелодия «Мама, мама » Они сидят, не прикасаясь друг к другу «Мама, мама » Меркнет свет, остаются двое. Смотрят в зал Сверху бережно, словно боясь нарушить что‑то чистое и прекрасное, медленно опускается, как будто пытаясь укрыть, согреть, словно мать своих детей, серая мешковина та самая, что парила весь спектакль над сценой то ли как облако, то ли как напоминание о мешках с пшеницей Опускается, пытаясь приласкать своих сирот маленьких девочку и мальчика одиноких, потерянных мама мама
Без спазмов в горле нельзя было смотреть на это чудо Что ты, сволочь, война, делаешь?!! Что вы делаете, люди, зачем губите друг друга, зачем уродуете совсем молоденьких, убиваете их, заставляете черстветь их души, изворачиваться, опускаться в грязь, лгать?!! Мама моя, родная, пригрей, пожалей меня!.. Где ты?..
Или «Мещане»
Певчий Тетерев. Панков. Третий день запоя. Потный, грязный. Мокрый. Волосы спутаны. Пьян философически. Сидит на диване. В руках пустая бутылка. Вечерняя комната. Обои в цветочек. Ранние сумерки. Лампа не зажжена. В углу под пальмой граммофон с огромным раструбом. Буфет огромный. На нем огромные банки с соленьями, вареньями. Из граммофона Шаляпин: «О‑о‑о, если б вовеки так бы‑ы‑ыло если б вовеки та‑ак »
Тетерев огромный, могучий, пьяно рассуждает вслух о подлости человеческой: «Вот человек изобрел стекло А подлец сделал из него бутылку с водкой подлецы » И плачет странно так, словно хрипло лает «О‑о‑о, если б вовеки так » Сумерки сгущаются. Пластинка заканчивается, и наступает тишина, нарушаемая лишь холостым шипеньем и щелканьем граммофонной пластинки: ш‑ш‑ш‑щелк! ш‑ш‑ш‑щелк! ш‑ш‑ш Хрипло рыдает Тетерев, лает по‑собачьи ш‑ш‑ш‑щелк!.. Совсем почти темно в комнате, предметы потеряли очертания. Тетерев почти бесплотен
И вдруг с ужасом понимаешь, что цветочки на обоях вовсе не на обоях, это обман зрения, они громадные, там, далеко‑далеко, в холодном космосе, что комната эта не столовая в доме Бессеменова, а крохотная частица в страшном космосе с разбросанными по нему гигантскими розами
Хрипло лает Тетерев только бесплотная оболочка только цветы темные, гигантские, грязные, равнодушные ш‑ш‑ш‑щелк!.. ш‑ш‑ш‑щелк!..
Занавес.
А «Три сестры»? Пелена пошлости, постепенно выдавливающая сестер вон из дома, и они, уже на улице под развеселый марш уходящего полка, стоят обнявшись, а вдали, за березами, Андрей, небритый, всклокоченный, катит коляску с очередным Бобиком
«Беспокойная старость», один из шедевров Товстоногова, вовсе не о революции, а о верности, преданности, о старости, уходящей в вечность!! Разве можно было без слез смотреть на то, как два старика, Юрский и Попова, муж и жена, два старых петербуржца, оставшись совсем одни, смотрят в зал, потом поворачиваются к нему спиной, и исчезает петербургская комнатная анфилада, распахивается необъятное вечное пространство, возникает бесконечная дорога, уходящая далеко‑далеко, в темные небеса Они торжественно, медленно, рука об руку уходят от нас в бесконечность, постепенно уменьшаясь в размерах, теряя очертания навсегда в вечность
В финале «Дяди Вани» Соня плачет: « Мы отдохнем! Мы отдохнем!..» Вафля трынь‑брынь на гитаре сверчок maman листает брошюру уютно светит керосиновая теплая лампа просто Хотьково умиротворение Но исчезают стены теплого дома, и голые стволы деревьев в холодном пустом осеннем саду кружат свой печальный одинокий прощальный хоровод. Вафля трынь‑брынь трынь‑брынь Голая, пустая, безнадежная Россия
Так могу до бесконечности. Замечу, что все эти чудеса были бы невозможны без точной актерской работы. Они были естественным продолжением, квинтэссенцией того чуда взаимодействия характеров, которое происходило на сцене и являлось плодом тяжелого, изнурительного труда, постепенно становящегося в радость
В работе Гога (да позволено мне будет называть его так на этих страницах, ведь за глаза все его так и называли) был нетерпелив, неумолим, беспощаден Хорошо это или плохо? И то и другое, наверное.
Он чувствовал результат, ощущал его подкоркой и хотел, чтобы и актеры как можно скорее и точнее подошли к этому результату. Конечно, он понимал, что бутон (актер, душа актера в данном случае) не может сразу превратиться в цветок, ему надо дать созреть, и он пытался смирить свое нетерпение, объяснял актеру его задачу, десятки раз повторял одну и ту же сцену, и если не получалось, у него росло раздражение Почему?! Почему он чувствует, кожей осязает то, что должно произойти, а актер так невыразителен, вял и мелок?!!
Идет третья или четвертая репетиция.
Что з вами? Почему вы так инертны? Я вас не слышу!
Георгий Александрович, я ведь еще текст точно не знаю, поэтому я не хочу форсировать
Пауза
А знаэте, есть прэкрасный китайский способ почувствовать себя уверенней! Хотите знать, какой?
Да, конечно, Георгий Александрович!
Надо хорошо выучить тэкст!!
И если у актера не шла роль, если он по‑прежнему не вписывался в картинку, которую так отчетливо видел Гога, вывод был беспощаден: снять с роли! И авторитетов для него не существовало. Необходим конечный результат спэктакль!! Остальное не имеет значения.
Даже великий Лебедев, муж его родной сестры Нателлы, родственник, однажды полетел с роли, не найдя общего с ним языка
Чаще всего Товстоногов помогал актеру не логичным мхатовским действенным разбором, а тем, что предлагал ему яркую и точную «картинку», раскрывающую самую суть персонажа, его зерно.
«Иркутская история».
Валя (Доронина) узнает неожиданно, что ее муж Сергей, который полчаса тому назад весело шел купаться на реку, утонул, спасая детей. Таня талантливо играла ужас Рыдания, слезы
В дело вступает Гога:
Спасибо. (Бутафорам.) Натяните веревку по сцене. Танечка, возьмите таз, наполненный бельем Так. Вы только что стирали. Теперь идите вдоль веревки и развешивайте белье. (Бутафорам.) Прищепки! Гдэ прищепки?!! Так. Развешивайте аккуратно, разглаживайте. Тэпэр Родик (Юрскому) сообщайте Танэчке эту страшную весть. Так. Таня! Долго смотрите на Родика Никаких слез!! Просто смотрите. Как угодно долго. Вот! Так! А тэпэр начинайте аккуратно снимать прищепки, снимать аккуратно белье и складывайте его обратно в таз. Никаких эмоций! Вот! (Сопение.) Сложили все мокрое белье обратно в тазик. Проверьте, аккуратно ли? Так. Поворачивайтесь и совершенно спокойно идите к дому. Спокойно, медленно. Не оборачиваясь. Так!! Подошла к дому. И рухнула!! (Кричит.) Рухнула как подкошенная!!! Замертво!!! Встала! Встала! И быстро ушла в дом!! Ну, это был эскиз Оправдайтэ, пожалуйста!
И пых‑пых сигаретой Победоносно поглядывая на сидящих в зале, а их всегда было много на репетиции, вышагивает по проходу, сопя и поблескивая очками.
Кстати, он всегда выслушивал каждого, кто подходил и шептал, желая помочь, а иногда и просто напомнить о себе.
Гога проживал за каждого, повторяю: за каждого его роль. Удовлетворенно дышал, когда его внутреннее ощущение совпадало с тем, что делал актер. Гневно останавливал, когда чувствовал, что актер «вываливался из картинки»:
Что з вами?!!
Повторяю, он чувствовал за каждого на сцене. Доходило до смешного. Репетируем «Дядю Ваню». Скоро уже генеральные. Роль идет. И есть одно потайное место в ней, одна деталь, которая мерещится мне, но сделать пока не хочу. Не могу. Рано. Надо еще две‑три репетиции, когда роль до конца наполнится, до краев, и эта деталь не будет выглядеть искусственно. Наконец настал этот день. Легко, свободно несет меня чувство, переполняет Вечер уезжают все Елена Последний раз вижу любовь мою Идет ко мне Вот оно, вот это место! Сейчас я это сде
Простите! Олэг! подбегает Гога к рампе и заговорщически: «Попробуйте вот что и предлагает мне то, что я только что намеревался сделать!.. Так и не удалось поразить Гогу. А он жил, дышал моим дядей Ваней, вместе со мной проживал всю роль и в момент, когда, как и я, почувствовал, что готов, радостно предложил мне сделать то, что готов был сделать и я
Помните слова Товстоногова: «В юности я мечтал создать театр, который бы впитал в себя все лучшее, что было в Художественном театре, в Вахтанговском, у Мейерхольда И в БДТ это мне почти удалось»?
Ради сохранения своего театра он делал всё был жестким и шел на компромиссы, ставил «детские» спектакли, лелеял труппу, воспитывал обслуживающий персонал, иногда, ради театра, даже подписывал то, что подписывать было не надо Ибо главная тема его жизни СПЭКТАКЛЬ! А спектакль для того, чтобы
Он никогда не говорил об этом, наверное, и для себя не формулировал эту сверх‑сверхзадачу
Для того, чтобы сделать мир лучше. Помочь людям почувствовать себя людьми свободными, прекрасными членами одной большой семьи человечества.
И лучшие его спектакли пробуждали в людях именно это неосознанное чувство.
Вот меня занесло куда! Ведь о себе пишу, о себе! Но как можно при этом обойтись без Георгия Александровича?!
Однажды, в голодные на книги годы, я подарил ему французский толковый словарь Larousse. «Вам нужен этот словарь?» спросил я его. «Да, он отвечал. А почему вы мне его дарите?» Я объяснил, что папа и мама у меня умерли, словарь стоял в их книжном шкафу «Кому же, как не вам, Георгий Александрович, он должен теперь принадлежать?» Он помолчал. Потом сказал: «Спасибо, Олэг».
ЦК КПСС
О, эти приемы в ЦК!! Показательный акт единения партии и народа, «демократического» обсуждения насущных проблем культуры
Я был на таких приемах дважды. В узком кругу. Товстоногов и пять‑шесть ведущих актеров. И товарищ Шауро, заведующий отделом культуры ЦК КПСС. В Москве, в здании ЦК на Старой площади, нас приобщали к решению глобальных проблем. Приобщая, пытались приручить.
Тишина академическая. Вежливые чекисты. Длинные лаковые коридоры с дубовым паркетом. Чистота и блеск, как в довоенном метро.
Жуткие призраки Сталина, Маленкова, Жданова не к ночи будь помянуты
В огромном кабинете нас принимает товарищ Шауро, седой, весь в сером. Все референты тоже в сером. Шауро демократично садится за один стол с нами. Боржоми. Хрусталь. Референты остаются на стульях вдоль стен.
Беседа должна быть общей, в ней каждый должен принять участие. Мы с ужасом ждем вопросов. Вся надежда на Гогу. Он может взять слово и, пользуясь случаем, просить какие‑нибудь льготы для театра.
После нескольких общих фраз Шауро спрашивает, почему у нас в театре так мало сопрано?
Их действительно мало, а если честно совсем нет, ибо мы не оперный, а драматический театр. Правда, Большой.
Потом Шауро сказал, что хочет посоветоваться, какую редакцию нового гимна СССР утвердить. И в каком исполнении. «Тут у нас накопилось очень много вариантов», и он показал на застекленный шкаф, плотно уставленный сотнями пластинок с гимном. (После смерти Сталина гимн стали называть «Песней без слов», ибо в его тексте произносилось имя Сталина, которое после XX съезда было под запретом. Хотя музыка осталась прежней. Как, впрочем, и теперь.)
«Вот сейчас мы их и послушаем, и обсудим. И утвердим», пошутил товарищ Шауро.
Он поставил первую пластинку на новенький заграничный невиданный «Грюндиг» мечту фарцовщика: в магазинах‑то лишь наши, ненадежные, с тусклым звуком, и гимн зазвучал. Шауро встал, не потому что гимн, а просто поразмяться как бы, и все референты тоже вслед за ним поднялись да нет, не из‑за гимна, а так кто взглянуть, какова погода, идет ли дождик, кто к свету поближе хоть и не утвержден пока, а все‑таки гимн, а не хрен собачий, а то потом обвинят черт‑те в чем, трудно, что ли, задницу от стула оторвать
Это исполняет оркестр Большого театра, пояснил Шауро.
Пластинка отзвучала. Шауро аккуратно, держа двумя пальчиками, уже ставит вторую:
А это Большой симфонический оркестр Иная уже оркестровка
Все референты стоят. Шауро прогуливается по ковру. А мы, как истуканы, сидим, словно пригвожденные. Сидеть как‑то неудобно, когда все стоят, вроде мы их не уважаем, а встать уж совсем глупо
Музыка Александрова звучит в третий, четвертый и пятый раз. Пугает начальный аккорд: тр‑р‑р‑рам! Я в ужасе смотрю на шкаф: да там пластинок не меньше сотни. Мама родная Что же делается!
Опять пальчики. И опять тр‑р‑р‑рам!
А вот хор поет с оркестром. Новые слова Михалкова.
А, Михалков, значит, и там, и здесь Тр‑р‑р‑рам! Боже!..
Гога молча сопит. Курить нельзя здесь ЦК!
Отзвучала очередная пластинка. Товарищ Шауро вдруг спрашивает:
А как сделать, чтобы все знали новые слова гимна?
Посыпались предложения напечатать на листовках. Расклеивать в метро, в трамваях и т. д.
И тут наш артист Борис Рыжухин, ортодокс до мозга костей, в патриотическом порыве вдруг произносит:
А у меня предложение. Ведь сейчас гимн исполняется по радио только два раза в сутки. Правда?
Правда, отвечает Шауро.
Каждый час пусть играют. И поют. После новостей. Тогда все выучат. Волей‑неволей.
Повисла пауза.
Гога яростно сопит. Что сказал Шауро, я уже не помню что‑то вроде: «Ну что ж, надо подумать » И опять приседает к столу:
А теперь вот о чем. (Референты кинулись к своим стульям и сели, слава богу.) Что не устраивает вас в политике КПСС в области культуры? Подумайте, вопрос непростой, не уходите от ответа. Буду спрашивать каждого персонально! Не старайтесь «отмазаться».
Вот и влипли. И вдруг Гога хрипло, громко:
Позвольте мне?!
Прошу вас
Мало молодых режиссеров! Кто в этом виноват? Вы!! и пальцем указательным на Шауро и на стены в портретах классиков марксизма‑ленинизма. Вы!! Ваш страх перед молодыми, ваш страх перед всем новым, непривычным, понимаэте!! Почему вы из института направляете молодого режиссера в подмастерья в академический театр? Почему вы не даете ему свободно создать свою труппу, свой круг единомышленников?!! Почему он не может создавать свой театр в подвале, на чердаке, да где угодно, на улице, в конце концов? Чем больше таких театров, тем больше конкуренция, а значит, тем больше ярких индивидуальностей! А вы губите его талант, заставляя его работать на главного режиссера! Да ни один главный не потерпит рядом с собой яркую и талантливую личность! Он подавит его индивидуальность! Подомнет его под себя! Что и происходит! Не губите молодых! Дайте им свободу!
Выхватывает сигарету. Зажигалка выбрасывает громадный факел огня! У‑у‑фф‑пфф он удовлетворенно засопел
Это происходило в здании ЦК в семидесятые годы, когда любое свободное слово преследовалось.
Вспомним судьбы художников с «бульдозерной выставки», двух питерских живописцев, сожженных в собственных мастерских, разгон эстрадной студии МГУ во главе с Розовским, судьбы Эфроса, Любимова, Сахарова, авторов альманаха «Метрополь» Вспомним гениального Бродского и позорный суд над ним! Солженицына Ростроповича
А тут, в ЦК, прямо в лицо заведующему отделом культуры: дайте свободу!..
Когда мы уходили, Шауро задержал меня в дверях и шепнул: «А вас мы любим!» Я глупо ответил: «И я вас тоже!»
Но мне стало обидно. Чем я хуже тех, кого не любит товарищ Шауро?!
Мы спустились в буфет ЦК. И купили «дефицит»: черную икру в двухсотграммовых банках, конфеты «Птичье молоко», Гога блоки «Мальборо», все за копейки, и вышли на свежий воздух, к бульвару у Ильинских ворот, туда, где давным‑давно забрали нас с Витькой Альбацем в 46‑е отделение милиции за то, что мы срезали ветки кустарников для лука и стрел
А слова гимна михалковского так никто толком и не знает. До сих пор. Ни старого, ни нового. Знают только тот, сталинский, под звуки которого гнали зэков на лесоповал. А этих никто не знает. А встают все. Как те референты.
Мама
Моя мама, Ирина Сергеевна Ильинская, появилась на свет в 1908 году. В Москве, на Солянке, в семье архитектора Сергея Михайловича Ильинского и его жены Ольги Николаевны, в девичестве Тольской.
Училась в школе уже в послереволюционные годы. Это, по ее словам, была школа‑коммуна, нечто вроде «республики ШКИД»
« За кашей для класса ездили на Мясницкую. Там была «фабрика‑кухня». Впрягались в сани, а на них громадная бадья с кашей. Везем как‑то вдвоем с подругой санки с бадьей, полной каши, а на Хитровке беспризорники окружили. Подняли крышку и ну плевать в кашу и харкать Что делать?! Ну, мы с подругой помешали кашу большой ложкой, привезли в школу, ничего не сказали. Ничего, ели с большим аппетитом » рассказывала мама.
Учителей она вспоминала с большим уважением и любовью. Это были русские интеллигенты, привившие своим ученикам подлинный демократизм и уважение к окружающим. Мама до последних дней сохраняла связь со многими своими одноклассницами и хранила светлую память о любимых учителях.
В университетские годы мама встретила моего отца Валериана Ношревановича. И в результате появился я.
Чувство вины перед мамой не покидает меня. А в последние годы оно становится все более и более ощутимо.
Что я знал о маминой работе? Мало.
Помню, еще до войны она появилась у нас на даче в Пушкине вся в слезах в вагонной давке в электричке у нее бритвой срезали портфель. Помню этот портфель из кожи «под крокодила», темно‑зеленый, с двумя блестящими замками. В портфеле находилась диссертация, над которой мама корпела не один год. Выйдя из вагона, она обнаружила, что держит в руках только ручку от портфеля.
И каково же было счастье, когда милиция Ярославской железной дороги вернула ей рукопись! Вагонные воры за ненадобностью не выбросили диссертацию, а положили ее в специальный ящик «Для найденных документов». Благородные тогда были воры!
Я мало интересовался мамиными делами: был занят своими театром, кино. А мамина филология казалась мне сухой и скучноватой наукой, и маму это, конечно, огорчало.
Я храню письма, адресованные маме.
Вот письмо студентки из Тбилиси:
Дует сырой ветер, моросит дождь у нас в Тбилиси, и так живо вспомнилась осень, Ваши первые лекции. Они навсегда останутся у меня в памяти как самое интересное из того, что мне довелось услышать в первый год моего пребывания в университете. В ушах у меня звучит Ваш голос, просто и интересно рассказывающий то, что легко можно бы сделать запутанным и скучным Спасибо Вам. Седа Григорян.
А это письмо известного специалиста по творчеству A. C. Пушкина Татьяны Григорьевны Цявловской:
Прочла прекрасную Вашу работу С большим интересом прочитала я это очень тонкое исследование диалектического процесса использования Пушкиным архаизмов на протяжении его творческого пути.
Выводы Ваши кажутся совершенно естественными, единственно возможными.
Это одной природы с Колумбовым яйцом.
Спасибо Вам большое!
Ваша Т. Цявловская.
11 авг. 1972 г.
В старом‑престаром нашем книжном шкафу с зеленым пупырчатым стеклом стоят мамины книги.
Четырехтомный «Словарь языка Пушкина». Первый том вышел в 1956 году. Его редактором и одним из составителей была Ильинская, моя мама.
С какой теплой грустью вспоминаю я время, когда шла работа над Словарем! Бывали дни, когда столовая наша превращалась в редакцию, здесь собирались все авторы Словаря: Григорьева, Сидоров, Левин, Бернштейн, Плотникова.
Дым коромыслом, груды книг, бумаг В конце работы обязательно пили чай с пирогом!
Я и бабушка тоже принимали участие в создании Словаря: заполняли словарные карточки и получали по копейке за каждую.
Но вот наконец вышел первый том!
И, как гром среди ясного неба, в «Литературной газете» появляется издевательски‑уничтожающая статья, прямое обвинение составителей в том, что они просто зря пачкали бумагу. Лучше бы на что‑нибудь полезное употребили
Помню отчаяние мамы, темные круги под ее глазами, приглушенные разговоры в столовой.
Спас положение приехавший из Америки один из крупнейших лингвистов XX века, Роман Якобсон. Он заявил на каком‑то высоком собрании в присутствии первых лиц государства, что поздравляет советскую науку с двумя великими достижениями выходом в свет «Словаря языка Пушкина» и запуском в космос первого искусственного спутника Земли.
И вновь заклубился дым в столовой, за чаем Левин сыпал анекдотами
А вот «Орфография и русский язык». Редактор и автор одной из статей моя мама.
Сколько ругани обрушилось на автора реформы орфографии! Неистовствовали в основном «инженеры человеческих душ», писатели. В первых рядах Мариэтта Шагинян, та самая, которая после проведения первой реформы русской орфографии 1918 года, когда из алфавита были исключены некоторые буквы, кричала, что «никогда не будет читать Пушкина на прачкином языке» У мамы инфаркт. Слава богу, обошлось без последствий!
«О богатстве русского языка» тоже мамина работа. Академик Лихачев хотел переиздать эту книгу, но потом передумал это делать, пояснив мне, что « ряд примеров, приводимых в книге, продиктованы условиями того времени» и что он не имеет права «менять эти примеры в отсутствии автора».
Жаль.
«Лексика стихотворной речи Пушкина» за эту книгу маме была присуждена степень доктора филологических наук.
Последняя мамина работа «Русский язык: Учебник для учителей». Здесь мама и редактор вместе с М. В. Пановым, и автор нескольких статей
Она считала, что законы русского языка так же точны и безусловны, как законы физики, и что преподавать их надо совсем иначе, что «русский язык» может стать самым увлекательным предметом для школьников. Это и было доказано в одной из школ.
Мама с ее демократическим воспитанием на всю жизнь сохранила тягу к литературе, отстаивающей демократические ценности. Солженицын, Белов, Астафьев, Солоухин, Трифонов вот круг ее литературных интересов, ее привязанностей.
Наши с ней обсуждения и споры обо всем, что печаталось в «Новом мире», в «Иностранной литературе», были счастьем духовного общения, совпадающими взглядами; мы с радостью обнаруживали их схожесть и говорили, говорили!..
Ну, а Пушкин был для нее высочайшим образцом человечности, почти родным и близким человеком
Мама нетерпеливо ждала моих приездов, пекла пироги
Вопрос о моем возвращении в Москву встал сразу же после нашего переезда в Ленинград. Считалось, года два‑три поработаем, наберемся опыта и вернемся в Москву
Потом, после перехода в БДТ, вопрос стал еще острее: с Таней разошлись, ничего не держит, можно и возвращаться. Но я не хотел возвращаться «побитым». Вот добьюсь признания, сыграю успешно несколько ролей, тогда и в Москву!..
Сыграл, а впереди маячит еще что‑то очень интересное как же уходить?
Да еще я ведь не один уже у меня семья: жена Галя, дочери, первая Оля, а позже и Ксюша. А как Гале искать работу в Москве?.. Да и куда переходить?! В те годы БДТ был самым популярным театром в СССР, к нам стремились многие артисты, и из Москвы тоже А заграничные гастроли?! Ведь мы были единственным драматическим советским театром, который ездил за границу. Вся Европа, Япония, Индия, Америка
И я все откладывал решение «на потом», надеясь, что все само устроится.
Но вот в 1975 году умер папа. Мама осталась совсем одна. Она часто болела, температурила «Когда же ты, Олег, вернешься в Москву? Мне все труднее становится одной »
Жизнь предъявила мне ультиматум. Я должен, я обязан жить рядом с мамой. Жить в одном городе.
Оторвать маму от ее московских корней, перевезти в Ленинград, лишив ее родного Института русского языка, от коллег и друзей, от Ваганькова, где муж и отец, от Донского монастыря, где мама и брат, от Покровки, от любимого ее Хотькова невозможно. Это погубит ее.
Значит, вывод один: я должен уйти из БДТ, бросить театр, который стал громадным художественно‑общественным явлением, где я занимаю далеко не последнее место, оторвать Галю, Олю и Ксюшу от насиженных мест, менять квартиру, устраиваться в какой‑нибудь московский театр, где неизвестно как сложится судьба
Я трусливо избегал принятия решения, тянул время, понимал, как трудно маме одной, понимал, что к постоянной ее тоске по сыну прибавилась боль потери мужа. Но я утешал себя тем, что часто бываю в Москве, на «Мосфильме».
Я использовал любую возможность для приезда в Москву: съемки, концерты, пробы, лишь бы быть почаще с мамой. И как же мучительно было мне смотреть ей в глаза, когда наступал час отъезда.
Я целовал маму, брал сумку, спускался на лифте во двор, а мама стояла на лестничном балконе и махала мне рукой
Жизнь требовала решения, а я тянул, трусил, закрывал глаза, прятал голову в песок, словно страус.
Выберите самый оскорбительный эпитет для определения моего тогдашнего поведения я приму любой.
Как это ни тяжело.
Выпейте, Олег!
Это Лев Иванович Снежко, онколог, блестящий хирург, мама проходила у него обследование.
Да и я сам, за компанию!
Чокнулись. Закусили лимончиком Постепенно мир потеплел, упростился. Поговорили о том о сем
Ну как в театре, что нового?
Да вот, играю роль режиссера в «Нашем городке» Уайлдера, скоро начнем «Волки и овцы» Островского.
А как «Городок» зритель понимает?
Вначале туго было непривычно пустая сцена, воображаемые дома, заборы, повозки Сейчас уже ходит зритель, которому близка эта эстетика, и играем с большим успехом.
Да Знаете, Олег, ваша матушка умрет через одиннадцать месяцев.
?!!
Мама проходила обследование в онкологической больнице на Песочной. Замечательный врач Лев Иванович Снежко тщательно обследовал ее; все анализы были хорошими, оставалось только сделать рентген желудка
Ну, это я и в Москве могу сделать! сказала мама.
Она торопилась в Москву, где ее ждала работа, и задерживаться в Ленинграде из‑за какого‑то рентгена упорно не хотела. В Москве сделала в поликлинике обычный рентген, который ничего не показал, и всю последующую зиму радостно трудилась: надо было выпускать первые две книжки «Учебника русского языка для учителей». Мама торопилась и не обращала внимания на некоторые симптомы, прежде тревожившие ее: ерунда, анализы отличные, да и рентген ничего не показал!
Через год, на следующее лето я все‑таки заставил ее сделать рентген в Ленинграде, у Снежко. Мало ли что
Процедура этого рентгена была совсем иной, нежели в московской поликлинике. Что‑то мама глотала, ее крутили, переворачивали
И вот:
Выпейте, Олег! Да Ваша матушка умрет через одиннадцать месяцев.
Если б мама послушалась меня год назад! Тогда ее еще можно было спасти, сделав операцию болезнь только начиналась!..
А сейчас поздно. Поздно!
Какие‑либо медикаментозные или оперативные вмешательства бессмысленны. Пусть ваша матушка проведет этот год так и там, где захочет, с максимальной для нее приятностью. Версия диагноза для нее цирроз печени.
Так судьба решила все сама.
Никита, я не могу сниматься в «Неоконченной пьесе для механического пианино»!!! Мама смертельно больна, и я должен быть с ней на даче в Хотькове.
Будете жить там, где будут съемки, в подмосковном пансионате. Те же воздух и природа!
Не могу, Никита! Мама решила провести последнее лето в Хотькове!
Тогда пошел на хуй!!
Последнее мамино лето мы провели с ней в Хотькове.
А оно было яркое такое, прекрасное, словно улыбалось, прощаясь. Сияли листья нашего девичьего винограда, шелестели листья яблонь, которые мы сажали когда‑то вместе мама, папа и я
Мы одни. Никого рядом. Ночами смотрю в страшное черное небо и молю, молю Бога пожалеть маму, меня
Поздней осенью я перевез маму к нам, в Ленинград, несколько месяцев она пролежала у нас дома, терпеливо выполняя все предписания алма‑атинской травницы: отвары, растирания, компрессы с барсучьей мазью все это я раздобыл в Алма‑Ате, в отчаянии рванувшись к тамошней, как говорили, чудодейственной целительнице. Вначале привез сам, а потом каждую неделю летчики рейса Алма‑Ата Ленинград доставляли мне новые и новые бутылки и банки. Потом больница Академии наук СССР в Ленинграде. Там она и скончалась
Утром того дня, когда мамы не стало, за больничным окном на подоконнике появился абсолютно белый голубь.
Он сидел на фоне чистого пушистого снега, завалившего все улицу, деревья парка напротив, сам еле видимый, и внимательно смотрел на меня черным своим глазом.
Летом я приехал в Москву освободить наши комнаты в коммуналке.
Шли съемки фильма «О бедном гусаре замолвите слово». Придя со съемок, я начинал уничтожать все то, что составляло бабушкину, папину, мамину и мою жизнь. Продавал книги, большую часть маминых книг подарил ее коллегам. Но они, невзирая на мои отказы, оформили все мои подарки через букинистический магазин и прислали мне деньги в Ленинград. Я рвал бумаги, раздавал одежду и посуду.
Иногда натыкался на разные мелочи, которые надрывали сердце напоминанием о жизни, которая прошла и больше никогда не повторится Слезы текли непроизвольно, но, выйдя на улицу, я натыкался всюду на одну и ту же фразу: «Москва слезам не верит!» С афишных стендов, с рекламы кинотеатров, а то и просто поперек улиц на растяжках: «Москва слезам не верит!!»
Это рекламировался новый фильм Меньшова, но мне казалось, что это Москва, оставленная мною, мои кривые переулочки, Чистые пруды и Покровка моя, двор мой, пропитанный аптечной валерьянкой, балкон на четвертом этаже на черной лестнице, с которого мама махала рукой, провожая меня, это они не верили моим слезам и моему горю.
Это верно: Москва не верит слезам.
Галя
Вот уж чего не могу понять: чем, какими статями привлек я внимание молодой, хорошенькой блондинки с ямочками на щечках, с лучистыми голубыми глазами, с белозубой улыбкой!..
Я тоже улыбался ей, благо часто виделись она работала музыкальным редактором на Ленинградской студии телевидения, подбирала музыку для телеспектаклей, в частности, для «Кюхли», где я был занят, для «Обломова» Режиссер Белинский был в восторге от ее работы: «Она дуфой оффуффает эмоциональную суть сцены и придает ей нувную заверфённость».
А ты имеешь большие мшансы, сказал Сережа Юрский после того, как мы однажды проплыли мимо нее по эскалатору метро «Площадь Мира» (она плыла наверх, в город, а мы вниз, в метро), и я в очередной раз ощутил очарование ее улыбки.
Дело в том, что эту миловидную блондинку с ямочками звали Галя Мшанская. И еще в том, что Сергей тогда, в те далекие времена, впрочем, как и сейчас, сыпал остротами направо и налево.
Ну, например: посетил наш город лидер Румынии, ее генсек Чаушеску, любимец и вождь румынского народа, в девяностые годы растерзанный этим же народом. Так вот, этот самый Чаушеску катил в открытой машине по Кировскому, ныне Каменноостровскому проспекту. Стоя. Рядом с ним стоя же наш член Политбюро ЦК КПСС Косыгин. Оба в черных костюмах. Улыбаются. Правые руки подняв, приветствуют редких прохожих. Окна и стены домов вымыты предварительно до уровня второго этажа (предполагалось, что гости поедут в закрытой машине и не смогут увидеть ничего выше).
Мы с Сергеем идем по Кировскому проспекту к площади Льва Толстого, к метро. А они катят нам навстречу, на острова, в резиденцию.
Машины поравнялись с нами. Аплодисменты. Вот он, пламенный Чаушеску.
И вдруг Сергей так ласково:
Чао, чао, Шеску!
Что в переводе с итальянского значит: «Прощай, милый Шеску!»
Чаушеску одарил Сергея улыбкой, махнул ладошкой и уплыл вдаль. А я заржал, словно лошадь.
Или при известии о том, что наш прекрасный главный администратор Роман Белобородов (в просторечии Рома) подал заявление об уходе, Сергей с грустью заключил: «Ариведерчи, Рома!»
И тут «мшансы».
Сережины слова вселили в меня бодрость и уверенность я имею «шанс»! Должен признаться, мне всегда казалось, что особых шансов при знакомстве с женщинами я никогда не имел был излишне робок. К примеру, не умею танцевать, всегда стеснялся пригласить девушку на танец, боясь показаться неловким, смешным. А тут «мшансы»!! И мои визиты в аппаратную стали чаще, вскоре они переросли в провожания, встречи вне студии телевидения, а потом я вдруг обнаружил, что каждое мгновение, проведенное мною в одиночестве, без Гали пусто и бессмысленно.
И она призналась мне в том же.
И с тех пор мы уже сорок пять лет вместе. Что во мне привлекло Галю? Внешняя стать? Скажу честно, глядя в зеркало, никогда не приходил от себя в восторг. Да и зарплата никудышная.
Вот так и подмывает меня сказать, что, дескать, она разглядела во мне талант, который тогда еще не проснулся
Да ничего не могла она разглядеть, и разглядывать было нечего бег по диагонали в «Горе от ума», бездарное, в зажиме пребывание в «Варварах», бледное существование в «Океане»
А вот поди ж ты Бог послал мне женщину, которая до сих пор убеждена в том, что я самый талантливый, самый красивый. Ну и хорошо Простим ей эти заблуждения! Ведь они так помогли мне.
Как‑то постепенно начало налаживаться в театре мой Андрей в «Трех сестрах» был хвалим Гогой, да я и сам чувствовал себя значительно увереннее, а за этой ролью пошли и другие, за которые не приходилось краснеть.
Я знаю: что бы ни случилось со мной, Галя всегда придет на помощь; так она рванулась ухаживать за мамой, когда та умирала в больнице.
«Вот какая у меня хорошая невестка!» с гордостью сказала мама больничной сестре.
Галя подарила мне Олю и Ксюшу, добрых, порядочных и хороших девчонок, которые, я надеюсь, скрасят мою старость. Да они, собственно, уже и скрашивают ее. Обе хорошо и упорно трудятся: Оля редактором на телевидении, Ксюша журналистом на «Эхе Москвы»
А Галя О, Галя фанат своей работы! На телевидении она работает уже более сорока лет. Сотни телефильмов, которым Галя «придавала нужную эмоциональную завершенность», по словам Белинского; «Телевизионный клуб молодежи», «Горизонт», «Молодые на сцене и в зале» эти телепередачи были тогда новой, невиданной дотоле формой телеискусства, они шли на всю страну, в них рвались участвовать сотни энтузиастов со стороны. Они создавались и придумывались при ее непосредственном участии, а то и по прямой Галиной инициативе.
Непосредственное ведение передачи в кадре, администрирование, подбор участников, музыкальное оформление все это Галя делала радостно, легко, недаром многие ее называли «Ликуй, существование!».
Последние ее работы уже в качестве шеф‑редактора российского телевидения на канале «Культура» это цикл «Царская ложа», летопись Мариинского театра, фильмы «Устал я жить в родном краю», «Удивительная примадонна Анна Нетребко», «Две жизни Натальи Макаровой». Надо сказать, что Мариинка ее главная любовь, ведь мама ее, моя теща Ольга Феликсовна Мшанская, в свое время была ведущим меццо‑сопрано театра, выходила на сцену, будучи беременной Галей. Так что Галя начинала свою жизнь на оперных подмостках
Богемная театральность удивительно органично сочетается у моей жены с рациональным складом ума: это качество унаследовала она от отца, Евгения Борисовича Зайцева. Он был талантливым адвокатом, одним из лучших в городе, уважаемым всеми за порядочность, честность и трудолюбие.
Квартира наша завалена сотнями кассет с записями, фонограммами, книгами по истории искусства.
Но, что самое главное, никакое Галино увлечение оперой и балетом не мешает ей до сих пор считать меня самым‑самым: самым талантливым, самым красивым, даже несмотря на отсутствие у меня оперного голоса.
О, какие у тебя красивые руки! недавно сказала она мне.
Да, любовь это розовые очки, сквозь которые мои пальцы‑сардельки кажутся изящными, словно бедро просыпающейся нимфы Но, сами понимаете, как приятно слушать такие слова и как благодарен я судьбе и Ленинградскому телевидению!!!
Мои роли
Вы смотрели телевизионный фильм Ленинградского ТВ «Мертвые души» 1963 года? Помните там Ноздрева Луспекаева?! Не смотрели?! Если вы любите театральное искусство или Гоголя, вы обязаны раздобыть запись этого телефильма. Качество записи очень среднее, черно‑белое изображение, и современные сериалы, снятые «на цифру», во много раз качественнее, четче, красивее. Правда, эта четкость и красота вызывают у меня ассоциации с лицом покойника в гробу красиво загримирован, спокоен, холоден, сердце давно уже остановилось. Имею в виду только изображение но и оно накладывает на подчас блестящую игру современных актеров некий мертвенный отпечаток
Так вот, Ноздрев Луспекаева! Это одно из очень немногих потрясений, испытанных мною в жизни.
Боюсь впасть в театроведческий стиль, постараюсь высказаться проще.
Это был живой человек. Один из многих, встреченных мною в жизни. Он был узнаваем. Луспекаев создал не иллюстрацию к поэме Гоголя, а чрезвычайно убедительно показал тип вот такого человека и поэтому казалось, что где‑то, когда‑то подобный человек встречался в жизни
Он был и смешон, и жалок, и безумно темпераментен, и слаб, и душа любой компании, центр ее, заводила и одновременно одинок и трогателен
В нем весь тот набор, который характеризует нас, лишних русских людей, влачащих свое бессмысленное существование. Посмотрите обязательно!
Павел Луспекаев. Пашка!
А его Нагульнов в «Поднятой целине»?!! Свято верящий в Мировую Революцию, когда все станут равны и не будет места алчности и воровству, злобе и коварству Громадный человек с воловьими горящими глазами и с доверчивой, нежной душой романтического ребенка ушедший навсегда образ человека, посвятившего себя без остатка приближению новой, замечательной жизни.
Готовый убить, растерзать любого, самого близкого, если тот мешает осуществлению этой мечты. И смешно, и трогательно, и страшно.
А Бонар в спектакле «Четвертый» по пьесе Константина Симонова? Воскресший на мгновение американский солдат, брошенный своим товарищем во вьетнамских болотах? С какой болью произносил он: « сволочь », прощаясь навсегда с бывшим своим однополчанином.
Скалозуб. Сыграть роль этого тупого радостного идиота Паше помешала тяжелая болезнь.
На репетициях пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты» каким‑то чудом возникал не Паша Луспекаев, а московский барин Мамаев, только что отобедавший «у Палкина», эти губы еще в масле, эти бараньи глаза, язык, с трудом ворочающийся от сытости, и наполненность удовольствием от сознания величия собственного ума! Тоже не сыгранная роль И как же мне мешал его Мамаев, когда, многие годы спустя, в новом спектакле Товстоногова я играл эту роль. Иного, чем луспекаевский Мамаев, я себе не представлял, а стать, быть тем, кем был Пашка в этой роли, естественно, я не мог.
Болезнь страшная, непреодолимая эндартериит лишила его ступней. Он постоянно испытывал боль, страшную боль! Паше кололи большие дозы наркотиков, чтобы избавить от мучений, и фактически он стал наркоманом Он женолюб и безумец, буйный выпивоха и гуляка, не позволявший, правда, себе никогда прийти на репетицию позже, чем за сорок пять минут, и никогда от него на спектакле или на репетиции не попахивало спиртным ни разу!!
Вне театра да! о, да! Там и гулянки, и водка, и гитара, и все такое прочее. Театр же для него святое. Так вот этот безумец лишен был всего и театра, и внетеатральной своей жизни. Но боролся. И как!
Бросил наркотики!! Самостоятельно избавился от наркотической зависимости. Инночка, святая мученица Инночка Кириллова, жена его, пожертвовавшая ради своего любимого Пашки всем карьерой, здоровьем, таскала с базара мешки с семечками. Пашка, бросивший и пить, и курить, и наркотики, сидел по‑турецки на своем диване непрерывно сплевывал, щелкая семечки.
Я, блядь, все равно вернусь! говорил он мне, спрыгивая с дивана на своих культях, начинал стучать по паркету, прыгать, пританцовывать: наращивал мозоли для протезов.
Я, блл‑лядь, все равно!!
За время его болезни мы сблизились жили‑то мы стенка в стенку, рядом. После спектакля я почти всегда заходил к нему, да и в другое время забегал. Мы трепались, уходил я далеко за полночь.
У него был магнитофон «Днепр» с большими катушками, мы записывали «радиоспектакли» всякую чепуху, ну, например, звуки, которые мы мальчишками еще слышали в фойе кинотеатра, звуки, доносящиеся к нам из кинозала: то чья‑то фраза, вдруг шум, шаги, выстрел! «О‑о, Маланья о‑о, ну, паччиму, паччиму ты меня не привэчаэшь!!» Шаги музыка
Часто он просил рассказать, что происходит в театре. И если я удачно показывал ему что‑то, звонко ржал, как жеребец.
Знаешь, кино это, конечно, хорошо, но понты все‑таки. Химия. Театр это, знаешь, занавес еще закрыт, а за ним теплый зал Зрители дышат гудят И вот занавес колечками наверху цок‑цок‑цок, пошел в стороны и тепло‑тепло оттуда, и в зале все твои, твои!.. И тихо‑тихо!
Для меня Пашка был не другом, нет, а старшим приятелем, образцом
Никогда при мне так не говори. Не личит тебе это.
Это сказал мне он, матерщинник и гуляка, когда я, пытаясь быть «на уровне», рассказывал ему что‑то, пересыпая речь матерком:
Не личит тебе это
Ему сделали протезы, он их «осваивал». Мечтал сыграть Годунова. Все тетрадки с текстом ролей были у него замусолены, залистаны.
Пашка, ты ведь хорошо репетируешь. Чего ты с тетрадкой‑то сидишь?
Текст учу, говорит он, показно небрежно отбрасывая тетрадку в угол дивана. Текст выучил все, роль в кармане.
И вот мы сидим в такси, едем после репетиции «Трех сестер» домой, на Торжковскую.
Все репетируют нормально, а ты как хауно в проруби
Да, прав он был. Прав. Казалось бы, все мне ясно и близко в роли Андрея ан нет, что‑то тормозит, делает беспомощным И действительно: вокруг Юрский, Копелян, Доронина, Попова, Лавров уверенны, стойки, выразительны хоть сейчас спектакль играй А я опять, опять я зажат чем‑то, зажат, стеснен. И я беспомощно тыркаюсь туда‑сюда, забывая от ужаса текст, пробалтывая его Да еще Пашка сидит, смотрит. Совсем я оробел.
Приехали домой. Паша идет ко мне. Садится в кресло. Молчит. И вдруг взрывается:
Ты кого играешь? Кого?!! Какого‑то Андрюшу сраного. А он не такой. Он ведь на самом деле мог быть великим ученым! Он Эйнштейн, мать твою так!!! Понимаешь ты Эйнштейн! А может, и побольше! И вот в финале мы видим этого гения! Гения, понимаешь?! Который катает в колясочке ребенка, прижитого его женой от ее любовника! И пикнуть не смеет!! Говорит только с глухим Ферапонтом! Это же трагедия! Э‑эх
Пашины глаза, его воловьи карие глаза вдруг блеснули влагой, он скрипнул зубами и быстро ушел.
Последняя генеральная репетиция. Без публики. Декорации, свет, костюм, грим В зале почти никого. Вспыхивает огонек сигареты. Взблескивают очки: Товстоногов. Сопит.
Меня несет волна, в которой всё: и радостные надежды, и трагедия несбывшегося гения, и тоска по прошлому, ненависть, звериная ненависть к этой жизни, которая словно асфальтовый каток вбивает в землю, давит и душит все настоящее, хорошее.
И вот под звуки марша уходящего полка качу я детскую коляску с чужим ребенком. Холодно, голову втянул в поднятый воротник поношенного старого пальто, какой‑то бабий шарф на мне, небрит неделю какое там бритье!
Качу я коляску и чувствую все, все в зале должны сейчас заплакать и почувствовать всё то, что чувствую я.
И вдруг раздается звонкий, заливистый хохот это Пашка ржет в почти пустом зале, срывает мне сцену!
Всё. Финал.
«Если бы знать! Если бы знать!»
За кулисами встречаю Пашку:
Пашка, что ты ржал?! Сорвал мне мой проход!! Весь финал!
Чудак! Это я от счастья
Стиснул мои плечи. Отпустил. Отвернулся и заковылял от меня.
Сиро́та
Мерзавец! Как вы посмели!! Что вы сделали?! Ради чего мы с вами три месяца бились?!
Это Роза Сиро́та. Розочка. Розамунда.
Только что отгремели овации после очередного спектакля «Лиса и виноград» Фигейредо. Я стою за кулисами в белом хитоне, счастливый, с громадной охапкой цветов спектакль прошел грандиозно, почти на каждую мою реплику следовал взрыв хохота, аплодисменты. Я легко импровизировал, а в конце спектакля раздалась овация нам Юрскому, мудрецу Эзопу, мне, сыгравшему Ксанфа, глупца, мнящего себя великим философом, Медведеву, Тарасовой, Караваеву, Теняковой.
Все еще слышны крики: «Спасибо!», овации
И вот: «Мерзавец!»
Что вы, Роза? Слышите, какой успех?!! Как воспринимается каждая фраза, каждая коллизия?!
А вы ради успеха, да? Ради этого хлопанья в ладоши вышли на сцену, да?! Или ради того, чтоб сказать зрителю, что власть и мудрость несовместимы, что ум и порядочность должны править жизнью, а не идиот философ?!!
Маленькая, глазки яростно блестят, губы презрительно кривятся, словно взъярившийся воробушек сейчас заклюет своим клювиком.
Вы словно проститутка! Ради этих проклятых аплодисментов готовы отдать все! Все, что наработали! Дешевка!! Завтра, завтра же!! Репетиция!! Немедленно!!!
Топнула ножкой, круто развернулась. Ушла.
Бессонной ночью понял я, что права Роза. Ведь сколько сил, эмоций вложила в меня Роза на репетициях, добиваясь нашего взаимодействия подлинного, а не театрального. Добилась, вместе с Гогой придала моему существованию яркую форму. На сцене я имел большой успех и постепенно, на волне этого успеха, стал «жать» на аплодисменты, на реакцию зала, и мне уже этот зал стал важен, а не партнер, не сверхзадачи зачем, для чего я вышел на сцену.
Почти на всех рядовых спектаклях Роза присутствовала, и все участники этих спектаклей с трепетом ждали: что сегодня скажет Розочка? Разнесет? Похвалит?
Она обладала редким даром создать вместе с актером тайну. Тайну, которая, помимо точного действия, яркого приспособления, создавала загадочную музыку души, притягивающую зрителя своей неразгаданностью, заставляющая его оторваться от спинки кресла, попытаться разгадать, понять эту тайну
Репетируем «Беспокойную старость» Рахманова. Роль Бочарова топорный образ молодого ученого‑революционера, ученика профессора Полежаева. Роль довольно примитивная.
Текст роли такого рода:
Враг нарушил перемирие и надвигается на Петроград. Уже взяты Псков и Нарва. Мы должны ответить контрударом. Наши отряды выступают немедленно
Вроде бы все мне ясно. Но скучно и плохо до тоски.
И вот Роза, полуобняв меня, головка как у воробушка, почти вбок, в уголке, почти шепчет:
Олег, хочу сообщить вам секрет. Никому не говорите, держите его про запас. Для себя. Не выбалтывайте, ладно? А то есть у вас такая манера: все разболтать первому встречному ну‑ну не обижайтесь.
У вас не совсем точно идет роль, потому что у вас нет живого чувства, которое вы должны испытывать по отношению к профессору и его жене. А вы представьте себе на минуточку, что вы круглый сирота, вам холодно и одиноко, и единственное место, где к вам относятся, как к родному, это дом Полежаевых. Они заменили вам отца и мать. Вы и любите их, словно отца и мать, да и революцию‑то делаете ради них, их счастья. Но вы стеснительны, боитесь показаться сентиментальным, да и не краснобай Идете сюда, в этот дом, за теплом и лаской, ну, как вот вы в Москву, к своим, ездите да? Только между нами это!
И вспомнился мне запах маминых пирогов, папины фронтовые рассказы, наши литературные споры, наш двор, пропахший валерьянкой
Чудо!.. Роль постепенно «пошла», как говорится. Дело ведь не в словах, а в той гамме чувств, которые я стал испытывать к этим замечательным, наивным, словно дети, старикам, совершенно беспомощным в быту и таким одиноким!
Спектакль получился замечательным. Юрский и Попова центр его. А я обожал свою нелепо написанную роль, она позволила мне жить на сцене, а не «представлять образ». Как же мне стало уютно, тепло на сцене и как мне не хотелось уходить из этого дома, из петербургской квартиры
В Москве папа мой попал в больницу. Я помчался туда. Три дня мы с мамой были рядом с ним. Он умер на четвертый день. На следующее утро я примчался в Ленинград играть утренний спектакль «Беспокойной старости». Я мог и остаться, мне полагался трехдневный отпуск. Но я ничего не соображал, задавленный горем.
Играем спектакль. Идет сцена, где мой Бочаров прощается с профессором Полежаевым и его женой, не зная, увидит ли их когда‑нибудь еще. Сцена «проходная», ничего особенного.
Приходите всегда как к себе домой, говорит профессор и вручает мне ключ от квартиры.
Я беру ключ, кланяюсь старикам, прячу ключ в карман, поворачиваюсь и ухожу. Играл это я всегда внутренне убедительно, но особых восторгов по поводу моей игры никто не выказывал, да и сцена‑то маленькая, проходная. Обычная рядовая сцена, ничего особенного
И тут взял я ключ, посмотрел на профессора, на Марью Львовну, поклонился и вышел, затворив за собой дверь. (Двери там были шикарные, дубовые, филенчатые «петербургские», с медными ручками.) Вышел. И вдруг аплодисменты Никогда их не было, да и быть не могло. А сегодня аплодисменты. Овация на пустяковый уход.
Это Роза, Розамунда точно угадала состояние моего Бочарова, и сегодня, потеряв отца, я, видимо, вынес на сцену подлинное чувство потери. Оно соединилось с состоянием моего Бочарова, прощающегося, возможно, навсегда с любимым профессором. Момент истины. Подлинность, которую всюду яростно искала Роза и которая так редка на сцене
Она обладала удивительным даром найти какое‑то единственное слово, согревающее душу актера, раскрывающее в нем самое потаенное, личное. Ведь можно прочесть десятки лекций на тему той или иной роли, пьесы, но не найти ключика, открывающего сердце актера. А Роза находила это личное, ту самую тайну, к которой тянутся, пытаются постичь, но так и не постигают зрители.
Товстоногов и Сирота. Мощный тандем. Роза разминала материал, находила с актером «зерно», а подчас и общую тональность спектакля, позже приходил Товстоногов и, отталкиваясь от найденного, шел дальше, ввысь
Иногда найденное Розой приходило в противоречие с видением Товстоногова. Роза шла пятнами, начинались новые мучительные поиски, которые подчас приводили к потрясающим результатам. Мышкин Смоктуновского, «Пять вечеров», «Мещане», «Варвары», «Синьор Марио», «Беспокойная старость» эти шедевры плод совместной работы Товстоногова и Сиро́ты.
Спектакль «Цена» единственная самостоятельная работа Розы в БДТ. А она рвалась к самостоятельности и не получала ее в БДТ. Ушла из театра. Вернулась.
Опять ушла. Работала в ленинградском Ленкоме, затем во МХАТе
А БДТ наращивал успех, гремели новые премьеры, но и Товстоногов, и все мы с уходом Розы потеряли что‑то очень важное, может быть, ту самую тайну, трепетно хранимую каждым из нас
Она была одинока; кроме театра у нее ничего не было. Она все отдала актерам, театру. Она ушла от нас навсегда. Больная, одинокая и почти неизвестная
В славной истории БДТ ее имя должно стать рядом с именами его создателей. С Георгием Александровичем Товстоноговым, главным режиссером, и Диной Морисовной Шварц заведующей литературной частью.
Товстоногов Шварц Сирота.
Розочка А ее и в театре‑то почти никто не помнит. Вот ведь как бывает. Почти всегда.
Бывало, сидишь в школе на уроке. Сорок пять минут всего целая вечность! Когда же прозвенит звонок? Потом в Студии то же. Как надоел второй курс с его этюдами и воображаемыми предметами! Скорее бы роль на третьем‑четвертом курсах там и текст, и грим, и слово! И скорее бы стать актером!
А в театре поначалу торопишь время: скорее бы новый сезон, новая хорошая роль, успех; а сезон все тянется, тянется бесконечно.
И странно именно эти‑то тягучие годы вспоминаются четче всего.
Школьные по секундам, дальше минуты, часы, дни
А потом время начинает нестись вскачь, и не успевает многое отложиться в памяти.
Как, уже зима? Позвольте, а что было летом? Что?!! «Калифорнийскую сюиту» играем уже десятый год?! Но не остыло еще премьерное волнение, будто это было вчера А дочери твои уже зрелые женщины, дают ценные указания. Ироничны и самостоятельны. Позвольте, кто это?!! А, это, кажется, муж одной из них. Но чьей?! Задача
Ну‑ну, шучу, шучу, конечно, не обижайтесь, друзья.
Но когда по телевизору видишь давнего своего приятеля, с трудом узнавая настолько время исказило его юношеские черты, становится нехорошо. И, глядя в зеркало, говоришь: ну нет, я еще ого‑го! И невдомек, что глядят на тебя из зала зрители, глядят на твои обвисшие бока и удивляются: и не стыдно ему, старику, что‑то там о любви бормотать И не утешить себя мыслями: дескать, не в возрасте дело, люди следят за перевоплощением моим, за мастерством! Не обольщайся! Вон молодые с мобильниками получше твоего скажут. И в Голливуде снимаются. А виллы!! Виллы! На Канарах, во Флориде, в Испании. И всего‑то каких‑то два‑три миллиона долларов! Говна‑то! Глюкоза вон, да и Аспирин, хоть и старый, а подтяжку сделал вот и поместье на Мальдивах, и дом в Нью‑Йорке. Правда, поет. Почти все поют. Плохо, но слушают же их, дергаются! А те, кто не поет, за редчайшим исключениям носятся с мобильниками по сериалам, органичненько барабанят свой текст, быстренько сляпают какой‑нибудь спектаклик, лучше, чтоб посмешней и про секс (когда‑то был ФЭКС фабрика эксцентрического актера, теперь секс ), чтоб посмешнее а где не смешно подкладывают фонограмму гогочущей толпы дескать, это смешно, смейтесь, как мы, смейтесь вместе с нами, смейтесь лучше нас! И смеются. Ржут до слез, пукают от счастья!
Здравствуй!
Привет! (Небольшой смех).
Ты что делаешь?
А ничего!! (Взрыв хохота).
А!! (Вот тут валятся на пол, держась за животы; носилки, «Скорая помощь», валерьянка.)
Куда там Зощенко, Райкину Гоголю с Булгаковым
И нет им дела до осетинских детей, женщин и стариков, до грузинских крестьян, до гибнущих солдат обеих армий Дружно рыгочем!
И артисты стараются: посмешнее и про секс, и чтоб побольше бабок срубить и на Мальдивы!
С болью вспоминаю Пашу Луспекаева, ночами учившего текст; Товстоногова, мечтавшего поставить «Вишневый сад», да так и не поставившего «на роль Раневской пока нет актрисы»; Райкина после утомительных трех концертов в Махачкале, идущего в Министерство транспорта настаивать, чтоб поезда не ходили порожняком.
Зачем это вам, Аркадий Исаакович?
Если не я, то кто же?..
Чего ради все мы трудились за гроши, ночами не спали, умирали от инфарктов, спивались, чего ради пытались мы понять и проникнуть вглубь автора, роли, пьесы: чтоб услышать это рыготание? Чтобы «срубить бабок»? Да нет, совсем, совсем для другого
Роли мои, роли
Их список передо мной спасибо, дали в музее театра.
Всего я сыграл в БДТ сорок три роли. Девять последних без Товстоногова.
Когда берут у меня интервью, среди прочих задают один и тот же вопрос: «Какая ваша самая любимая роль?» Каждый задающий думает, что вопрос оригинален, а на самом‑то деле если, допустим, за все время дал я тысячу интервью, то вопрос про любимую роль слышал 995 раз.
Ну и что ответить? Та, которая легко получилась? Или в которой имел наибольший успех? Или вот как вышло с ролью Гаева в «Вишневом саде», поставленном у нас Адольфом Шапиро?
Я мечтал об этой роли, считал, что вроде бы «познал» Чехова: с успехом играл в «Трех сестрах» и «Дяде Ване». Вроде бы и Гаев должен быть «в кармане» та же усадьба, те же наши русские проблемы, конец жизни все знакомо, раз плюнуть!
Ан нет, голубчик, кроме позора, пота и стыда ничего! Вот и гадай, люблю ли я Гаева?! Сколько вбито сил, мозгов, сколько вариантов перепробовано и что?
До сих пор не знаю, почему первая фраза Гаева в спектакле: «Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?!» Почему именно это говорит Гаев??! Почему не о дороге, не о здоровье сестры? Да, поезд опоздал, да, отстранив нас, либералов, пошли по порочному пути, потому и все идет вкривь и вкось, вот и поезда опаздывают Что он, Гаев, так обеспокоен этим? Видимо, так. Пробовал и это не идет Видел, как Кваша играет Гаева в «Современнике», очень хорошо, предельно ясно и трогательно! Почему же у меня «не пошло»?!
Получилась у меня роль ни то ни се, но и она дорога мне, и если б не мемуарная форма, страниц сто написал бы, чтоб разобраться!
Но Гаев это уже 1993 год, уже без Товстоногова
Мучительно, с болью у меня открывалось «второе дыхание», правда, не сразу, были «пригорки и ручейки», но не сравнить с первым этапом работы в БДТ, когда все краски мира поблекли, воля погасла и хотелось просто забиться куда‑то в щель
Каждая роль бунт! Он может быть взрывом, может тихой, ползучей революцией, но бунт, попытка добиться собственной правды, стать самим собой, а не покорным исполнителем. И это мучение. Мука мученическая.
Да еще роль, персонаж, кем ты должен стать (кем?! Кем, черт побери?!!), подспудно диктует свою волю и шепчет тебе где‑то внутри тебя: «Не‑ет, не то, совсем это не мое, милый мой! Все, что ты сейчас делаешь, все это понты, дорогуша. Понты, как говаривал Паша Луспекаев!!»
И этот голос «из подполья», это внутреннее издевательство не дает покоя, взвинчивает до предела, ты бросаешься на окружающих, и больше всего страдают твои близкие
Эрвин Аксер. Блистательный польский режиссер. В свое время Товстоногов пригласил его поставить «Карьеру Артуро Уи» Брехта.
Гога понимал, что необходимо искать новые пути развития БДТ, влить новую кровь в старые мехи! Брехт, с его системой, совершенно не познанной стилистикой в нашем театре того времени, подходил для этого идеально.
Мне досталась крохотная роль некоего Малберри, торговца цветной капустой.
Мой герой в начале спектакля произносит такой монолог:
Мы вместе с Малберри искали выход. Как продержаться целый год без денег. И вот что порешили: мы всегда исправно платили городу налоги. Так почему теперь не может город помочь нам выбраться из этой ямы?
Спрашиваю пана Эрвина:
Почему «вместе с Малберри искали выход»?! Ведь Малберри это я! Вместе с самим собой, что ли?!
Пан Эрвин отвечает:
Э! Это не есть важно!
Так как же это играть?!
Как всегда, я, выученик мхатовской школы, анализирую тщательно, определяю задачи, ищу «зерно», а тут слышу: «Это не есть важно!»
Как играть? А (апостроф налево) la кабаретно!
Ничего не получалось у меня с этим монологом. В принципе, можно бы и плюнуть: роль пустячная, сыграть ее невозможно, да еще и кабаретно как это?! Я и кабаре‑то ни разу в глаза не видел!
Но Эрвин не идет дальше, а ведь главное дальше: Уи (Гитлер Лебедев), Дживола (Геббельс Юрский), Рома (Рём Копелян)! Нет: день, второй, неделя все стоит, а Эрвин требует от меня результата: «Классично! Классично надо! Как это есть классична трагедия!!»
Какая «классична трагедия»?! Речь‑то идет о ерунде о торговле цветной капустой, о кредитах! Да еще и «Малберри»!
А Эрвин свое: «Классично надо!»
Разозлился я. Ну, думаю, дам я вам, пан Эрвин, классично! Пришел домой, поставил пластинку «Отелло» с Остужевым. Послушал. Великолепно играет Остужев. С паузами, с модуляциями, четко, каждая буква звенит, с низов на самый верх:
Раз в Алеппо (самый низ, бас)
Злой турок бил вэнэцианца (пауза, дыхание)
И поносил рэспублику! (звон в голосе)
Схватил за горло я (пауза)! Обрезанного пса!! (октавой выше)
И заколол его!!! (еще выше!! Пауза!)
Вот так!!! (Фальцет!) (Закалывается.)
Выучил как следует текст. (Пашкина школа. А то мы все кивали на то, что «текст пока не ложится».) Пришел на репетицию. Опять начали с меня. Я как дал с модуляциями, с подчеркнутой четкостью дикции, с басов на фальцет, с дыханием и паузами, почти со слезой по своей ахинее! Вот вам, пан Эрвин, классично! И отстаньте!
А Эрвин: «Стоп! То есть отлично! Все сюда! То есть ключ! Классично о богательке, о ерунде! Это есть смешно! Это есть кабаретно!»
Пошли дальше. Про меня забыли. Да дальше меня и не было. Блистательны были Лебедев, Юрский, Шарко
Страшная фантасмагория: ничтожество, серая тля становится властелином. Благодаря попустительству обывателей, их страху и равнодушию. Действие происходило в оформлении, напоминающем смесь паршивого немецкого кабаре в электролампочках со старым то ли цехом, то ли прокопченным складом с грязными стеклами. Кабаретно!
Убыстренный, под бодрый марш «Полет валькирий» Вагнера, ложноклассический ритм персонажей, барахтающихся в сером дерьме. Ложь, цинизм и демагогия, облаченные в шекспировские размеры, в «классичность». Страшно и омерзительно. Недаром на гастроли в Москву спектакль запретили везти. Власти узнавали себя.
Роль моя была ничтожна. Но я был счастлив я первый постиг тайну брехтовского «отчуждения»!
В постановках Аксера принимала участие его жена Эва Старовейска, театральный художник. Великий мастер!
В спектакле Эрвина «Два театра» по пьесе Шанявского я играл роль Автора. Вот мой текст:
Здравствуйте.
Да.
Угу.
До свидания.
Просто четыре слова. А что делать? Назначен играй!
Сюжет сцены прост: я, автор, прихожу к директору театра забрать свою пьесу. Директор (Юрский) долго оправдывается, объясняя, почему пьеса не подходит, хотя и талантлива, но
Я, кроме скучного сидения напротив директора, ничего не могу предложить. Подыгрываю Сережке, не более.
И вот приносит Эва парик. Лысый, с «заемом», Тадеуш сделал. Сама сшила пиджак из пальтового драпа, тяжелый, табачного цвета. Брюки из легчайшего какого‑то материала, на коленях пузырятся. Ботинки немодные, с круглыми носками. Рубашка, галстук с поперечными полосами.
Надел пиджак, брюки, ботинки Приделал лысый парик И вдруг! (Как часто у меня это «вдруг».) Все стало ясно. Писатель. Его мир стол, лампа. Привык сидеть. Руки на столе, с авторучкой. Трубка. Мудр. Свой, потаенный мир. Видит насквозь. Видит, как директор пытается сохранить лицо, отказываясь от пьесы, хотя им руководит просто страх. Страх перед новым, непривычным, опасным. Немногословен и сутул. Жалеет этого директора. Старается быть тактичным.
Да
Угу
До свидания
Аккуратно кладет пьесу в портфель. Уходит к себе.
Это одна из самых любимых моих ролей: на уход аплодисменты.
Эрвин рассказывал, как однажды в Варшаве Эва, вернувшись утром из командировки, застала его в постели с какой‑то белокурой бестией. Эва не растерялась и, стоя в дверях, сказала:
Так! Эрвину кофе. А пани курве цо?
Галя мне говорит: «Ну, скажи, зачем ты это написал? К чему? Речь шла о твоих ролях, а при чем тут эта «курве цо»? А я отвечаю: «Ты же сама говоришь: брось ты эту свою писанину! Говоришь? Говоришь! И вообще, говоришь, кому это надо про БДТ, про Товстоногова сейчас интересует всех количество мужей у Сильвии Кочумай и предохраняется ли она и как?» Так вот я и сделал такую вставочку! Пусть привлечет. Тем более что Эрвин и Эва рассказывали это нам в качестве анекдота.
Однажды репетировали мы с Эрвином новый спектакль «Наш городок». Очень я люблю автора этой пьесы американца Торнтона Уайлдера. Читали его роман «День восьмой»? Почитайте
Я репетировал с наслаждением. Да и играл (не на премьере, на премьере растерялся: очень непривычной была для наших зрителей эстетика спектакля пустая сфера сцены, все должно возникать в воображении зрителя; я лицо «от театра», много говорю, общаясь со зрителем, на отвлеченные, казалось бы, темы ) с удовольствием.
Так вот. Репетируем мы, а вечером у меня концерт в ДК имени Дзержинского. Смотрю на часы 14.30 Эрвин не прекращает репетицию. 15.30 16.30 «Эрвин, говорю, извините, у меня концерт в 18.30, а сейчас уже около пяти. Нельзя ли мне уйти?» «О, да, да, конечно, конечно, прошу звиненья! Забыл о времени! А где у вас концерт?» «В Доме культуры имени Дзержинского», отвечаю. И тут Эрвин меняется в лице. С ужасом смотрит на меня: «В Доме культуры имени КОГО?!» Слово «кого» прозвучало с такой ненавистью и возмущением, словно эти понятия культура и Дзержинский несовместимы и взаимонеприемлемы. Да так оно и есть, только я тогда и не догадывался об этом.
Как‑то Эрвин, который тщательно следил за собой, был он строен, подтянут, пластичен, после репетиции отправился в бассейн, пропуск в который ему выдали в дирекции. Утром на следующую репетицию он пришел мрачный, замкнутый, отчужденный какой‑то. Репетицию проводил формально.
В перерыве осторожно спрашиваю: что случилось? Выясняется: бассейн находится на Невском проспекте, в бывшем католическом костеле Святой Екатерины.
Трудящиеся плавают, отдыхают ничтоже сумняшеся. Банные всплески, пар, веселый смех Каково это было увидеть поляку, католику Эрвину Аксеру?! Какими глазами смотрел он на нас? В том числе на меня, равнодушно взирающего на оскорбление его святыни? Играющего концерт в клубе имени кровавого палача Дзержинского? Проходящего мимо церквей, превращенных в овощехранилища, конторы, бассейны? Как он мог общаться, репетировать, видя перед собой продукт сталинской селекции меня, да и всех нас?
Однажды на «Наш городок» пришли какие‑то важные генералы с космонавтами. Видимо, им быстро стало скучно: декораций нет, музыки нет, а есть многословные рассуждения «лица от театра». И на мои слова: «Давайте подумаем » кто‑то из них крикнул: «Не надо думать!! Хватит!» На это я совершенно неожиданно для себя ответил кричащему: «Ну, почему же думать никогда не вредно даже космонавтам. Давайте подумаем».
Небоскребы! На верхних, едва различимых этажах отблески солнца. Дым из тротуарных люков. Магазины с миллиардами чего‑то желтые такси выбоины в асфальте миллионы реклам, горящих, бегущих, прыгающих Сталин почему‑то всплывает во весь дом
Нью‑Йорк!
Впервые я в городе, о котором мечталось, читалось.
Мой продюсер, который привез меня сюда на концерты, от мозгового напряжения забыл адрес забронированного им отеля, название тоже с трудом им произносилось нечто вроде «диби» «диви» Догадываюсь: «Девил?» («Дьявол».)
О, да! Да! Дивил, ох, слава богу!
Адрес? Стрит? Авеню?!
Да нет, вроде бы где‑то вот на этой улице
Попробуйте найти в Нью‑Йорке, где миллионы гостиниц от жутких клоповников до сверхшикарных мраморных дворцов, отель с полузабытым названием! «Диби»!! А вечером у меня концерт, в 18.30. А сейчас 15.30. Да еще только что с самолета. Голова с трудом вмещает сено, которым набита. Духотища адова. Баня! Отчаяние! Хоть бы прилечь на минуту где‑нибудь!
О боже! Вот же он, у кого можно спросить, и он все покажет, объяснит! Родной мой! Нью‑йоркский полицейский! На темно‑синей рубашке серебряная бляха в виде щита, брюки со стрелкой, фуражка с лаковым козырьком, на поясе пистолет, наручники, переговорники. Идет быстро, пружинит, ботинки блестят.
Хэлп ми, плиз!!
?..
Вериз отель «Девил»? Он зис стрит?
Итз ё проблем!
И пошел дальше!
Нет, мой Виктор Франк не ответил бы так. Виктор Франк из пьесы «Цена» Артура Миллера, нью‑йоркский полицейский. Одет мой герой был точно так же, как и встреченный мною полицейский, почему я и бросился к нему. Родное что‑то почуял. Мой Вик обязательно объяснил бы, а то просто взял бы за руку иностранца и привел бы его к самому отелю.
Когда Юрский и Тенякова покинули театр, решено было, чтоб не терять прекрасный спектакль «Цена», ввести на роль Вика, которую играл Сергей, меня. Ушедшая из театра Роза Сирота была приглашена в БДТ для работы со мной, мы репетировали с ней около двух месяцев. Мои дорогие друзья Владик Стржельчик, Валя Ковель, Вадим Медведев работали так, словно это их вводят в роль. А ведь они уже к этому времени сыграли больше ста спектаклей.
Нет, ни разу я не почувствовал, что им скучно, надоело. Наоборот, они всячески старались мне помочь. Спасибо вам, дорогие друзья мои.
Трудно, ох, как трудно было мне.
Во‑первых, надо было точно вписаться в сложную ткань спектакля, не помешав ничем партнерам. А играли они замечательно, в первую очередь Стржельчик. Его Соломон девяностолетний перекупщик мебели великое произведение театрального искусства.
Во‑вторых, и это самое главное, сделать своей, только мне присущей, внутреннюю жизнь Вика, отталкиваясь по необходимости от внешних проявлений прежнего исполнителя Юрского, игравшего в яркой, жесткой манере.
Долго можно писать о работе над этой ролью, скажу только одно: она стала одной из самых моих любимых. На некоторые спектакли идешь, словно на тяжелое испытание, а на «Цену» я шел с радостным ощущением того, что смогу вновь погрузиться в родную атмосферу, что вновь приду в квартиру, куда свалил все дорогие мне по прошлой жизни вещи ненужные, но так напоминающие мне о времени, когда все были живы, дружны, веселы, и что, стоит мне только в начале спектакля отворить дверь в бывшую спальню отца и вглядеться в темноту, по спине моей бежали мурашки от воспоминаний, и ничего не надо было «играть», перемещаясь по мизансценам и стуча каблуками, а просто существовать в этом родном пространстве, беседуя с Соломоном, оказавшимся единственным человеком на свете, понявшим меня, глядя на брата, о встрече с которым мечтал двадцать пять лет
Грубый полицейский с пистолетом, наручниками, с нежной душой и добрым сердцем
Мальчик, сын разорившегося миллиардера, обладавший талантом ученого‑исследователя, прервал образование и пошел в полицейские, чтоб отец не умер с голоду. Мальчик с седой головой, которому скоро на пенсию Слабый мальчик, нашедший в себе силы отстоять любовь и верность долгу. Отстоять прошлое:
Это был наш дом Это были наши родители А по твоим словам выглядит все так, словно мы были кучкой чужих, ненужных друг другу людей Что ты делаешь?! Ты берешь все, что было, вырываешь, словно гнилые зубы, и выбрасываешь в плевательницу. Но ведь существую еще и я, Уолтер!!
И родным и близким стал мне Брайант‑парк в Нью‑Йорке, так же как и московские Чистые пруды, Публичная библиотека за парком как Тургеневская читальня на Мясницкой, ныне снесенная по приказу кого‑то, родства не помнящего.
Поэтому с такой радостью и бросился я в Нью‑Йорке на Двадцать пятой стрит, угол Парк‑авеню, к двойнику моего Вика, поэтому так легко нашел Брайант‑парк и Публичную библиотеку
И возникают передо мной сейчас как живые мистер Соломон Стржельчик, глядящий на меня с таким пониманием, и глаза его глаза мудрого, одинокого еврея‑перекупщика; брат мой, Уолтер Медведев, которого люблю и жду, с которым порвал навсегда; жена, Эстер Валечка Ковель, которую так люблю, с кем ссорились часто, но которая, если мне будет плохо, пожертвует собой ради меня
Спасибо вам, родные мои!
Царствие вам Небесное!
На пустой улице Горького (ныне Тверская) тьма Фонари не горят Пустые витрины, пугливые тени редких прохожих. Черная бесконечная равнина пустой Манежной На Васильевском спуске, за Василием Блаженным, озаренная бледной луною, еле видная гигантская черная толпа. В кузове грузовика питекантропообразный Анпилов орет в матюгальник: «Завтра! Все!! Приносите оружие, у кого нет топоры, да просто вбейте гвозди в палки вот вам и пика! будем штурмовать Кремль, будем брать власть!! Милиция на нашей стороне, правда, милиция?! А?!»
Одобрительный гул толпы, возгласы: «Правильна‑а‑а! Вешать их! Дерьмократы!».
Блестят в лунном свете кресты на Блаженном, посверкивают лунные блики на брусчатке. 1991 год
Серое холодное утро. Перед гостиницей «Россия» газон, на котором сотни лачужек, палаток, слепленных из драного брезента, листов фанеры, картона, мешковины. В них пострадавшие от неправедных судов, нищие, полусумасшедшие, провозглашающие конец света или его обновление. Повсюду плакаты, неграмотно требующие, обвиняющие, умоляющие
Несчастные люди, волею случая поставленные в безвыходное положение, беженцы из Ферганы, турки‑месхетинцы, русские из Прибалтики, Азербайджана. Грязь, вонь, сидят на земле, на ящиках, тут же портреты Ельцина: «Да‑да‑нет‑да!»
Зеленый газон истоптан, изодран, превращен в грязное месиво
Все эти несчастные в тряпье, рванье, ватниках нуждаются в помощи, внимании. Даже психически больные а может быть, они‑то в первую очередь. Все они граждане одной страны, живущие по законам этой страны
Но ужас в том, что страны СССР уже нет, нет пока и другой страны России, денег ни гроша, золотые кладовые, госхранилища после ухода коммунистов пусты, законы не действуют.
И сидят сотни людей в грязи, на ящиках, просят помощи. А как, чем помочь? Поможешь одному а почему именно ему, а не другому, может быть, более несчастному?..
Мимо этих людей проходят из Кремля в гостиницу «Россия» депутаты Съезда народных депутатов России. Беспомощно опустив глаза, прохожу и я. Каждый день.
Надо создавать государство, которое всею своею мощью охраняло бы права своих граждан, а в случае попрания этих прав действовали прокуратура, суд, закон. Начать создание такого государства и пытаемся мы, горстка демократов на Съезде. Преодолевая яростное сопротивление коммунистов и просто безразличных, голосующих по указке. Нас всего‑то на весь Съезд около сотни. Но за нас Ельцин, Бурбулис, Гайдар, Чубайс славные реформаторы. Большинство народа за нас! Пробьемся!
И вот однажды прохожу я сквозь эту неисчислимую толпу несчастных. Холод. Иней на траве. Возникает человек, бросается ко мне: «Олег Валерианович, помогите!!»
Молодой, исхудавший, бледно‑зеленое от недоедания и недосыпания лицо, помятое старое пальто. «Я из Баку. Со мной больная старуха‑мать, жена с маленьким ребенком, мать жены. Мы после раздела Союза вынуждены были бежать из Азербайджана. Там русская кровь лилась. Мы буквально за полчаса похватали что могли. Бежали в Москву Нам дали временное жилье в пансионате под Москвой, сейчас переселяют в деревню. Помилуйте, какая деревня?! Две больные старухи, маленький ребенок. Это же гибель!»
Объясняю ему, что прекрасно понимаю его положение, сочувствую всем сердцем, но помочь никак не могу, к стыду своему.
Олег Валерианович! Умоляю! В Москве врачи, детский сад, нам бы какой‑нибудь угол здесь. Я работу найду, не пропадут старухи и жена здесь, а деревня ну, какой я крестьянин, посмотрите на меня!
Не могу, простите
Олег Валерианович! Вы любите Маяковского, я знаю! Я слушал вас! Это один из самых ваших любимых поэтов. Ради памяти Владимира Владимировича, помогите! Я его племянник!
Стоп.
Еще один «сын лейтенанта Шмидта»? Вполне возможно
Стоп!
А если нет? Если и впрямь племянник? У Маяковского две сестры было, видимо, вышли замуж, родили детей. Почему бы и нет?!
Человек называет свою фамилию, имя, год рождения, объясняет родство, дает документы. Я бросаюсь в Музей Маяковского. К директору. Вместе выясняем: все точно. Есть такой племянник! Внучатый, кажется
Владимир Владимирович Маяковский. Гениальный поэт.
Одинокий, мечтающий страстно о братстве всех землян: «чтобы в мире, без Россий, без Латвий, жить единым человечьим общежитьем » Наивно растоптавший свой гений во имя «понятности массам» и в конце осознавший, что служил не тем богам, что всё зря; имевший мужество пустить себе пулю в сердце, наказать себя за величайший свой грех уничтожение гения, данного ему Богом
Читал, как в конце жизни он пытался вырваться из круговой поруки, в которую попал: НКВД, Брики, Агранов, как трагически любил, пытаясь зацепиться за жизнь вместе с Яковлевой, затем с Полонской, мечтал о семье, о нормальном быте, подавал тщетные просьбы о квартире И ушел из жизни в малюсенькой комнатке коммунальной квартиры на Лубянке. Сейчас сам дом, словно гнилой орех, вылущен изнутри, только оставлена одна‑единственная комнатка на верхнем этаже, где умер Маяковский. Все остальное: весь коммунальный быт, кухня, соседи, лестницы, этажи все уничтожено, превращено в музей, на мой вкус, довольно невнятный. И самое страшное: весь дом, словно колпаком, покрыт саркофагом КГБ это весьма и весьма символично. «Под колпаком».
При жизни Маяковскому никто не протянул руки, наоборот отвернулись, оставили одного, только когда было поздно: «Милый, милый Он спал, постлав постель на сплетне » ах, как талантливо, ах, что за метафора
Отвернулись от него вы, талантливые и близкие, что же вы при жизни‑то, а, Борис Леонидович? А, Корней Иванович?! Валентин Петрович? И прочие. А?!
Мчусь к Станкевичу, который занимал тогда пост первого заместителя председателя Моссовета. Объясняю ему все.
Это племянник Маяковского!
Ну и что? У меня вот Евтушенко тоже просит.
Маяковский при жизни ничего не получил, даже портрет из «Огонька» вырезали. Мы обязаны хотя бы после смерти согреть его душу.
Ну, не знаю нет, нет.
Я из вашей машины не выйду до тех пор, пока не дадите добро.
Идите к Попову.
Мчусь к Гавриилу Попову, председателю Моссовета. В те святые времена народный депутат имел право входа в любой кабинет, к любому чиновнику, вплоть до президента. И я бывал в кабинете Бориса Николаевича Ельцина неоднократно, а вот тут пришел к Попову. Всё объяснил ему. И Попов спасибо! дает разрешение племяннику Маяковского на получение квартиры. И семья Маяковского получила наконец квартиру в Москве! Дай им всем бог счастья! Это для вас, Владим Владимыч!
Смотрит на меня, тогдашнего восторженного нардепа‑идеалиста‑либерала нынешний прагматично настроенный успешный маркетолог и дилер из своего лексусного далека, усмехается И спрашивает:
А что ж ты, придурок, лох позорный, себе‑то квартирку в Москве не выбил? Ведь тогда просто еще «давали»! Ты ведь в комнатке в коммуналке жил, да?
Да.
Ну и что ж себе не выбил?
Так я для Маяковского. И вообще мы не о себе думали.
А‑а‑а А о тебе кто Пушкин думать будет? А сейчас что у тебя в Москве? Из комнатки в коммуналке выгнали тебя?
Да Обманом
А дочь с мужем ютятся в комнате‑кухне? А ты где?
А я по гостиницам да и редко.
Ну и соси лапу! Придурок!
И дает маркетолог по газам «Лексуса». «Лексус» бесшумно и мягко трогается, дурманит запахом кожи и парфюма какое‑то мгновение и тает вдали
Маяковский
Маяковский для меня стоит особняком. Почти во всех его стихах я слышу мощную ноту одиночества и трагического отсутствия взаимопонимания с окружающим миром. Таков, видно, удел любого гения разреженный воздух вокруг, пустота на этой вершине
«Я хочу быть понят родною страной!..»
В какой ночи кровавой, недужной,
Какими Голиафами я зачат,
Такой большой и такой ненужный
К чему это я? А вот.
Ленинград. «Обсерватория имени Воейкова». Никакой обсерватории, просто какой‑то секретный «ящик», связанный, видимо, с космосом. Выступаю там с концертом. Читаю Маяковского.
На следующее утро за кулисами БДТ останавливает меня Товстоногов, блестя очками, с бисеринками пота над верхней губой. Вполголоса:
Олэг! На вас жалоба пришла из обкома партии. На своем концерте вы читали антисоветские стихи. Что вы там читали?!
Маяковского, Пушкина Пытался, чтоб смысл коренной, содержащийся в стихах, дошел до зрителя
Олэг Зачем вы это делаете?.. Ведь вы же ничего не измените
На меня смотрят печальные глаза сенбернара.
Вызывают в райком. (Хоть я и не член КПСС, а попробуй не явись!) Дают список стихов, читанных мной в «обсерватории»: прочитайте! Большой зал, весь в зеркалах, вижу около десяти своих отражений. В зале человек пять‑шесть Читаю «как полагается». Маяковского в первую очередь. Заканчиваю где‑то через час.
Спасибо!
Пожалуйста.
И все, продолжения не было.
Действительно ли Гога полагал, что «ничего изменить нельзя»? Несомненно Да и все так считали. А шепотком, на кухне травили антисоветские анекдоты, пытались услышать сквозь звериный рев глушилок радио «Свобода», Би‑би‑си Да и как «изменить»? На что? В какую сторону? Да и зачем?
Мы просто жили, работали, радовались. Мало ли радостей в жизни? А страх, ложь, отсутствие информации, приказ «не высовываться!» это были составные части атмосферы, которой дышали, к которой привыкли так же, как к отравленному пылью и гарью, выхлопными газами городскому воздуху. И жизнь продолжалась
Но так же как отравленный воздух отравляет людей, возбуждая болезни, так и уродливая и больная нравственная атмосфера калечит души людей, подчас влияя даже на внешний облик человека. Всмотритесь‑ка внимательней в лица прохожих, особенно пожилых: много ли среди них красивых, с правильной осанкой, с высоко поднятой головой?
Некоторые забывали об «условиях игры», начинали «играть» по‑своему, и тогда наиболее зарвавшихся, выпрямляющихся жестко одергивали: «Сидеть!» Товстоногова, Эфроса, например. Рядом были и средства психушки, лишение работы, выдворение из страны, ссылка Вспомним хотя бы гениального Бродского посажен и сослан в глушь «за тунеядство», то есть за то, что был поэтом. А через несколько лет выброшен за пределы Союза при ликовании и одобрении большинства трудящихся.
Яростной критике были подвергнуты самые лучшие, самые смелые наши спектакли: «История лошади», «Энергичные люди», «Три мешка сорной пшеницы» Конечно, Гога боялся за созданный им театр, был осторожен.
Репетируем «Дачников» Горького.
Товстоногов решает спектакль как «парад масок». Горожане (писатель, адвокат, инженер, свободная дама) напяливают на себя маски: кто великого и непризнанного гения, чтобы скрыть свою душевную пустоту, кто остроумца‑весельчака, кто безнадежно влюбленного. И всех якобы волнует судьба России, ведь они ее граждане
Я репетирую роль адвоката Басова, жизненные цели которого содрать побольше денег с клиента, хорошо и вкусно пожрать, выпить quantum satis, переспать с горничной
В репетиционном зале много народу: Гогины студенты из театрального института, артисты.
Проходим сцену «У стога сена», где мой Басов, изрядно хмельной, философствуя о России, рыдает над ее судьбой, судьбой ее народа, хотя на самом деле ему глубоко наплевать и на Россию, и на народ. Сцена идет легко, свободно; Гога довольно сопит, подкидывает еще и еще яркие «приспособления»; присутствующие хохочут, и я чувствую в зерно попадаю точно.
И вдруг (опять это «вдруг») встает один из присутствующих, назовем его артист X. «Позвольте, Георгий Александрович?» «Да, пожалуйста » «К чему вы нас призываете, Георгий Александрович?! Ведь это же Горький, великий пролетарский писатель! Вы превращаете в балаган то, что должно звучать серьезно и убедительно! Не измена ли это всей жизни великого Горького?!»
Пауза.
Гога встает снимает очки бисеринки пота выступили на верхней губе:
Пэрэрыв
Ушел.
Перерыв длился несколько дней.
Продолжив репетиции, Товстоногов о «параде масок», о «масках» вообще, о балагане уже не упоминал. Ни о каких поисках речи уже не было. Азарт был погашен.
Спектакль получился средний. Что и дало право А. М. Смелянскому радостно констатировать: «Спектакль стал фактом исчерпанности БДТ».
Не буду гадать, что двигало артистом X идейная ли убежденность, простая ли ревность к удачной чужой репетиции? Бог с ним. Но Гога, Гога Что он испытал? Страх? Укол в сердце, живо напомнивший ему о возможных «санкциях»?.. Ведь незадолго до этого ему пришлось снять премьеру «Римской комедии» по пьесе Леонида Зорина. А это был блистательный спектакль!
Недаром в товстоноговском «Ревизоре» появлялся над сценой призрак: коляска, а в ней некто в черных очках, в цилиндре, черной крылатке Грядущий ревизор.
В темноте, где только одинокий огонек свечки чуть освещает лица чиновников, слышится голос Городничего:
К нам едет ревизор.
А‑а‑а раздается трагический стон смотрителя училищ Хлопова. Он в ужасе смотрит на Городничего и падает навзничь без сознания.
Страх, говорит Товстоногов, страх главное обстоятельство в пьесе. Страх руководит всеми. Каждым по‑своему. Ужас перед разоблачением не за мелкие взятки борзыми щенками и прочей ерундой, а за деяния, о которых и говорить‑то страшно. Страх заставляет их трепетать от ожидания неминуемой расплаты, и они готовы от этого страха принять любого подозрительного за ревизора. «Тэм более этого пшюта из Пэтэрбурга и чем это нелепее, тем страшнее, понимаэтэ?!»
А мой Хлестаков, мелкий чиновничишко, вечно трепещущий от ожидания начальственного окрика, дрожащий от страха перед дверью в кабинет столоначальника, угодливо кланяющийся любому, кто рангом выше, неожиданно попадает в объятия добрых людей, гостеприимных, с восторгом внимающих столичному жителю, приобщенному к недоступным тупым провинциалам радостям. Страх улетучивается Возникает ощущение радостной свободы.
Полюса меняются теперь Иван Александрович сверху, а вся эта провинциальная шелупонь трясется от страха там, далеко внизу. Свобода для раба это возможность топать ножкой и грозно покрикивать на тех, кто прежде унижал его. Наше российское извечное понимание свободы как возможности понукать окружающими, унижать их, компенсируя этим комплекс собственной неполноценности.
Хлестаков со слезами на глазах прощался с хозяевами:
Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема!
Слезы. Вновь в эту бездну страха и унижения?! Искренние слезы на глазах моего несчастного Ивана Александровича, Ванечки и трепещет на ветру прощальный платок, а сзади, в коляске, Осип единственный, кого побаивается Ванечка, гнусный тип, и ударить может
Э‑эй вы!.. Залетныя! орет Осип, размахивая гигантским ощипанным гусем, а Ванечка мой вытирает невольные слезы
Москва. Гастроли БДТ. Играем «Ревизора», «Мещан», «Выпьем за Колумба!». Успех!! Москвичи носят на руках.
Ну и досталось нам за этот успех! В газете «Правда», главном партийном органе, 15 августа 1972 года появилась статья некоего Зубкова. Вот цитата:
«Почему страхом одолеваемы хозяева города, а полнейшее ничтожество Хлестаков сосулька, тряпка от этого страха почти свободен?! Ведь Хлестаков не постороннее лицо чиновничьему миру, он находится на самых нижних ступенях служебной лестницы. И коли кому из чиновников трепетать от страха так это прежде других ему!».
То есть цыц!!! Эт‑то на что вы намекаете?! Какая такая расплата?!! Учтите: нам, хозяевам жизни, бояться нечего! Это вы, людишки, копошащиеся где‑то там, внизу, должны трепетать от страха! Свободный от страха человек нонсенс! Этого не может быть, потому что не может быть никогда!! На том стояла и стоять будет русская земля!
Зацепило, значит.
Выходит, в точку попал Николай Васильевич! Да и мы помогли по мере сил.
Ну, да бог с ними со всеми, с зубковыми и прочими иксами.
Намучился я с Хлестаковым! Роль‑то сложнейшая. Эту страшную, дикую историю Товстоногов ставил как водевиль, как фарс, неожиданно переходящий в трагедию Смех, смех от идиотизма происходящего и слезы от понимания того, что весь этот нелепый кошмар возможен в России, не только возможен, но что он и является сутью российской жизни.
Абсурд, требующий от актера полнейшей отдачи всех сил и вместе с этим чрезвычайной легкости существования, полнейшей веры во вновь и вновь возникающие новые обстоятельства: то ты просто гость, а теперь важный начальник, теперь учитель Пушкина, литератор, министр, император
Как играл? Спектакль на спектакль не приходился. Но иногда я испытывал истинное счастье полета, которое позволяло мне без стыда взглянуть в глаза даже бывшим студийцам МХАТа с белоснежной Чайкой на груди.
Еще в конце XVIII века Карамзин, путешествуя по Европе, встретил соотечественника, который спросил у него: как дела в России?
Воруют, ответил знаменитый историк.
Воруют, берут взятки, и какие!! Что там борзые щенки!! И от страха не трясутся уже. Нормой жизни стал этот кошмар, ведущий нашу Россию к полной деградации.
Ну, а что же немногочисленные неворующие и не берущие на лапу? В основном молчат. Иногда вскрикивают возмущенно Крик этот глохнет в лесах и болотах бескрайней России, в сырых и ленивых мозгах ее обитателей
Лыняев «Волки и овцы» Островского. Ленивый, добродушный толстяк, любящий хорошо поесть и поспать. Заглядывается на женщин, но безумно их боится: не дай бог, женят и прощай, свобода! Неповоротливый и медлительный Так я и начал репетировать этого Лыняева. И вроде неплохо.
Но вот пришел на репетиции Товстоногов.
Главная наша российская беда попустительство злу. Мы и видим его, и возмущаемся, но бороться с ним тут нас нет. Почему так происходит? с этих слов начал Товстоногов свои репетиции.
Совершенно неожиданно он предложил в корне пересмотреть «зерно» моего Лыняева.
Олэг! Вы играете какого‑то полусонного обывателя. А попробуйте по‑другому: Лыняев это сгусток энергии. Это шаровая молния! Помните сыщика Эркюля Пуаро?! Это Лыняев! У него на руках фальшивые векселя, и он вот‑вот схватит ту банду мошенников!! Это так увлекательно! Он счастлив! Боже, какое счастье идти по следу преступников, ближе, ближе, как интересен этот детектив! Какое удовольствие! Невозможно остановиться но! Подошло время обедать Обед обильный А как сладок послеобеденный сон!! А мошенники, подделывающие векселя, ну, собственно, куда они денутся? Не сегодня, так завтра или послезавтра хр‑р‑р Вот тут‑то его и подстерегает опасность А в споре с Беркутовым он, поняв всю сложность борьбы, и махнет рукой: а какое, собственно говоря, мне дело Пусть сами разбираются. И зло торжествует. Понимаэте, Олэг? Вся деятельность его для собственного удовольствия, а как только появляется препятствие исчезает удовольствие. Как это тэпэрь говорят слинял отсюда Лыняев
Я начал работать в этом ключе и, к стыду своему, должен признаться, получал громадное удовольствие от репетиций.
Во время репетиций «Волков и овец» моя мама лежала в больнице в Ленинграде, и я знал, что у нее неоперабельный рак.
Кончалась жизнь. И мамина, и моя.
Мамина сухая и дрожащая от напряжения рука первого сентября в Тбилиси, наши беседы и споры на Покровке, мамины приезды ко мне в Ленинград, и белоснежная Чайка, и речка Серебрянка с дрожащей над ней голубой стрекозой в Пушкине, и васильковое поле в Муранове, умирала вместе с мамой вся моя жизнь
Я понимал, что когда‑то настанет этот страшный час, но гнал прочь страшные мысли
Ленинград, проспект Мориса Тореза и парк напротив больницы были завалены снегом. Я дежурил у мамы, меня сменяла Галя. Я мчался в каком‑то дурмане на репетиции и репетировал с огромным наслаждением. В зале смех, пыхтенье Гоги
В ужасе я спрашивал себя: что со мной?!! Неужели я так черств, что могу забавляться и забавлять окружающих, зная, что моя любимая, родная, единственная моя кровинушка, мама моя сейчас умирает медленно, все понимая, и, не желая огорчать меня, на вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» всегда отвечает мужественно, по слогам: «Хо‑ро‑шо »
Не знаю, может быть, это была самозащита организма отключиться на четыре часа, а потом опять мчаться к маме, в слепой надежде на чудо
Вот она, сволочнейшая природа артиста. Вот почему артистов не хоронят в ограде кладбища. Вот почему я никогда не забуду черный глаз белоснежного голубя, почти невидимого за окном на фоне сияющего снегом парка.
Не знаю, что стало бы со мной, если б не Галя, Оля, Ксюша.
И Георгий Александрович, который пришел на похороны и стоял у маминого гроба в крематории
Актриса Лариса Малеванная в спектакле «Дядя Ваня» была назначена на роль красавицы Елены Андреевны.
Надо сказать, что Лариса, обладая очаровательной внешностью, обаянием привлекательной женщины, была по совершенно для меня непонятной причине крайне низкого мнения о своей внешности. Пришла она к Товстоногову, поблагодарила за замечательную роль и поделилась своими сомнениями:
Я, конечно, счастлива, Георгий Александрович, но я не имею права на эту роль! По‑моему, мои внешние данные не соответствуют эпитетам, какими ее награждают: «роскошная женщина» или «о, какая красивая!..» Это Астров. А дядя Ваня «чудная женщина красавица умница ». Вот как о ней говорят!
Блеск очков. Дым «Мальборо»:
А кто говорит‑то?! Кто?! Два деревенских дурака! Идите и работайте.
Крыть нечем.
Спорить с Гогой было невозможно.
Однажды Товстоногов решил ввести меня в идущий уже спектакль «Энергичные люди» на роль персонажа, который именовался Шукшиным «человек с простым лицом, а для краткости Простой человек». К тому времени я уже много играл, около двадцати двух спектаклей в месяц, и мне не улыбалась перспектива полного уже отсутствия свободного времени. К тому же, Сева Кузнецов хорошо играл эту роль, внешне абсолютно подходил к ней, несмотря на то что был начитан, интеллигентен и прочее. Но «Энергичные люди» должны были идти в параллель со спектаклем, где тоже был занят Кузнецов, и решено было ввести меня.
Я пошел к Товстоногову. Приготовил убедительный довод: несовпадение моих внешних данных с образом «простого человека».
Георгий Александрович! Если посмотреть на меня со стороны, я произвожу впечатление человека с интеллигентным лицом! Этакий князь, барин, недобитый интеллигент. А герой Шукшина деревенский парень, спившийся в городе люмпен. Мои внешние данные абсолютно не совпадают с персонажем по имени «Человек с простым лицом».
Пауза.
Палец с блеснувшим перстнем упирается в меня:
Вот! Вот! Именно поэтому, Олэг, я и поручаю вам эту роль.
Что тут скажешь? Выучил текст, натянул на себя старые свои проношенные брюки, надел собственные растоптанные башмаки фабрики «Скороход», взял жженую пробку, нанес сажу на пористую губку и сделал «густую небритость». Все. Весь грим. И почему‑то почувствовал необычайную легкость и радость, и возможность импровизировать, валять дурака.
После моей «премьеры» в этой роли Товстоногов устроил в своем кабинете фуршет в мою честь. Чего никогда раньше не бывало.
Видите, Олэг? Я был прав!
И роль эта стала одной из самых моих любимых.
Геннадий Богачев сейчас один из ведущих артистов театра. Но поначалу Гога не давал ему ярких ролей, «выдерживал» его, словно хорошее вино, культивируя в нем голод на работу. Так он поступал со многими, видимо, и со мной.
Я отметил Геннадия сразу же в роли деревенского алкоголика в маленькой роли, но очень точно, в характере, сыгранной, без малейшего нажима, очень узнаваемо. Когда на худсовете при обсуждении спектакля я отметил именно Геннадия, а потом уже главных исполнителей, то увидел, что Гога был недоволен: ему важно было услышать хвалу в адрес именно главных персонажей. Они определяли лицо «спэктакля». И вот наконец Гена получает блестящую роль «мистера Джингля, эсквайра» в спектакле «Пиквикский клуб». Я в спектакле не занят, но ностальгия по моему любимому МХАТу, по «Пиквикскому клубу» во МХАТе, где блистали Кторов, Карев, Массальский, Блинников, Комиссаров, Попов, Болдуман созвездие блистательных мхатовцев, частенько приводила меня на репетиции, когда они шли уже на сцене. У Гоги на репетициях всегда много было народу, ибо и репетиция тоже становилась своеобразным спектаклем. Геннадий хорошо репетировал!
Но вот как‑то дома раздается телефонный звонок.
Голос Товстоногова:
Олэг, у нас заболел Богачев. Тяжелейшая форма ангины. Он уже две недели не ходит на рэпэтиции, лежит в больнице. Не могли бы вы прийти на репетицию и можно даже с ролью в руках общаться с артистами вместо Богачева. Они ведь в трудном положении: вынуждены сейчас репетировать с пустотой! Вы же бывали на репетициях, имеете общее представление. Конечно, как только Богачев выздоровеет, вы будете свободны. Да и недолго до премьеры три недели.
Хорошо, Георгий Александрович.
Пришел я в репетиционный зал, показали мне мизансцены, а затем уже на большую сцену. Вёл я себя на репетициях раскованно: премьера мне не грозит, скоро вернется Геннадий. Потому веду себя вольно и хулиганю изо всех сил, забавляя артистов.
Наконец пронесся слух, что Геннадий выздоровел. Подхожу к Товстоногову и говорю, что репетировать с завтрашнего дня будет уже Гена. А Товстоногов в ответ:
Олэг! Рэпэтировать и играть эту роль будете вы!
Я оторопел от неожиданности. Во‑первых, а как же Гена?! Ведь у него были, наверное, надежды на эту роль, ведь столько времени и труда им потрачено. И еще: а что могут подумать многие что «подсидел» товарища, мерзавец, точно как Олег Борисов в «Генрихе IV» подсидел Рецептера? Ну уж нет! И я пошел «на вы»:
Георгий Александрович, это прямая дискредитация всей нашей работы! Актеры три месяца трудно работали, разбирали пьесу, определяли события, искали действие, а тут появляюсь я, не прошедший этот путь, и с бухты‑барахты
Гога берет меня под руку, ведет в дальний угол сцены. И, приблизив свое смуглое лицо в очках на крутом носу, заговорщически шепчет, жарко дыша:
Олэг! Будем откровенны! Все эти поиски событий, действий, все это долгое сидение за столом шаманство чистой воды! Вспомните, у Корша: три недели и готов «Гамлэт»! Неделя вот вам и Островский!! И неплохие спэктакли были! Играть будете вы!
Вот тебе раз! И это говорит Гога, детально, скрупулезно на репетициях копающийся во всех перипетиях пьесы, всегда добивающийся от актера выполнения действенной линии!
Я обалдел совершенно:
Георгий Александрович! А как же Гена? Ведь это такой удар для него! Столько надежд на эту роль
А Гога совсем рядом его глаза тихо‑тихо и весело шепчет:
О Богачеве не беспокойтесь. У него и без этой роли прэ‑экрасное будущее! Но это сугубо мэжду нами.
Натянул я на голое тело фрак времен Французской революции (спер Джингль в театре, из которого его давно выгнали) рукава и панталоны коротки, порваны, лаковые некогда туфли, голую грудь прикрыл тряпкой, завязанной бантом. В карманах ни пенса, пустой желудок
Вспомнил дядю Петю «пустой пас!», его презрительно скривленный рот, надел парик с длинными, до плеч, волосами, увидел наивно верящие глаза Пиквика и компании и пошел в староклассическом театральном стиле пунктирно откалывать номера мой Джингль. И стал я упиваться тем, как «беспоместный эсквайр» Джингль ведет себя независимо от меня, нагло диктуя мне и походку, и жесты, и интонации
Играл я эту роль до тех пор, пока спектакль не был снят с «рэпэртуара» около двадцати лет.
А Геннадий Богачев стал одним из ведущих актеров БДТ, о чем я с радостью и облегчением сообщаю.
Читаю «Бесов» Достоевского.
Что‑то уж очень напоминает. Что‑то до боли знакомое
План Пети Верховенского, ежели он придет к власти:
« Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов Высшие способности всегда развращали более, чем приносили пользы, их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями Мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве все к одному знаменателю, полное равенство
разделим человечество одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо »
Не провожу параллелей с Цицероном или Коперником. Но вспоминается травля Юрского, Райкина, Любимова, того же Товстоногова Да очень, очень многих.
Негативные статьи о «Трех мешках сорной пшеницы», об одном из шедевров Товстоногова, отсутствие какой‑либо прессы об «Истории лошади», попытки втянуть его в «элиту», в «одну десятую» его депутатство, Золотая Звезда Героя Социалистического Труда.
Товстоногов умело лавировал, пытаясь не потерять себя и в первую очередь театр, созданный им, не дающий народу превратиться в стадо, заставляющий думать, сравнивать
Вспоминаю, как однажды перед гастролями в Польшу меня вызвали «для собеседования».
Райком партии. Секретарь райкома. Тет‑а‑тет. О Польше, о международном положении. Об опасностях, которые ждут нас в Польше интригах ЦРУ, вербовке и тому подобное. Беседа ведется в теплых, доверительных тонах, дескать, «вообще‑то об этом нельзя, но вам‑то, конечно, скажу Мы же свои люди, вас мы любим ». Постепенно тональность убаюкивания и доверительности срабатывает сладостно‑расслабляюще. И вдруг: «Что, Товстоногов очень сдал, да?.. Может быть, труппа недовольна им? Почему уж так он недолюбливает нашу страну, наш народ?»
Я напрягся. Стоп! Так ведь можно незаметно для себя предать Гогу. Да, дескать, а что вы хотите: возраст все‑таки Этак развалясь на мягких кожаных подушках с чашечкой кофе доверительно, с глазу на глаз.
Я знал, что главный наш коммунист, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС товарищ Романов пытается убрать Товстоногова из театра, что тот висит на волоске, что кто‑то из Москвы, высокопоставленный, пытается противодействовать Романову. И мое убаюканное «да» могло послужить той каплей, которая качнет чашу весов. Тем более что я убежден: кое‑кто из театра уже побывал в этом кабинете. Как он вел себя? Неизвестно
Я, собравшись с духом, опроверг весь «негатив» и, придя в театр, рассказал все Георгию Александровичу. Тот поблагодарил. А потом с грустью добавил:
А знаэте, распустили слух, что я жидомасон и что Райкин будто бы переправляет бриллианты в Израиль.
Все это, казалось бы, в прошлом. Нет больше власти, доведшей страну до краха, уничтожившей миллионы, среди которых было немало людей с «высшими способностями». Создана Конституция, в основу которой положена Декларация прав человека, провозглашено право частной собственности, право свободного выезда из страны, создана Государственная Дума, провозглашена многопартийная система, наполнились магазины, появилась свобода слова.
Но что‑то все больше и чаще начинает проникать в сегодняшний день аромат прошлого, тот самый, без присутствия кислорода, тот самый, который заставил большинство безнадежно махнуть на все рукой: «делайте что хотите» и заняться личным обогащением. Конституция не соблюдается, законы тоже, многопартийность фактически уничтожена, возможность дискуссии сведена к нулю, выборы вновь приобрели фарсовую окраску, Дума, как и в СССР Верховный Совет, стала послушным инструментом для утверждения решений, принятых «наверху»
Чем это кончилось в СССР, мы знаем полнейшим экономическим крахом и распадом страны. Казалось бы, опыт мы приобрели. Но «народ безмолвствует», ищет развлечений. Когда я вижу ржущую до изнеможения толпу на пошлых эстрадных концертах, а это тупое ржание и пошлый юмор тиражируются миллионами телевизоров, когда вижу бесстыдных девиц, по тому же телевизору смакующих свои сексуальные приключения, слышу о том, что в школе уменьшено количество часов, отпущенных на изучение литературы, у меня возникает ощущение, что кто‑то очень хочет вновь превратить народ в стадо «Мы пустим неслыханный разврат, пьянство, сплетни мы всякого гения потушим в младенчестве » А народ в большинстве своем эту тухлую наживку с радостью хватает.
Что за роковой круговорот получается?
И, может быть, прав был Гога, говоря: «Ничего вы не измените »? И не пророческие ли слова Чехова, вложенные в уста дяди Вани: «Все будет по‑старому »? Что же мы, русские, за народ такой?!!
Однажды я спросил у Товстоногова: «Что такое современный артист?» Одно время в театральной прессе часто употребляли это понятие. Смоктуновский, например, объявлялся «современным», а кто‑то другой нет. По‑моему, Смоктуновский просто гений, а тот, другой, не гений, ан нет: Смоктуновский еще и «современный актер»
Вот я и спросил у Гоги: «А что такое, собственно, «современный артист»? Просто хороший, что ли?»
Кстати, у вас может сложиться впечатление, что я так вот, запросто общался с Гогой, задавая ему вопросы, а он отвечал пространно, словно Гёте Эккерману. Нет, все было далеко не так.
Ощущение громадной дистанции между нами никогда не покидало меня. Поэтому наши «беседы» были очень редки, а желание не ударить в грязь лицом и не потерять его в глазах Товстоногова заставляло меня быть крайне щепетильным в выборе времени и темы для разговора. Теперь я думаю, что зря я был так сдержан.
Он, как и многие крупные личности, был очень одинок и нуждался в общении. Несмотря на дружную семью сестру Натэллу, ее мужа Евгения Лебедева, детей, племянников. Конечно, когда он был в зените славы, вокруг него было полно жаждущих общения критиков, режиссеров, женщин, друзей. Соревновались в остроумии, сыпали анекдотами, пытались поразить эрудицией и талантом.
На лавочке в доме отдыха ВТО в Ялте вокруг него собиралась толпа народа, каждый пытался быть заметным, оригинальным. Клубился дымок «Мальборо», Гога в центре, словно магнит. Блеск очков, довольное сопенье.
Но вот вспоминаю последнюю его поездку в этот дом отдыха. Самых близких его друзей уже нет на свете. А что же жаждущие, и остроумные, и эрудированные?? Никого Только любящая сестра рядом. Я пытался заменить ему эту толпу, рассказывая анекдоты, забавные случаи.
В последние несколько лет новые работы Товстоногова были не так ярки, как прежние, силы оставляли его, луч славы уже светился нимбом вокруг иных голов, и выгоды из общения с Гогой уже никто не мог извлечь.
Вот и сижу я с ним на лавочке, испытывая и радость общения, и боль за него.
Но это потом, в самом конце
А сейчас, на гастролях в Литве, в советском еще Вильнюсе, в ресторане гостиницы «Неринга», мы оказываемся за одним столом во время обеда; ресторан пуст. Персонал театра вынужден экономить на всем на мизерные суточные месяц на гастролях в ресторан не походишь.
Гога, несмотря на страшную жару, почему‑то в черном костюме, белой рубашке, галстуке и с Золотой Звездой Героя Социалистического Труда на пиджаке. Наверное, должен пойти к местному начальству или, быть может, на интервью.
Вот тут‑то я и завязал наш разговор о современном актере.
Современный актер? Вы знаете, Олэг чем талантливее актер, тем он современнее. И наоборот чем современнее актер, чем больше захвачен он общей эмоцией сегодняшнего дня, тем ярче и выпуклее его работы. Даже в классике. Даже в классике! Но далеко не это самое главное. Умение точно установить размер зазора между собой и ролью!! Вот! Вот что характеризует современного актера. Понимаэтэ?! Допустим, в чеховском «Дяде Ване» чем ближе вам пэрсонаж, чем полнее вы разделяете его радости и горести, тем ярче роль Но даже и здесь есть зазор, расстояние. Вы же не сошли с ума, не превратились на сто процентов в другого человека, вы же не на самом деле душите Дездемону, вы же контролируете себя и смотрите на себя со стороны. Крохотный, но зазор существует А если взять Брехта! О! Уж тут необходима гигантская дистанция между актером и персонажем!! Вы смотрите на того, кого играете, со стороны. Вы говорите зрителю: вот! Вот таков он, мерзавец Артуро Уи! Он это не я! Я нэнавижу его! Живя его чувствами, вы одновременно указываете на него со стороны!.. И ведь сочетание актера и текста нового автора каждый раз требует установления своей точной дистанции между актером и ролью. И тот, кто точно улавливает необходимость именно такой дистанции, кто точно определяет размер зазора, тот и есть современный актер. Понимаэтэ?!
Не знаю, каков был размер зазора между мной и ролью Войницкого в «Дяде Ване», но в эту роль постепенно вошло все мое «предыдущее»: и потеря близких, и первые годы тупого отчаяния в БДТ, и зависть к успешным работам моих товарищей нехорошая зависть, что поделаешь?! И милое Хотьково, и наша дача бревенчатые пол‑избы, и бескрайние густые леса вокруг. И попытка как‑то продлить память о жизни папы и мамы уже после их ухода окучивание яблонь, ремонт изгороди, бессмысленные, честно говоря, действия, но они создавали некую иллюзию этого продления.
А грозы с обвальными ночными дождями, ливнями?! А солнце сквозь листву! Все это вместе питало мое подсознание, и шел я на очередной спектакль нет, не как на «Цену», нет но шел к себе, в свою жизнь, в надежде воскресить то, что воскресить невозможно.
Думаю, что сейчас я бы играл дядю Ваню несколько иначе прошло много лет, можно спокойнее обернуться назад и трезво оценить себя, увидеть собственные слабости и нелепости и заставить зрителя не только сочувствовать моему дяде Ване, но и кое‑где посмеяться над его наивностью и нелепостью.
«Зазор», «дистанция», о которой говорил Георгий Александрович, были бы больше, чем тогда, когда еще кровоточили мои раны от потерь и я искал сочувствия даже у зрителя.
Сейчас я оглядываюсь на моего дядю Ваню с любовью и оставляю его навсегда в старом бревенчатом доме, в теплой комнате, за столом, освещенным керосиновой лампой, щелкающим на счетах, словно гвозди в свой собственный гроб вгоняя, смирившимся, понявшим, что во всех своих бедах повинен он сам и никто иной. Стал бы он Шопенгауэром, Достоевским, если б жил иначе? Нет, нет и нет! Он мог бы стать Иваном Петровичем Войницким, известным ученым, художником, писателем, если б все силы свои употребил не на попытку сохранить жизнь в усадьбе такой, какой она была при отце и сестре, радостной, солнечной если б отбросил ностальгию, забыл о дорогих покойниках, оставил бы усадьбу, уехал бы в Петербург если бы, если бы
« Пятого февраля масла постного двадцать фунтов пятнадцатого февраля опять масла постного двадцать фунтов гречневой крупы »
Свиристит сверчок, потрескивает огонь в печке, Вафля тренькает на гитаре. И кружатся, кружатся в бессмысленном бесконечном хороводе по замкнутому кругу голые неприютные осенние деревья
«Все будет по‑старому »
Интерлюдия о Джингле
О, эти далекие благословенные времена, когда еще не рухнул под собственной тяжестью союз нерушимый, когда народ в едином порыве единодушно голосовал за «блок коммунистов и беспартийных» и был счастлив, если на прилавках магазинов, кроме «супового набора», т. е. кроме кучки обрезанных костей, появлялось мясо, и мгновенно возникала ликующая толпа, когда за автомобилями «Жигули» или «Ока» тянулась многогодовая очередь, в которую еще надо было попасть, используя «связи». Когда, входя в магазин «Березка», ты испытывал вполне объяснимую робость, ибо магазин этот для избранных, там продавалась жевательная резинка, водка «с винтом», чай индийский, «со слоном», невиданный «сервелат», мечта фарцовщика импортная дубленка и многое еще из того, что недоступно ликующему обывателю, ибо все эти музейные редкости можно было приобрести либо на «чеки», выдаваемые работавшим за рубежом, в обмен на валюту, заработанную там, либо на доллары но доллар этот был опаснейшей штучкой, ибо любой обладатель доллара вызывал у славных чекистов в сером штатском, несущих неусыпную вахту в «Березке», естественное подозрение в фарцовке или, что более вероятно, в тайной связи с ЦРУ, пытающемся подорвать нашу счастливую жизнь могли и задержать «для выяснения».
Витрины в «Березке» были затянуты холстом, дабы не смущать взоры прохожих.
Не говоря уже о магазине «для дипломатов», где было ВСЁ. Ну, буквально всё. Эти магазины в отличие от «Березки» были без вывески, и витрины их тоже были затянуты, скрыты материей. А «номенклатура» обкомовцы, райкомовцы посещала «Голубой зал» в Гостином дворе, где был шикарный импорт. Там тоже было ВСЁ (как сейчас в обычном магазине средней руки), и случайно, по блату попавший в чрево этих заповедных пещер Аладдина человек терялся, исходил испариной от невозможности выбрать, купить, ибо он был не в номенклатуре и «не имел права», а был допущен из милости, по звонку «оттуда».
Для номенклатуры была больница имени Свердлова на Крестовском: шикарные палаты с современным оборудованием; медсестрички в крахмальных белоснежных халатиках; они, поигрывая попками, разносили еду по палатам уже сверхвыдающихся деятелей партии, типа первого секретаря обкома КПСС товарища Романова; врачи, облеченные особым доверием.
Номенклатуре была предоставлена возможность за символическую мизерную плату арендовать дачи на побережье Финского залива; кто покрупнее тому домик, кто помельче комната или две в таком домике. Водопровода и канализации нет, но воздух, воздух! А крупным начальникам отводились дома со всеми удобствами, высокие заборы скрывали их трудную государственную деятельность, дежурили госмашины на случай возникновения какой‑либо идеи, требующей немедленного воплощения в жизнь.
Остальным, «рядовым» труженикам не полагалось ничего. За городом нельзя было даже построить себе дачный домик это уже собственность, а она, как известно, порождает капитализм. Так распорядился товарищ Романов
Правда, ветеранам, блокадникам иногда удавалось выхлопотать себе комнатку в дачном домике, арендуя ее на лето.
Приобщенные к номенклатуре держались особо, спины их были прямы, взоры затуманены, весь вид их указывал на приобщенность к верхам, зеркальный взгляд скользил за горизонт, нащупывая там зарю коммунизма.
К чему я это все?
А вот. Актеры, получившие звание, тоже попадали в номенклатурный список и приравнивались к различным категориям номенклатуры. Народные артисты РСФСР к более низкой, народные артисты СССР были рангом повыше. Получившие звание были счастливы прежде всего потому, что заметили их работу, значит, она интересна, значит, не зря они работали. Убежден, что эту радость испытывало большинство. А номенклатурные блага, вернее, их крохи, имели в их глазах второстепенное, а то и просто ничтожное значение. Правда, не у всех. С получением звания у некоторых туманились взоры, приобщение к номенклатуре выпрямляло спины. «Стаканоносцы», так прозвал их тогдашний наш товарищ по БДТ Борис Лёскин, с прямыми спинами, словно несущие стакан на голове.
Я, получив звание народного артиста СССР, помимо естественной радости, стал постоянно чувствовать неловкость перед коллегами по сцене: что же это значит, они без звания или званием ниже актеры хуже меня? Талант у них меньше? Играют они не так прекрасно, как я? Ведь это чушь собачья! И я понимал, что рядом со мной, облеченным званием, некоторые испытывают, может быть, чувство собственной неполноценности, зависти и прочие мерзкие чувства, мешающие нормальному общению и работе.
Николай Трофимов, например, гениальный комик. Да нет, не комик, а просто великий артист! Вспомним хотя бы его капитана Тушина из фильма «Война и мир» или Перчихина в «Мещанах» в постановке Товстоногова непревзойденный шедевр актерского искусства. Так вот он носил звание народного артиста РСФСР, а я получил народного СССР так что же: я лучше, что ли? Как ни старайся, а мне до вершин трофимовских никогда не дотянуться куда там!
И я, будучи народным депутатом РФ, «употребил влияние» и добился того, чтоб «дело» о присвоении Трофимову звания народного артиста СССР, лежавшее в комиссии по наградам уже четыре года, было рассмотрено в срочном порядке, и он наконец получил это звание. И мне стало не так стыдно.
Пользуясь «влиянием», я убыстрил присвоение очередного звания не одному еще артисту.
Однажды, уже в ельцинские времена, я предложил на худсовете театра не печатать на театральных программках и афишах звания. Зарплаты, которые тоже зависели от званий, пусть остаются прежними, а звания не печатать Боже, боже мой! Что тут началось!!
Не позволю! Нет!!
Я всею жизнью своею заслужил это звание! Мне его дала страна! Мой народ!!
И все это с покраснением физиономий и со слезами на глазах
То есть пусть все сразу, прочтя программку, увидят, какой я хороший артист! И что артист H., носящий звание ниже моего, артист похуже
К чему это я? А вот. Получил я звание народного артиста СССР. Это событие полагалось в театре отмечать. То есть усадить всех за праздничный стол с винами и закусками, выслушать хвалебные речи, то да се Я всегда избегал шумных официальных застолий, но тут Богачев и Толубеев получили звания народных артистов РСФСР, и решено было вскладчину устроить банкет и выслушивать комплименты в соотношении один к трем.
Празднование в нашем ресторане прошло неожиданно хорошо, весело, валяли дурака, пели, выпивали, конечно, не без этого. Гога, который сам не прочь был выпить рюмку‑другую коньяку, не терпел пьяных, и многие побаивались хватить лишку.
Гример Тадеуш Щениовский, мой дорогой Тэд, обладая даром прекрасного художника, который он отдал в жертву театру, нарисовал прекрасные шаржи на каждого из нас. Я был изображен в виде мистера Джингля из «Пиквикского клуба» во фраке с короткими рукавами, на костылях, а изо рта облачком вырывалась фраза: «Нравится ли нам все это? Вопрос!!! Отработаем отдадим!» Эту реплику мой Джингль произносил в конце спектакля, получив «взаймы» пятьдесят фунтов. Пашка Панков посоветовал мне после «отдадим» сказать еще и «если живы останемся!» что я и делал под хохот зала. А потом добавлял: «Что вряд ли!»
Довольно большой плакат с шаржем был прикреплен к Т‑образной перекладине, и поднять его свернутым было невозможно он разворачивался. Так мы с Галей и вышли на улицу после окончания банкета, где‑то в четвертом часу утра: с плакатом, где Джингль вопрошал: «Нравится ли нам все это?..», с массой цветов, которыми нас одарили.
Было уже совсем светло, и мы отправились на площадь Искусств, где на фоне золотых небес простер руку аникушинский Пушкин. Все цветы положили к подножию памятника и пошли по Невскому к себе в Дмитровский переулок. Город еще спит. Красота вокруг упоительная. И вдруг на Аничковом мосту, откуда ни возьмись, вихрем! милиционер. «А ну, давай сюда!» и пытается вырвать у меня из рук перекладину с плакатом. Я «оказываю сопротивление». «Ах так?!» милиционер хочет провести силовой прием, однако что‑то у него не получается, и он очень больно щиплет меня. Тут я взревел!
Кончилось тем, что сидим мы с Галей в опорном пункте милиции в кинотеатре «Знание» на Невском, бдительный милиционер вызывает КГБ: «Захвачен на Невском с плакатом». Подкатывают две черные «Волги», из них выскакивают несколько человек, старшой с пронзительным взглядом подлетает ко мне, сверлит глазами плакат. «Нравится ли нам все это? Вопрос » бормочет он. Пауза. «Нравится ли нам все это? Вопрос ». Опять пауза. Смотрит на плакат, шевелит губами. Смотрит на меня. На плакат. Бормочет про себя: «Нравится ли нам все это?..» Молчит.
И громко приказывает, показывая на меня: «В отделение!» Понял наконец, что недостоин я КГБ. В отделении обалдевшие от бессонной ночи милиционеры. Из обезьянника радостные вопли: «Валерьяныч! Давай к нам!!» Какая‑то синяя бабища орет: «Город нашей славы бо‑ево‑оо‑й »
Начальник отделения с красными, как у кролика, от бессонницы глазами просит не писать жалобу на их сотрудника: «У меня и так их никого нет, так еще и этого придется увольнять ». Объясняет, что по городу отлавливают антисоветчиков с плакатами, ну и, сами понимаете И говорит на ухо мне: «А то, представьте, в Артиллерийском музее среди орудий вывесили: «Наша цель коммунизм!» Или вот тут недавно шли двое по Невскому с плакатом: «Соблюдайте Конституцию СССР!» ну, этих‑то, естественно, взяли Ну и наш рад стараться. Извините
Нравится ли нам все это, мистер Джингль?!
Мольер
Бас! Я скурвился! Пропадаю! Я становлюсь мещанином, шепчет мне Юрский.
Идет спектакль «Иркутская история», в котором мы заняты. В основном мы, «люди из будущего», сидим на некоем подобии торта. Сейчас тот редкий момент, когда торт, вращаясь вокруг оси, увозит нас от зрителей. И Сережа, наклоняясь ко мне, сдавленно шепчет: «Я стал мещанином Я купил холодильник »
Он не шутил.
Он действительно тогда ощутил себя предавшим союз людей, живущих не для быта, не для обогащения, а для чего‑то такого, что руководило его Олегом в спектакле по пьесе Виктора Розова «Перед ужином». Играл он его блестяще и, значит, искренне был убежден, что желание окружить себя хорошими и красивыми вещами постыдное предательство собственных идеалов.
Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на́ дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
И нам, вслед за любимым Маяковским, ничего не было надо.
А теперь Сережа купил холодильник. И ему было стыдно.
Боже, как давно это было! Почти пятьдесят лет назад.
Изменились ли мы вместе с неузнаваемо изменившимся временем? Да нет, пожалуй. Автомобиль, например, для нас не роскошь и не знак престижа этого проклятого, а просто средство передвижения. Нет, не изменились. В этом и счастье наше, и наша беда.
Сергея тянуло в режиссуру. Он и поставил в БДТ три спектакля «Фиесту» по Хемингуэю, булгаковского «Мольера» и «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой.
Черновой прогон первого спектакля был показан Товстоногову в репетиционном зале. Я смотрел прогон. На мой взгляд, все было здорово, а если учесть, что действие «оденется» декорациями, костюмами, светом, мог бы состояться очень интересный спектакль. Но
Об этом «но» написано у самого Сергея в книге. То ли стилистика довольно необычная насторожила Товстоногова, то ли Может быть, ревность. Трудно сказать. Только спектакль не состоялся.
Тогда Сергей воплотил «Фиесту» на телевидении. Получился прекрасный спектакль, непохожий по стилю ни на один другой телевизионный спектакль, с великолепными актерскими работами. Даже сейчас я не перестаю восхищаться им, несмотря на некачественное по нынешним меркам техническое воплощение. Точно найденный стиль поведения актеров, аскетически условная, но точно передающая атмосферу декорация, до миллиметра выверенный кадр
Этот спектакль долгое время был под запретом, ибо в нем в роли тореро был занят блистательный Барышников, еще во время гастролей Кировского (ныне Мариинского) театра в США оставшийся в Штатах, что по тем временам считалось тяжким преступлением изменой Родине. Поэтому необходимо было вычеркнуть из сознания, из памяти советских людей образ этого балетного гения.
Вместе с ним надолго вычеркнули и «Фиесту». Приказано было смыть пленку, чтобы и памяти не осталось! Но нашлись порядочные люди, которые с риском для себя сохранили копию телеспектакля.
«Мольер» по пьесе Булгакова.
В этой постановке был занят и я в роли Короля‑солнце, Людовика XIV.
Гений‑драматург, король театра и гений политической игры, всесильный тиран, король Франции.
Власть и художник. Художник и власть.
Тема, которая послужила причиной закрытия прекрасного, как рассказывают, «Мольера» в Художественном театре еще при жизни Булгакова и Станиславского.
Булгаковская великая литература только начинала входить в нашу жизнь. Надо было попытаться проникнуть в абсолютно безусловный, но в то же время условнейший, необычный мир Булгакова, сделать его своим, ни в коем случае не опускаясь до простого психологического бытовизма. Сережа (а ему, по‑моему, была ближе всех булгаковская правда) делал все для того, чтоб каждый из нас эту правду учуял, и я, впервые соприкоснувшись с ним как с режиссером, абсолютно поверил ему, шел за ним, спотыкаясь, падая, иногда выходя на правильный путь, а то и вновь сбиваясь с него.
Товстоногов пришел на черновой прогон. Когда прогон закончился, все актеры и Юрский, как режиссер и актер (он репетировал Мольера) были удостоены горячих товстоноговских похвал:
А вы, Олэг Вы меня очень разочаровали. Я не увидел ничего. Да ничего и не было. Ощущение вы просто выучили тэкст и его проговариваете Завтра репетируем эту сцену. В одиннадцать!
Я был ошарашен и раздавлен. Ведь вроде бы все я делал правильно. Правда, из‑за волнения, возможно, лишь обозначал внутреннюю жизнь героя Да нет, все было правильно!
Еще и еще раз проверяю себя. По внутренней жизни, по логике все было сыграно правильно. Я Король‑солнце, все в моих руках. Мольер король театра, не дам унизить Мольера, наоборот дам ему волю, разрешу играть «Тартюфа» в пику этому ханже архиепископу Все правильно! И не мог Гога этого не видеть! Не мог! И мы с Сергеем все правильно сделали.
И вот репетиция. Мы на сцене. Товстоногов в зале.
Раньше я выезжал на фуре. Фура отменена. Я стою в самом дальнем конце сцены в окружении свиты.
Свет! Весь свет, весь свет дайте!
Вспыхивают сотни лампочек в светильниках, подрагивающих, словно огоньки свечей. Это я, Король‑солнце, согрел лучами счастья всех окружающих.
Выходите на авансцену!
Иду на авансцену
Садитесь!
Здесь нет стула, Георгий Александрович!
Вас это не касается! Тот, кто не подставит стул вовремя, будет казнен.
Сажусь хоп! и стул вовремя кто‑то подставил.
Сядьте в профиль ко мне!
До этого я сидел лицом к залу. Маркиз играет со мной краплеными картами.
Вы восхищены! Не гневаетесь, а наоборот удивлены и восхищены его смелостью!
Да это так и было! Может быть, не так ярко? Робко?
Дайте Олегу Валериановичу (кстати, впервые прозвучало мое отчество! Товстоногов обычно называл меня «Олэг») отварную куриную ножку! Лида! (Бутафору) Лида! Приготовили курицу? Отлично. Вот, Олэг, у вас на тарелке цыпленок. Ешьте, Олег Валерианович!
«Как относитесь к цыпленку?»
«Любимое мое кушанье, Ваше Величество!»
Бросьте Сереже на тарелку недоеденную вами куриную ножку! Кушайте, дескать, раньше‑то что молчали? А сами руки‑то сальные облизывайте пальцы и ищите, чем бы вытереть. И весь дальнейший разговор на этом действии!
Вероятно, за давностью лет я что‑то упустил, но суть в том, что Георгий Александрович увидел не мог не увидеть внутреннюю жизнь моего Людовика и понял, что можно показать ее ярче, легче, нагляднее. Воспользовался и тем, что на показе я был, видимо, скован, и, намеренно незаслуженно раскритиковав меня, решил, опираясь на сделанное нами с Сережей, одновременно и помочь мне, предложив простые, но яркие «приспособления», и что греха таить показать «класс настоящей режиссуры» И когда благодаря его предложениям сцена легко «пошла», ибо суть‑то была найдена, удовлетворенно засопел:
Вот!! Вот тэпэрь я понимаю, что такое король! Как кошка легкой лапкой с мышкой играет! Вот‑вот!! Понимаэтэ?..
И больше не приходил.
Огонек «Мальборо» в темном зале и радостное сопение. Было ли это лукавством? Несомненно. Ревностью?
Так ли назвать это чувство главрежа к собственному артисту, неожиданно врывающемуся в святая святых в режиссуру на сцене его театра? Возникло ли детское, по сути, желание показать, кто есть кто? Или все это произошло интуитивно? Не знаю. Только доля лукавства здесь была Знаю, что Сергею все это было неприятно, так же как и то, что так легко и радостно ухватился я за предложенную Гогой преувеличенно ласковую интонацию короля, и за куриную ножку, и за засаленные пальчики.
А что было делать? И спектакль, и я от всего этого только выиграли. Но чувство какой‑то вины перед Сергеем не оставляло меня очень долго, хотя по детальном рассмотрении никакой вины и предательства не было. Людовик XIV любимейшая моя роль. Тиран с изумрудными глазами, ласково, мягко играющий со своею жертвой.
Сколько лет прошло с тех пор? Но вспомнил об этом и защемило сердце. Тяжелое это чувство, ностальгия. Надо бы смотреть вперед и забыть о прошлом! Да вот не забывается. И кроме благодарности, вспоминая наши муки на «Мольере», я ничего не испытываю
Ненужное размышление
Конец июля. Дача в Репино, бывшей Куоккале. Солнце, ветер, брызги дождя все, как и полагается на берегу северного моря.
Соседу слева пилят гранитные плиты. С визгом вгрызается «болгарка» в каменную твердь выстилает дорожки, облизывает балконы. Справа отбойными молотками рушат дом. Прежним хозяином громадный двухэтажный дом был сложен на славу, кирпич в четыре ряда на цементе с трудом поддается. Дружная работа идет с утра до вечера. Грохот и визг сотрясают округу симфония строительства новой России. От грохота и визга отмирают клетки головного мозга. Жить стало лучше, жить стало веселее.
Мы с внучкой уходим в лес, подальше, в тишину. В лесу, захламленном бумажками, окурками, пустыми проржавевшими банками и битым стеклом, кое‑где стоят еще дореволюционные дома.
Старые бревенчатые дачи, окна в резных наличниках. Башенки с шестом для флага. Окна выбиты, обшивка содрана. Оставшиеся доски пола сгнили. Террасы, некогда в цветных стеклах, изуродованы, загажены. Рядом с одной из старых дач столетний кедр, явно посаженный бывшим хозяином, и лиственница высоченная. Они еле различимы из‑за сорняков, кустов бузины, прутьев осины, ольхи.
Шла когда‑то здесь своя дачная жизнь, дымил самовар, по песчаным дорожкам бегали дети, звучал рояль В Куоккалу хотел переехать профессор Серебряков, желая купить «маленький домик в Финляндии». Здесь жили Чуковский, Гиппиус, Андреев, Мережковский, Репин, Шаляпин, Горький, Маяковский, ходили друг к другу в гости, спорили, играли в шарады, посещали местный театр а их было два. Революция и советская власть разрушили все, и вот теперь на этих милых кому‑то когда‑то местах строится новая Русь, за невиданные миллионы, из дорогущих материалов.
Среди зарослей лопухов и бузины сохранились еще полусгнившие будочки ленинградского «Дачного треста». В них без канализации, без водопровода еще кое‑как ютятся дачники: ржавая детская коляска в траве, хромой столик, белье болтается на веревках.
А рядом шикарные каменные особняки: гранит, бетон, стекло, высоченные заборы, автоматически открывающиеся ворота, выстеленные ровными кирпичиками дорожки, дорогие машины, будки охраны, изумрудные газоны.
И строятся новые дворцы, по еще более шикарным проектам, за еще более высокими заборами. Завывают электропилы, гудят бетономешалки, сизые выхлопы многотонных грузовиков отравляют округу Возникает новая, непонятная ленинградцам, арендующим гнилые дачные домики, жизнь, в которую невозможно вписаться, да и незачем. И выглядывают они из зарослей бузины и лопухов, старые и молодые, но уже не нужные никому люди. Бывшие наши зрители
Моя лучшая роль
В начале семидесятых я проводил июль в Москве, с мамой. В один из дней пошел посмотреть матч «Крылья Советов» «Торпедо» и уже на стадионе вспомнил, что сегодня в любимом моем МХАТе премьера спектакля «Последние» по пьесе Горького. Постановка Олега Ефремова, нынешнего главного режиссера, который перешел сюда из «Современника», а с ним и Женька Евстигнеев, и Виктор Сергачев, и другие.
Многого мы ждали от Ефремова ведь создал же он прекрасный театр‑студию «Современник», где большинство спектаклей пронизаны были невиданным доселе чувством правды!
Мчусь в проезд Художественного театра, к любимой моей Чайке! У театра толпа народу, автомобили Ну, ясно премьера! Протискиваюсь к окошечку администратора, прошу место, нажимая на то, что работаю в прославленном БДТ. Но мест нет. Как быть? Бегу к актерскому входу под голубкинской «Волной», вхожу внутрь, поднимаюсь по лестнице, сажусь на шехтелевскую скамеечку. Жду. Кого‑нибудь.
Оливковые стены. Завитки. С потолка свисает огромный стеклянный фонарь. Торжественно и тихо. Отворяется дверь с улицы, тяжело брякают медные кольца. Входит Борис Николаевич Ливанов! Встаю, робко прошу его провести меня в зрительный зал.
А кто вы?!
Объясняю: Студия МХАТ Товстоногов мечтаю
Идем! и бросает дежурному: Это со мной!
Я не осмелился напомнить Ливанову, что однажды, в бытность мою студийцем, в страшный день похорон Сталина мы столкнулись с ним у входа в Студию. Я шел из Колонного зала, где стоял гроб, и Ливанов вдруг спросил, не оттуда ли я. Получив утвердительный ответ, спросил: «А как вы попали туда? Неужели отстояли много часов в очереди?» «Да нет, Борис Николаевич, я показал студенческий билет охране, дескать, мне надо пересечь очередь, пройти на Покровку. Меня пустили, и я, минуя кордон, втиснулся в очередь и через полчаса был уже в зале. Вы покажите удостоверение МХАТа и сделайте то же, что и я!» «Спасибо! Я давно мечтал взглянуть на Сталина в гробу!» прорычал Ливанов и исчез в толпе.
Но об этом я не напоминаю. Ливанов проводит меня в зал, сажает рядом с собой. Матовые кубики медленно меркнут. Светится занавес с Чайкой, раздвигается.
«Почему вы всегда ходите в черном?» «Это траур по моей жизни » Мать честная! Да это «Чайка»!! Чеховская «Чайка» в постановке Ливанова!! Да я же уже видел этот спектакль!! Как же это Ну да, «Последние», наверное в филиале. Что делать? Не могу же я сказать Ливанову, режиссеру спектакля: «Извините, я ошибся», и убежать!! А мама? Я же на футбол пошел, она ждет меня, будет волноваться. В антракте надо позвонить домой! К‑7‑83‑35. Да нет, у нас же недавно изменили номер!
Не помню новый номер!! Как это? Двести девять Нет! Девяносто девять? Нет!!
«Люди, львы, орлы и куропатки »
Девяносто два? Да, девяносто два сорок нет! тридцать Нет! Забыл! Забыл!!
Ливанов поворачивается ко мне, приобнимает и кивает на сцену: ну, как, дескать, здорово, да?!
Я изображаю лицом восторг и неотрывное внимание к сцене.
Девяносто сорок два Забыл! Забыл напрочь!!!
Да, это была моя лучшая в жизни роль роль зрителя, околдованного великим искусством, целиком и полностью поглощенного событиями на сцене! Я первым смеялся, первым начинал аплодировать, понимающе улыбался Борису Николаевичу, когда он, проверяя себя, поворачивался ко мне за поддержкой как режиссер ну, дескать, как, а?!
А я мимически отвечал: не то слово! Прекрасно! Но не мешайте! Не мешайте наслаждаться!! ( сорок один девяносто Забыл!)
А спектакль‑то был неплохой. Крепкий, я бы сказал. Степанова, Стриженов Все хороши, органичны, правдивы. И вдруг вспыхнуло яркое солнце, запахло сеном, лошадьми, потом: это появился на сцене Шамраев, управляющий усадьбой, Михаил Пантелеймонович Болдуман!! Он вынес на сцену точную атмосферу конца жаркого лета: уборки урожая, хруста скошенной стерни под ногами; это не была блестяще сыгранная роль, это был живой, абсолютно живой человек, жаждущий поскорее утолить жажду, перекинуться парой‑тройкой фраз с хозяевами и опять туда, в пекло жатвы!! «Браво, Си‑и‑и‑ль‑ва!!» прохрипел он и ушел. И жаркое небо опять стало голубым задником.
Спектакль окончен. Занавес с Чайкой несколько раз раздвинулся, открывая кланяющихся актеров. Аплодисменты. Я, естественно, стоя рядом с Ливановым, перестал хлопать последним. Зрители потянулись к выходам. В старом МХАТе были проблемы с гардеробом, поэтому часть зрителей задержалась в зале.
Ливанов, стоя у своего кресла, разговаривает с какой‑то дамой, я, естественно, жду окончания этого разговора, чтобы поблагодарить и уйти. Пользуюсь паузой в их разговоре:
Спасибо огромное, Борис Николаевич, я получил большое удовольствие замечательный спектакль!
Приятно. А что у вас? Как Товстоногов?
Что‑то говорю о Товстоногове, о последних премьерах и заканчиваю вопросом:
А как Ефремов? Над чем сейчас работает?
И вдруг (Боже, боже опять это «вдруг!») Ливанов застывает. Становится выше ростом. И тихо, бархатно:
Я не знаю
Затем чуть повыше:
И не желаю знать! (Цензура по всем законам речи.)
И теперь уже громче, и еще на полтона повыше:
Что делает в театре этот
И, наконец, после небольшой паузы, с басовитым шумом набрав полные легкие мхатовского воздуха, во всю мощь неподражаемого ливановского голоса:
Ба‑а‑а‑ан‑дит!!
Эхо по полупустому залу с шехтелевскими узорами: а‑а‑а‑нди‑и‑и . а‑н‑ди‑и‑и
Публика, словно черти в гоголевском «Вие», застряла в дверях.
Я тихо кланяюсь и ухожу на цыпочках. Ливанов стоит, выпрямившись во весь свой гигантский рост. И смотрит вдаль.
Недавно видел старый кинофильм «Степень риска» с Ливановым в главной роли кардиохирурга. Вот оно величайшее творение великого мастера.
Не знаю, как определить. Все на самом деле. Никакой «игры». Никакого «великого хирурга». Грандиозная личность, мастер медицины, живой человек во всех проявлениях. Вот он тот самый, подлинный, настоящий Художественный театр, его «мужественная простота». И вспомнил Болдумана в ливановской «Чайке» та же недостижимая высота мхатовской простоты. Никогда мне так не сыграть. Да и всем нам. Кишка тонка.
* * *
Товстоногов выращивал актеров. Расширял их возможности. Раскрывал их талант с совершенно неожиданных сторон, поручая актерам роли на первый взгляд совершенно не свойственного им амплуа.
Взять хотя бы Стржельчика холеного красавца, казалось бы, созданного природой для пьес «плаща и шпаги». Товстоногов открыл для него блистательную перспективу характерного актера вспомним его древнего старца в «Цене»
Мне, например, поручал роли самых удаленных друг от друга амплуа от Андрея в «Трех сестрах» до Джингля в «Пиквикском клубе», от дяди Вани и Вика в «Цене» до Хлестакова и Простого человека в «Энергичных людях». И так со многими.
Был нетерпим. Одного нашего артиста, введенного на роль князя Мышкина после ухода Смоктуновского, Гога встретил перед спектаклем у доски расписания и учуял легкий водочный душок. Тот объяснил, что сегодня день его рождения и за два часа до ухода в театр его заставили выпить пятьдесят грамм водки. «A‑а ну хорошо гримируйтесь » Артист загримировался, а после третьего звонка перед занавесом вышел главный администратор и заявил, что ввиду болезни артиста, исполнителя роли Мышкина, спектакль отменяется, деньги за билет можно получить в кассе. А на доске расписания появился приказ об увольнении этого артиста. Чтоб неповадно всем остальным было. Только спустя год Игорь (так звали артиста) вновь работал в БДТ.
Товстоногов любил пройтись по закулисью, проверить, все ли в порядке. Он часто собирал рабочих сцены, осветителей, электриков, костюмеров, бутафоров, пытаясь заразить их магией театра, объяснить их важную роль в создании спектаклей. И добился своего: у нас в те времена были лучшие в стране «цеха». И до сих пор держат марку.
На стенах, за кулисами изречения деятелей русского театра, они были подобраны самим Гогой. Вот одно из сохранившихся: «Что же самое главное в нашем театральном сегодня? Прежде всего мужественная простота. Немирович‑Данченко».
В знаменитые «среды» он собирал всю труппу и делился с нами своими мыслями о театре, рассказывал об увиденном в поездках.
Зорьян Сергеевич Троян, инспектор сцены, невысокий, жилистый на цыпочках подлетел ко мне, молодому артисту, наблюдающему из‑за кулис во время спектакля за игрой артистов, и, ни слова не говоря, выволок со сцены. Потом, уже за железной дверью, объяснил, что Товстоногов строжайше запретил находиться на сцене во время спектакля кому бы то ни было, кроме занятых в действии. «Вас могут увидеть. Это может помешать самочувствию актера, находящегося на сцене!!! Ни‑ни! Никогда! Запомните!! Товстоногов запретил!»
Или вот:
«Вы можете быть абсолютно уверены в том, что никогда больше не будете заняты в каком‑либо спектакле БДТ. Уволить вас я не имею права, но гарантирую полное отсутствие работы. Советую вам уйти добровольно в другой театр. Например, в Пушкинский. Я поговорю с Горбачевым». Эту тираду Гога произнес в адрес актера М. в Будапеште, на гастролях, собрав всю труппу в восемь утра в своем гостиничном номере. Артист М. накануне публично позволил себе ряд антисемитских высказываний. «А сейчас, заключил Товстоногов, идите в номер и собирайте вещи. Ваш самолет в Москву вылетает через несколько часов. Рэпэтиция по срочному вводу в одиннадцать утра». А ведь это были годы, когда антисемитизм был чуть ли не государственной политикой.
Однажды он, собрав труппу, заявил, что думает об уходе из театра. Потому что ему нестерпимо стыдно работать с людьми, которых не волнует чужая беда. «Вы равнодушно взираете на то, как на ваших глазах гибнет ваш товарищ! Это не по‑человечески!» Артист, о котором шла речь, хороший, добрый человек, не выдержав серьезных личных неприятностей, стал пить. И пить по‑черному. Конечно, после слов Товстоногова бросились помогать ему
Товстоногов строил и создал театр единомышленников, охваченных общим пониманием высочайшего предназначения театрального искусства, общим миропониманием Уроками становились и спектакли, и репетиции, где Товстоногов пытался найти правду ту, единственную, свойственную только этому автору, неповторимую, и донести ее до зрителя.
Часто это получалось. Иногда нет.
Последние несколько лет Товстоногова были омрачены болезнью. Курение, непрерывное курение «Мальборо» сказалось, прежде всего, на ногах. Помню, прилетели мы во второй раз в Японию. Прошли паспортный и таможенный контроль, получили багаж. Выходим в длинный коридор, в конце которого стоят встречающие продюсер, представители театров Токио, члены «Общества любителей БДТ» Навстречу нам они двигаться не могут: красная полоса на полу. Идем мы. Впереди Товстоногов. Коридор длинный, метров сто. Эти сто метров мы одолевали минут за тридцать так медленно шел Георгий Александрович. Мы толпой следовали за ним, естественно, с той же скоростью.
Товстоногов слабел, работать как прежде уже не мог не было сил. Последним его шедевром стал спектакль «История лошади» по повести Льва Николаевича Толстого «Холстомер».
Марк Розовский, автор идеи и инсценировки, поставил первый акт, который очень понравился Георгию Александровичу. Начали репетировать с Марком второй акт не идет, хоть умри! Здесь у Марка, в отличие от первого акта, было напридумано много того, чего нет у Толстого. Мы ходили к Гоге, умоляли помочь. Он долго не соглашался.
Много было споров, скандалов по поводу «Истории лошади». Розовский даже выпустил книгу «Дело о конокрадстве», обвинив Товстоногова в присвоении чужой работы.
Марк, о чем ты?? Гога построил самостоятельно второй акт, убрав все то, что тормозило работу, вернулся к Толстому. В первый акт, который оставил почти без изменений, вдохнул то, что и есть искусство, атмосферу, плавно перетекающую из одного места действия в другое, вдруг меняющуюся в зависимости от нового события. Вдохнул жизнь. И второй акт стал развиваться по новым законам, возникшим в первом акте.
Представьте, я нарисовал маслом картину. И неплохо. И тут подходит, допустим, Эль Греко, и двумя‑тремя штрихами превращает мою неплохую картину в подлинный шедевр, за которым охотятся все музеи мира Кто автор?
На афише спектакля значилось: «История лошади. Автор пьесы Розовский. Режиссер Розовский. Автор музыки Розовский. Постановка Товстоногова». Все справедливо, по‑моему
Кстати, Гога, когда работал со вторым режиссером, позволив ему разработать досконально первый акт (с Сиротой, например), приходил и, отталкиваясь от уже сделанного, почти все меняя, превращал хороший спектакль в шедевр так было с «Пятью вечерами», «Варварами», «Мещанами», «Беспокойной старостью»
Самой последней его работой стал спектакль «На дне».
Начал бодро. Собрал нас всех, исполнителей, у себя в кабинете, увлекательно говорил о пьесе, поручил каждому продумать и написать биографию своего героя и после возвращения из Америки (куда он уезжал на медицинское обследование) обещал сразу же, в декорациях начать репетиции. Приехал чернее тучи. Врачи предсказали ему смерть через полгода, если не бросит курить. Бросил. Терпел. На это уходили все силы. Держался.
Начали репетировать пьесу. Товстоногов не давал почти никаких указаний. Я как‑то обратился к нему с вопросом: откуда лучше появиться моему Барону из двери под лестницей или сверху, с улицы? Последовал ответ: «Какая разница, Олэг »
К концу репетиций, плюнув на запрет, опять закурил, опять появился огонек в темноте зрительного зала. Но было уже поздно.
Спектакль вышел средний. А ведь Гога годами мечтал об этой пьесе!! Рассказывал, как видит ее начало: на гигантской лестнице, в полумраке видны кучи мусора, тряпья, постепенно оживающие, начинающие что‑то говорить
Ничего подобного не было.
После премьеры я спросил, есть ли у него режиссерские претензии ко мне как исполнителю роли Барона.
Нет, Олэг Все мои претензии к самому сэбэ
Последний спектакль БДТ при жизни Товстоногова пьеса Дюрренмата «Визит старой дамы», в постановке Владимира Воробьева. Он очень интересно, на мой взгляд, выстроил спектакль. Пьеса довольно условна и схематична. И нельзя было играть ее бытово. Мне был очень интересен мой герой Илл человек, зависящий от мнения окружающих, от семьи, вечно погруженный в заботы о своем магазинчике, за всю жизнь ни разу не увидевший красоты неба, солнца, деревьев, кроме краткой поры в давней юности, когда любил свою Клару, предавший эту любовь, навсегда погрузясь во тьму обыденности, как он сейчас, когда страх близкой смерти освобождает его от этой обыденности, от мелких забот, от зависимости, вдруг начинает видеть солнечную листву на деревьях, слепящую синеву неба И чем ближе смерть, тем радостнее его открытие блистающего мира вокруг него, тем удивительнее окружающая красота!! И, умирая, он словно погружается в свою юность, в дни своей любви
Товстоногов посмотрел генеральную репетицию. По окончании собрал всех нас в зале. Очень похвалил Воробьева за режиссуру и общее построение спектакля. Обратясь к нам ко мне и к Вале Ковель, играющей роль Клары, сказал:
Понимаете, какая история Как говорится, гарнир есть, а зайца нет. Олэг я не согласен с вами. Человек до последней минуты боится смерти. До последней секунды! Какое уж там просветление
Я сказал, что поскольку мы свободно владеем материалом, то, если б он пришел к нам еще раз на хотя бы одну репетицию, хотя бы часа на два, помог, то все наладилось бы.
Олэг Я бы рад прийти помочь. Но у меня больше нет сил. Понимаете, нет сил
И тут он двумя смуглыми ладонями, начиная со лба, провел по голове, пытаясь пригладить волосы со лба до затылка, повторив жест моей мамы, когда они с папой в страшном 1941 году приняли решение об эвакуации.
Георгий Александрович настоял, что сегодня он сам поведет свой «Мерседес». Обычно его возил театральный шофер. Сейчас он посадил шофера рядом. Все стояли на крыльце, провожая его. Гога сел за руль, открыл окно, махнув рукой, произнес: «Прощайте!» и уехал.
Мы с приятелем пошли ко мне. Спустя какое‑то время приятель позвонил Гоге. Подошла его сестра Натэлла. Сказала, что Гоге стало плохо по дороге и его увезли в больницу.
В панике я звоню в приемный покой больницы и спрашиваю, не привозили ли Товстоногова. И слышу в ответ:
Привозили?! Да Привозили Труп привозили
В тот страшный день мы собрались в квартире Лебедева‑Товстоногова
Галя настаивала, чтоб Георгия Александровича похоронили на кладбище Александро‑Невской лавры, в Питерском пантеоне. Мы с ней отправились к тогдашнему первому секретарю Ленинградского обкома КПСС Соловьеву, и он поддержал нашу инициативу.
Гроб стоял на сцене БДТ, заваленный цветами. Непрерывной цепью шли люди. Выносили Георгия Александровича со сцены, через зрительный зал, по тому самому проходу, где раньше всегда во время репетиций во тьме мерцал красный огонек его сигареты.
Через несколько дней члены Художественного совета театра, растерянные и поникшие, собрались в кабинете директора и приняли мое предложение переименовать БДТ имени Горького в БДТ имени Товстоногова
Вот и все.
Товстоногов ушел.
Из славного триумвирата Товстоногов Сирота Шварц осталась одна Дина Морисовна. Маленькая, черненькая, после Гогиной смерти сразу же постаревшая Еще бы: буквально вся ее жизнь это Большой Драматический театр, поиски пьес, работа с авторами.
В ее заваленный до потолка рукописями и папками кабинетик с маленьким окошечком, заклеенным пленкой «под витраж» (привезено из каких‑то давних гастролей), так приятно было входить, особенно в дни мучительных репетиционных неудач! Она подвинет маленькую медную пепельницу сама курила почти непрерывно, успокоит: дескать, все очень хорошо у вас получается. И появляется надежда, и откладываешь на какое‑то время капитуляцию перед ролью, и глядишь, что‑то начинает получаться.
Но главное у Дины было совсем другое! Многое появившееся на сцене БДТ плоды ее усилий, плоды ее понимания современной жизни, запросов зрительного зала и невысказанных, но ощущаемых ею желаний ее шефа, ее бога обожаемого ею Гоги.
Она сломила ожесточенное сопротивление Товстоногова и заставила его принять к постановке повесть Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы» и, несмотря на гневные филиппики Георгия Александровича («Дина, что з вами?!! Это же не пьеса, это повэсть!»), засела вместе с Тендряковым за создание инсценировки. И вот вам очередной шедевр Товстоногова.
Дина Морисовна Шварц была автором идеи инсценировать и поставить «Тихий Дон» и осуществила адаптацию романа для сцены.
Поражала ее детская, чудовищная наивность и вера во всю ерунду, которую, подшучивая, иногда сообщали ей актеры.
Да и Гога в этом отношении недалеко ушел. Однажды в Токио я приобрел себе электробритву, работающую не как наши, от электросети, а питающуюся от встроенного аккумулятора. Внешне моя покупка отдаленно напоминала микрофон: черная пластмасса, заканчивающаяся частой металлической сеткой.
Сижу в холле гостиницы, показываю Мише Волкову свое приобретение. Подходит Гога.
Олэг, что это у вас?
Электробритва, Георгий Александрович.
И что, хорошо бреет?
Отлично! Кроме того, это ведь не только бритва, но еще и магнитофон со встроенным микрофоном.
Как?! Зачем вам это?
Ну как же! Вот, допустим, бреетесь вы утром, да? Бреетесь, бреетесь, и вдруг вам в голову приходит мысль: а не поручить ли, допустим, роль Гамлета Басилашвили?
В другое время вы бы бросились к письменному столу, к бумаге и карандашу, чтоб запечатлеть эту счастливую мысль, чтоб не забыть! А тут просто: бреетесь, нажимаете кнопку и говорите вслух: «Гамлет Басилашвили», и готово .
Это вэдь очень удобно, действительно! А ну‑ка, продемонстрируйте!
Не могу: пленка у меня в номере, не получится.
Включается Волков:
Олег, а лопасти тоже ты в номере оставил?
Я чувствую грандиозность розыгрыша.
Да, и лопасти в номере.
Какие лопасти?!!
Волков:
Воздушные. Они подключаются к бритве‑магнитофону и
Теперь я:
Вы включаете кнопку, лопасти вращаются
И?!
И поднимают магнитофон и вас вместе с ним в воздух
Как?! Действительно?!!
Да! Вы открываете окно и, держась за бритву, летите над Невой, над Фонтанкой, бреетесь и одновременно кричите: «Гамлет Басилашвили! Гамлет Басилашвили!» Представляете, какая экономия времени!!!
Напряженная пауза. И наконец резюме:
Олэг, с вами невозможно разговаривать!
Но не уходит. Не обижается.
Вот и Дина так же.
В том же Токио группа артистов и рабочих сцены совершила совместную покупку у Ежика (владелец магазина на Акихабаре стрижен был «под ежик», отсюда и прозвище), чтобы получить скидку, вот и собрались все вместе. Сидим в автобусе, счастливые: еще бы! куплены телевизоры цветные, видеомагнитофоны и утюги (у нас попробуй достань!). На ящике, куда упакован телевизор, надпись «42 Inch». Это значит, что диагональ экрана 42 дюйма. Большой экран, больше, чем у нашего «Рубина».
Сидим: Дина, рядом с ней я, впереди Миша Данилов. Данилов спрашивает:
Олег, ты линзу купил?
Я, в предкушении:
А как же!
Вступает Дина:
Какую линзу?
Миша:
Линзу для телевизора. Увеличительную.
Зачем?
Ну как же! Экран‑то ведь крохотный, у них здесь, в Японии, все крохотное, так их экран меньше нашего КВНа. Берете линзу, заливаете внутрь нее спирт, ну, можно водку, ставите ее перед экраном, изображение немного увеличивается, можно кое‑что разглядеть.
Как! Ведь 42 инч!
Так это ящик, тара для телевизора 42 инч, понимаете? Тара! Вся упаковка!
Боже, а я не купила линзу!..
Торопитесь! Да, и еще доску гладильную для утюга!
Какую доску?! Зачем?!!
Повторяю. Доску. Гладильную. Для утюга. Ну, гладите, к примеру, брюки.
У меня нет мужа, Миша, вы не знаете?
Ну, кофточку, допустим. Ставите на доску утюг, включаете, задаете программу, и утюг самостоятельно ездит по кофточке и гладит ее. А вы в это время сквозь линзу с водкой стараетесь разглядеть, что там на сорока двух инчах показывают. Японская техника! Двадцать второй век!!
Бедная Дина бледнеет, привстает с автобусного кресла, хочет бежать и покупать недостающее.
Приходится усаживать ее, объяснять, что мы врали немилосердно, что это розыгрыш, и просить прощения.
Дураки! Боже, какие дураки!..
Эта наивность не мешала, а может быть, и помогала ей быть мудрой в подборе пьес, в работе с авторами, в умении отказать, когда это необходимо, не обидев автора.
Вампилов ее открытие для театра.
С утра до ночи в ее кабинетике, как ни войдешь, дым коромыслом: очки, сигарета, пепел, рукопись перед нею, да не одна, не видно ее за штабелями папок, бумаг, книг.
Талант ее в истовой любви к театру, к актерам, литературе. В святой вере в необходимость театрального процесса и его главенства надо всем, что мы называем жизнью.
В преданности своему театру‑дому. Товстоногову.
Вот так они жили и работали вместе! Шварц находила достойный и необходимый здесь и сейчас литературный материал, Товстоногов заражал всех своим видением окончательного результата, Сирота кропотливо и настойчиво помогала актерам органично зажить в предлагаемых обстоятельствах пьесы и будущего спектакля, и, наконец, Товстоногов и объединял все в одно: пьесу, работу актеров, художника, осветителей и добивался воплощения той «картинки», которая виделась ему вначале, придавал ей объем, плотность, яркость.
Последней из триумвирата ушла Шварц.
С ее уходом закончилось явление, которое называлось БДТ имени Горького.
Хочу похвастаться
Не могу удержаться. А надо бы. Может быть, вымараю эту главку, а может быть, нет.
В Ленинграде гастролировал знаменитый театр «Арена‑стэйдж» из США. Привезли американцы «Наш городок» Т. Уайлдера, поразивший всех нас. Мы познакомились и подружились с американскими актерами, приглашали к нам на спектакли.
Однажды после «Ревизора» собрались в кабинете Товстоногова. Режиссер «Арена‑стэйдж» мистер Алан, чудесный молодой парень с широкой белозубой улыбкой, сказал, обращаясь ко мне: «Ви клоун!» Внутренне я содрогнулся, хотя виду не показал: ведь слова «клоун», «цирк» в применении к драматическому актеру, по нашим понятиям, звучат оскорбительно! Виду я не показал, но только ответил: жаль, что он не увидел того‑сего в моем Хлестакове. А он говорит: «Что вы! Все я увидел! Но все это было уморительно смешно. Как у Чаплина. Слышали о таком? Очень смешно и грустно!! Он клоун! Это высочайшее звание для актера! Так вот вы клоун!!»
Не скрою, если Алан был искренен, лучшего комплимента в свой адрес я не слышал!
БДТ на гастролях в Риме. Привезли и «Дядю Ваню».
У меня жесткое расписание: встаю в 7.30, делаю легкую зарядку. Спускаюсь вниз, в ресторан. Континентальный завтрак состоит из чая, к которому дают булочку, немного масла, немного повидла и кусочек сыра. Все. Маловато. Поэтому все наливают себя чаем, чтобы почувствовать сытость.
Закуриваю «Беломор» и на улицу Корсо. Надо посмотреть все, поэтому в десять утра я уже в городе. До обеда у меня три свободных часа. План на сегодня Пантеон. Рим город маленький, поэтому всюду хожу пешком. Да и денег
Вот он, Пантеон. Удивительное сооружение!! Стою, глазею.
Извините, с сильным акцентом, но по‑русски обращается ко мне невысокий мужчина в очках. Вы артист, не так ли?
Отвечаю, что да, я артист из СССР, здесь на гастролях. Мужчина говорит, что видел «Дядю Ваню», когда мы были на фестивале в Эдинбурге, что это было «незабываемое впечатление»; узнав, что БДТ в Риме, он прилетел из Англии, взяв с собой шесть человек друзей, «чтоб и они могли увидеть вас». Далее последовала английская речь, из которой я понимал только «best actor», «Im very glad to see you on the stage today» (лучший актер; буду счастлив еще раз увидеть на сцене сегодня). Я: сеньк ю! сеньк ю! а сам думаю, не аферист ли какой, сейчас чего‑нибудь попросит, объегорит: итальянцы, они ведь такие Хотя он англичанин. Нет, мужчина в очках, закончив монолог, протянул мне руку, пожал, поклонился и ушел.
И тут обдало меня жаркой волной счастья никакой он не аферист, просто зритель, которому понравился мой дядя Ваня. Так понравился, что он прилетел в Рим, чтоб еще раз увидеть спектакль. Как мне было приятно, как я был счастлив! Счастливым вошел в грандиозную пустоту Пантеона, счастливым вышел на солнечную Корсо, поднялся к себе в номер ровно в час, достал из чемодана крохотную лабораторную электроплитку, поставил на нее кастрюльку с «макаронами по‑флотски» из пакета, кипятильник опустил в чайник, поел. На это ушел час. И спать. До четырех. Вечером «Дядя Ваня» в помещении «Театро Арджентино». Вот оно, счастье!
Вечером играю «Дядю Ваню». Играю плохо. На редкость. Как ни старался.
Испания, Барселона. На бульваре Рамбле клетки с попугаями, яркая толпа, цветы, цветы Сплошное разноцветье попугаи зеленые с красными носами, красные, желтые, цветы вся радуга, солнце, смех, музыка. В уголку плотно сгрудились советские туристы, узнаю их по прическам «хала» у женщин, мужчины в черных костюмах, при галстуках. Лица райкомовские. Стоят спина к спине, готовы отразить любое нападение. Подхожу. Напряглись. Спрашиваю, показывая на блистающий красотой бульвар: «Ну, как вам Барселона?» Тяжкая пауза. Наконец одна женщина с химической завивкой, набравшись мужества, снисходительно бросает: «А! Пусть живут!»
Разрешили пожить, значит. И на том спасибо.
Но я о «Дяде Ване».
Путь мой на бульвар Рамбле был не просто прогулкой. Я хотел купить в одном из шикарных магазинов, расположенных вдоль бульвара, кожаную куртку. Испанская кожа блеск! Или, как теперь говорят, клёво, блин!
Захожу в магазин. Дразнящий запах новой кожи. Вот они куртки всех цветов, фасонов, пиджаки, брюки. Объясняю молодому продавцу, как могу: «Май сайз фифти фор, плиз». Парень приносит несколько. Меряю как‑то не то. Одна коротковата, на другой кожа грубовата, третья ой, мама! дико дорого стоит, но хороша, зараза! Но у меня же Оля, Ксюша, Галя с этой курткой моих суточных на все не хватит!
Подходят наши артисты в робкой надежде на скидку, если купят сразу пятеро.
Я перед зеркалом пытаюсь решить неразрешимое. «Берите, берите! это наши, с тоской в глазах. Хорошая куртка! Кофе с молоком! Кожа словно шелк!»
Вдруг парень‑приказчик прекращает суету. Что‑то быстро говорит по‑испански, что‑то спрашивает. «Русьо?» и пальцем на нас. Я ему: «Ай эм но андерстенд», дескать, не понимаю. Думая, что я говорю по‑английски, он начинает коряво строить английские фразы: «Руссо? Ваниа? Ваниа?» улавливаю я. Артисты наши: «Йес, йес, зис из диадиа Ваниа», и пальцем в меня тычут. Общими усилиями переводим его речь на русский язык. Оказывается, вчера ночью, поздно, часа в два, его разбудил приятель, который не спал. Не мог он заснуть потому, что был на спектакле советского театра, смотрел «Дядю Ваню».
Приказчик берет телефонную трубку, звонит приятелю. Объясняет ему, видимо, что вот, дескать, здесь артист твой дядя Ваня. Кладет трубку на рычаг, и мы, поднапрягшись, понимаем, что приятель продавца не может прийти, что он на работе. Но в знак благодарности и восхищения он дарит мне куртку, которую я выберу. Я, трепеща, выбираю. «Пли‑из», говорит продавец, свистя кожей и шелковой подкладкой, шурша невиданным доселе пластиковым пакетом с яркой надписью. Мы жмем друг другу руки. Я опять счастлив! Причем вдвойне!! И за Ивана Петровича Войницкого, и за себя счастливого обладателя красивой куртки, и за детей и Галю, которым могу теперь купить подарки подороже.
Усталые, но довольные, покидаем мы магазин. «А теперь, Олег Валерьяныч, бегом! А то он передумает!» это Генка Богачев, мерзавец!
Были мы с «Дядей Ваней» и в Индии.
Гастроли наши проходили в январе. В Калькутте влажная жара градусов под сорок. Баня. Ходим мокрые среди банановых пальм, слонов и обезьян, среди груд кокосов, моемся красным мылом «ред соап» от жутких микробов, по сорок минут кипятим воду, боясь подцепить что‑то страшное. И вот я, сварив на лабораторной электроплитке дежурные «макароны по‑флотски», запив их крепким чаем, провалявшись в липком бредовом сне два часа, играю «Дядю Ваню». Надо ли объяснять, какая это мука лицо заклеено бородой, усами, пот щиплет, все отклеивается, но надо играть, и играть верно, по крайней мере! В темноте зала анилиново светятся разноцветные сари, белые одежды мужчин.
Второй акт. Ночь. Дядя Ваня, пытаясь обнять и поцеловать Елену, получает отпор. «Это противно, наконец!» говорит она и уходит. Он опускается на скамеечку. За окном ночной обвальный дождь, ливень, гроза!
Пьяный дядя Ваня громко разговаривает сам с собой: «Ушла Десять лет назад я встречал ее у покойной сестры Отчего я тогда не влюбился в нее?.. И была бы она теперь моею женой Она испугалась бы грома а я держал бы ее в своих объятиях и шептал: Не бойся, я здесь О, чудные мысли, как хорошо, я даже смеюсь »
Слезы текут из глаз моего дяди Вани, а он не замечает, улыбается.
И вдруг из расплавленного черного нутра зрительного зала гортанным басом со слезой раздается крик:
Нэ пладш!!
Не плачь, значит!
В спектакле «Копенгаген» по пьесе Майкла Фрейна, поставленном Темуром Чхеидзе, я играл Нильса Бора, великого физика.
В ходе действия Бор обращается к своему коллеге Гейзенбергу (речь идет о спуске с горы на лыжах) с такими словами:
«На той скорости, с которой спускался ты, тебе пришлось иметь дело с соотношением неопределенности. Если ты знал, когда был внизу, где находишься, то ты не знал, на какой ты скорости спускался. Если же ты знал, на какой скорости спускался, то ты не знал, что находится внизу!»
Я произносил этот текст, зазубрив его, очень приблизительно понимая, о чем идет речь. В роли Бора меня интересует прежде всего решение им нравственных проблем, отнюдь не физико‑математических.
Под эту тираду Бора я подкладывал упрек в торопливости, нетерпении в адрес Гейзенберга. Так и играл много раз.
Спектакль «Копенгаген» мы играли в Силиконовой долине.
Каково это, играть Нильса Бора «папы римского от физики», перед аудиторией, состоящей в том числе из лучших физиков мира? Но слушают хорошо, в зале стоит тишина.
И вот звучит вышеприведенная фраза. Когда я закончил говорить, неожиданно, как гром с небес, раздался взрыв хохота! Аплодисменты!!
Батюшки! Мы с Валерой Дегтярем (Гейзенберг) и Машей Лавровой (Маргарет) обалдели от неожиданности. Что ж тут смешного, товарищи? Это смешно? А мы и не знали Но, изобразив на лицах своих, что, дескать, знали, продолжили сцену.
После спектакля нам объяснили, что эта тирада образец парадоксальности могучего гения Бора. И что я очень точно передал эту парадоксальность. И что временами я даже похож на Бора. Я поверил на слово.
Заграница
Мы, советские люди, лишены были возможности посещать то пространство земного шара, которое располагалось за границей СССР.
Граница на замке! И редкие «представители общественности» были туда выпускаемы, в это пространство. Побывать «там» равносильно было путешествию на тот свет. Увидеть давно ушедших из нашей жизни людей.
На гастроли за границу выпускали только Госцирк и балеты Большого и Кировского театров. Несколько знаменитых артистов «предали Родину» и попросили политического убежища. За рубежом остались танцовщики Нуриев, Макарова, Барышников, Годунов, некоторые другие. Это, кстати, позволило весельчакам‑охальникам на доске, что висела у входа в ленинградское балетное училище на улице Росси, к словам «училище готовит балетных артистов для музыкальных театров Советского Союза» приписать «и для театров капиталистических стран». Эту добавку каждый день закрашивали, но наутро она появлялась снова. В результате доску убрали совсем.
Наш БДТ первым из драматических театров был выпущен на гастроли за границу. Сначала в Болгарию и Румынию, как в самые социалистические из всего социалистического лагеря. Затем в Польшу, ГДР, Чехословакию, Венгрию и в последнюю очередь в Югославию, ибо она была довольно условной соцстраной.
Сейчас невозможно представить себе чувства советского человека, впервые покинувшего пределы Родины, города которой украшали портреты членов ЦК КПСС и бесчисленные лозунги, славящие коммунистическую партию и советский народ. А советский народ видел только пустые прилавки магазинов и влачил убогое существование. Поэтому любая страна соцлагеря, где побольше было еды, одежды, электроприборов и многого другого, нам недоступного, казалась раем земным.
Но настоящий шок я испытал, когда однажды из Восточного Берлина попал в Берлин Западный. Когда увидел я сияние миллионов реклам, уму непостижимое изобилие магазинов, невиданное количество театральных афиш, клубов, кафе, ресторанов, тысячи блистающих автомобилей, первым моим желанием было повернуть быстренько обратно, в привычную серую атмосферу Восточной Германии: мамочка, я чужой на этом празднике жизни! И только совет одного уже поднаторевшего: «Прежде чем дезертировать, сосчитай до ста!» остановил меня, уже направлявшегося к поезду на Восточный Берлин. Я сосчитал до ста и осторожно зашагал в глубь этого непривычного и враждебного нам мира.
Шок, конечно, был, но несравним с тем, что испытали бы мы, окажись сразу где‑нибудь в Испании. Поэтому только после этих соцпрививок можно было в Финляндию, Швецию. А потом пошло‑поехало.
Болгария первая страна, куда было разрешено поехать на гастроли нашему БДТ.
Сам факт пересечения границы, вид вспаханной нейтральной полосы, блеск колючей проволоки, подозрительные взгляды таможенников (нельзя везти с собой больше тридцати рублей и литра спиртного!) и каменные лица пограничников, и вот он, новый, неизведанный мир, сразу опьянил нас. Пахнуло ветром неведомой свободы! Вот она, Болгария!
Встречали нас по‑царски. Завалили фруктами, бутылями с вином, дынями, дарили красивые подарки. И спектакли шли с огромным успехом, по всей Болгарии следовал за нашими автобусами кортеж с новыми друзьями, болгарскими актерами.
После наших северных серых будней эта страна показалась нам ярким праздничным раем с веселым, гостеприимным народом, друзьями, с которыми в свободные вечера мы сидели в уличных кафе (которых тогда не было в Союзе), пили замечательное вино. Каждый из нас благодаря искреннему гостеприимству чувствовал себя этакой столичной штучкой, словно Хлестаков, осыпаемый почестями перепуганных провинциалов. Все это дала нам милая, веселая Болгария
И когда на банкете в нашу честь в правительственной резиденции генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии товарищ Тодор Живков, напомнивший внешне моего студийного преподавателя Александра Сергеевича Поля и по цепочке ассоциаций Понтия Пилата, встав из‑за перегруженного невиданными яствами стола, подняв бокал, провозгласил здравицу и заявил, что болгарское правительство хочет обратиться с просьбой в Кремль о принятии Болгарии в состав Союза ССР, наш артист H. H. Дмитриев, рванувшись со стула и в отчаянии замахав на Живкова руками, в ужасе закричал: «Упаси вас бог!!!»
Вот страны, где играл спектакли БДТ: Болгария, Румыния, Польша, Германия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Швеция, Финляндия, Франция, Англия, Япония, Италия, Индия, Испания, Швейцария, Греция, Китай (Тайвань), Аргентина, Австрия, Израиль.
Перед каждым выездом участников гастролей вызывали в райком, где опытные партийцы проверяли лояльность каждого, его политическую подкованность и преданность делу социализма. Все волновались, начинали читать газеты, заучивали имена генеральных секретарей компартий и глав государств, чтобы не срезаться, а то ведь не пустят в тот мир, таинственный и неизвестный, невиданный, но настолько знакомый по книгам и фильмам. Позже перестали вызывать, комиссия приезжала в театр, члены ее рассаживались по одному в гримерных, а мы томились в коридорах.
Никто не считал подобное унижением А ведь как унижалось человеческое достоинство каждого, как растаптывалось его «я», как заставляли его почувствовать, что отнюдь не он хозяин своей судьбы и не Господь Бог, а они партийные номенклатурщики. Проводился этот экзамен не для выяснения «знаний», а для того, чтоб выяснить лояльность отъезжающего не сбежит ли, не ляпнет ли чего лишнего не там, где надо, не польет ли воду на вражескую мельницу.
Я это понял раньше многих.
На одном из таких собеседований пожилой, с орденскими планками партиец спросил меня, кто такой Вилли Брандт? (Государственный деятель ФРГ). Отвечаю: «Фашист!» «Как? поражен спрашивающий, он же социалист » «А мне все равно, как он себя называет, фашист он и провокатор! Все они там фашисты!» «Где там?» «Всюду, отвечаю, всюду там, за рубежом, фашисты и провокаторы». «Ну хорошо, а в Италии какая государственная система?» Отвечаю: «Фашистская! Ненавижу!» «Ладно. Идите».
Мой допрос длился полторы минуты. Выхожу в коридор. Наталкиваюсь на Лешку Прокопца это прекрасный гример, хороший мастер, добрый наивный человек. Один недостаток попивает. Иногда по‑крупному. Сейчас как стеклышко трезв, мокрый от волнения. «Басик, спрашивает, ты чего так быстро?» Объясняю ему мою систему: на любой вопрос должен быть ответ, свидетельствующий о твоей неприязни, даже просто ненависти к тем, о ком спрашивают. «Погрубее, понял?» «Ага, понял!» говорит. И идет отвечать. Проходит полминуты, распахивается дверь, и, красный, словно рак, вываливается Лешка. «Что так быстро?» спрашиваю. «А он спросил, кто премьер‑министр Англии». «Ну, и что?» «Ну и я ему сразу: пошел ты на хуй, говорю. Заебись ты конем! А он почему‑то вон отсюда! За что?! Не понимаю »
Видимо, мое объяснение было не совсем точным. Лешку не пустили в поездку. Я несколько раз ходил по инстанциям, просил за него. Все‑таки пустили.
Следующий шаг подготовки к езде в незнаемое достать питание. Ибо суточные тратить на это нельзя. Они пойдут на покупки. Питаться будем из чемодана. Едем на пятьдесят дней: завтраки в гостинице, обед и ужин сами готовим. Считаем: ужин 23 палки твердокопченой колбасы, 45 пачек сухого печенья «Мария»; обед 2025 пакетов «супа овощного» и «макарон по‑флотски». Полпакета в день порядок. Ходим к директорам магазинов, в подвалы: не там, так здесь урвешь то суп‑письмо, то баночку кофе (страшный дефицит!), то колбасы копченой. Ну, а уж если перепадала банка «говядины тушеной» или «филе цыпленка в собственном соку» это предел мечтаний. Еще чай (дефицит) и спички коробков пятнадцать.
Затем проверка и настройка электроплитки, кипятильника, походно‑полевого ножа там и ложка и вилка! Кастрюлька с ручкой из пластмассы, чайник чуть не забыл: сахар‑рафинад! Ну, а после этого всего белье, рубашки необходимый минимум. Еще «Беломор» 1520 пачек! Полпачки в день. А то и меньше. Собрались, как космонавты в автономный полет.
Все эти колбасы, пакеты, банки, плитки и прочее необходимы были для того, чтобы не умереть с голоду и прилично сыграть. Суточных выдавали в среднем пять‑восемь долларов в день. За пятьдесят дней получалось 250400 долларов. Тратить их на еду преступно. Ведь на эти деньги необходимо купить родным приличную одежду, обувь и прочее, что было в Союзе дефицитом и являлось пределом мечтаний.
И покупали, представьте! Детям, женам, мужьям, родителям Одноразовые зажигалки шикарный подарок друзьям!
Но как этот чемодан поднять вот задача!
Бедные, бедные японские носильщики в порту Нагасаки!!! Худые, изможденные, одни жилы, глаза стали круглыми от напряжения: тащат наши чемоданы. Хотел помочь ни‑ни‑ни замотал носильщик головой: заметят уволят!!! Ни‑ни‑ни!! Капитализм проклятый.
Представьте, несмотря ни на что, на весь этот консервно‑колбасный кошмар, мы хорошо играли, имели успех, овации, прекрасные рецензии в лучших газетах.
В Вене играли «Беспокойную старость».
Мы с Юрским, содрав с пустых консервных банок советские этикетки, завернув банки в венские газеты (так нам было велено, чтоб не подумали враги, что мы консервами питаемся), упаковали их в портфель, дабы выбросить в мусорный ящик. Несколько часов бродили по городу, любовались красотами и так увлеклись, что забыли выбросить банки, вернулись с набитым портфелем.
Вечером, на сцене театра «Ам Дер Виен» спектакль.
Волнуемся. Невольно вспоминается все, о чем грезилось, говорилось на репетициях. Хочется донести до венцев особую, петербургскую атмосферу уютной профессорской квартиры. Хочется, чтобы почувствовали они чистую душу моего Бочарова, готового жизнь отдать за новую, справедливую жизнь за семью Полежаева за счастье человечества
Вот она, чета Полежаевых, уходит по бесконечной дороге ввысь, уходит все дальше и дальше навсегда Тишина. И неожиданно топот ног, громовой топот! Это выражение высочайшей любви и благодарности за спектакль. Представьте, сидящие зрители и р‑р‑р‑р‑р‑р!!! Минут пятнадцать‑двадцать топота и крика! Это чисто немецкая традиция: в Германии так же реагировали на «Историю лошади» и на «Дядю Ваню». Хоть Сергей и назвал это «бураплы» (бурные аплодисменты то есть), но за этим словечком скрывалась огромная радость, счастье, что вот, значит, дошло, почувствовали они, несмотря на языковой барьер!
Конечно, если говорить всерьез, все эти покупки, колбасы, красоты все это привходящие обстоятельства. Главное то, ради чего мы выходим на сцену. Успех, овации и прочее это, конечно, прекрасно, но, помимо и выше этого, есть нечто, что волнует людей на всем земном шаре, независимо от их языка и цвета кожи. То, что дремлет в глубине подсознания каждого человека, до конца не понятое и не осознанное им.
Вот это «нечто», видимо, и объединило многих японцев в «клуб любителей БДТ»; до сих пор я получаю письма и подарки от них. Это «нечто» заставляло сотни людей приезжать на один день в Ленинград, чтобы, отстояв очередь к окошку администратора, посмотреть спектакль. Это «нечто» покоряло тысячи зрителей Буэнос‑Айреса, Лондона, Эдинбурга, Мадрида, Барселоны, Дели, Токио, Осаки, Рима, Парижа, Будапешта, Праги, Гамбурга
Я стремился в каждом гастрольном спектакле аккумулировать это «нечто» и соединиться с залом, со зрителями. Ведь за моей спиной, за нашими спинами Чехов, Толстой, Горький, Островский, и моя острая любовь к ним, и желание поделиться этой любовью
Повторюсь: БДТ был единственным советским театром, который много лет гастролировал по всему миру. Мы, получая мизерные суточные, объездили полмира, принося, видимо, немалый доход министерству культуры. Но о наших гастролях, об овациях, хвалебных статьях ни в советских газетах, ни в журнале «Театр» не появлялось ни слова.
Не написали о международном Авиньонском фестивале, где мы были с «Историей лошади», первый советский театр, приглашенный на этот фестиваль. Когда мы покидали Авиньон, вся центральная площадь города, маленькая, как и весь город, была засыпана цветами, и зрители, заполнившие эту площадь, овацией провожали нас, бросая под колеса наших автобусов цветы.
Умолчали и о крупнейшем в мире Эдинбургском фестивале, где устроили даже демонстрацию в нашу честь (нам запретили выходить в это время из гостиницы) и где некоторые из нас были признаны лучшими среди приехавших актеров.
Не узнали советские люди и о том, как Вилли Брандт (тот самый «фашист») после окончания спектакля в забитом до отказа гамбургском театре «Талия» отчаянно колотил каблуками в пол вместе со всеми зрителями, а сидящий рядом с ним инвалид войны лупил что есть силы по полу двумя своими костылями.
Я благодарю Бога, судьбу, что с нашим театром объездил полмира!
Никогда, никогда не забуду пронизанный солнцем Авиньон, актеров со всего мира, играющих всюду: на площадях, на широкой паперти авиньонского Папского дворца, всех театральных сценах и в наспех подготовленных складских помещениях. Столица театрального мира
Благоухающий лавандой Прованс, знойный, испепеленный солнцем Арль, где творил Ван Гог, ночное кафе в Арле, на площади перед которым мы сидели за столиками с одним из трех членов общества любителей искусства Ван Гога. «Второй сейчас в отъезде, а третий вот он лежит, моя собака», это был владелец лавки скобяных изделий, который привел нас сюда. Вокруг было то же черно‑синее небо, те же излучающие желто‑красный свет витрины, тот же булыжник, что и на картине великого художника. И выпили мы по бокалу вина в память о Ван Гоге, написавшем в Арле «Ночное кафе» здесь, на этой площади, где мы сидим много лет назад
Сикстинская капелла в Ватикане. Десятки людей в небольшом зале стоят, смотрят вверх немцы, русские, англичане, евреи, арабы, китайцы, французы, японцы Смотрят на рукотворное чудо, сотворенное Микеланджело. Стоят все вместе, медлят уйти. Удерживает их не только гениальная живопись. Вот они мы все разные: белые, черные, мусульмане, христиане, буддисты, иудеи стоим все вместе, замерли Потому что нас объединяет нечто, что выше всех религий Тот, кто создал все, он здесь, со мной, с ним, с ней. Мы все едины вместе мы вернемся домой и будем молиться своим богам. Но никогда не забудем мгновения, когда гений Микеланджело заставил нас понять, что мы одна семья.
Разве можно забыть блистающий Южный крест в черном бархате неба над Буэнос‑Айресом?! А фантастический мир Японии: сияющую ярче солнца Гинзу, гениальный театр Кабуки, непрерывный звон монет в буддийском храме, многоэтажные кружева автомобильных развязок, светящиеся легированной сталью мосты, парящую в небе снежную верхушку Фудзиямы?!
Музей Прадо в Мадриде. Вот они, мои боги: Эль Греко, Веласкес, Тициан, Веронезе, Гойя розово‑голубой, радостный и веселый, а потом черный, страшный. Помню, иду к выходу из музея, по которому ходил несколько часов, но останавливаюсь. Понимаю, что не могу уйти просто так. Возвращаюсь к самым дальним залам, иду опять к выходу и, прощаясь, говорю «спасибо!!!» каждому гению, каждой картине в каждом зале Прощайте, никогда больше не увидимся! И, стыдно признаться, еле сдерживаю слезы благодарности.
А Берлинская стена? Пограничная страшная тишина вокруг царит. Поблескивают стальные каски гэдээровских солдат Сетка. Вспаханная полоса Колючая проволока Стена. Рейхстаг Угловые здания обугленные, опаленные огнем великого мая 1945 года Черные дыры окон Там, за стеной, чужой, неизвестный мир. Я смотрю на стену, защищающую мой мир, мир развитого социализма, от того страшного и непонятного
Так можно до бесконечности
Хватит. Просто хотел поделиться счастьем открытия мира человеком, благодаря судьбе вырвавшимся из замкнутого пространства «страны развитого социализма» и вдохнувшим все разнообразие мира, прекрасного и противоречивого.
Кино
«Юннные ленинцы!! Гордо! По‑боевому!! Звучат эти слова!!»
Мы, юннные (именно!) ленинцы стоим, выстроившись в ряд, в белых рубашках, в красных галстуках, залитые безумным светом прожекторов, в громадном павильоне Киностудии имени Горького. Идет съемка фильма «Красный галстук». Время от времени фанерный пол, на котором мы стоим, поливают из ведра и воду растирают тряпкой, чтоб пол блестел, словно он натерт воском. Артист Вахтанговского театра Абрикосов, наряженный генералом, весь в орденах, произносит речь о том, как это славно быть пионером! И какая ответственность! Юннные ленинцы!!! Мне очень нравится как он тянет букву «эн» юннные! И я чувствую себя приобщенным к искусству кино и почти прославленным.
Накануне к нам в школу пришли дяди и тети из кино, отобрали нескольких ребят для массовки, а на следующий день к девяти утра мы прибыли в «святая святых» на киностудию. Покрасили нам темной краской лица, выстроили в павильоне в ряд, и мы стали ждать. Ребята из нашей школы, из других школ массовка. Стоим в белых рубашках, красных галстуках, ждем. Сесть негде. Иногда появляется мальчик, который, видимо, играет главную роль. Это ясно по его ленивой походке, по утомленному взору, по небрежной сутуловатости весь его вид демонстрирует нам, массовочникам, некую приобщенность. И дистанцию, которая разделяет его, приобщенного, и нас, робких и неумелых. Ждем. На часах уже четыре пять ем бутерброд, который дала мне бабушка шесть семь Но вот прошелестело по всем углам: Абрикосов! Абрикосов!
Вот наконец и он в лампасах, в погонах, в орденах! Нас заливают водой! Забегали какие‑то с бумагами! Некто главный кричит что‑то угрожающее в наш адрес. Опять водой! Тряпкой по ногам! Проезжает камера. Опять бегают, кричат! Стучат!
«Юннные ленинцы!» Нет, это репетируем! Опять стучат. Вода. «Тишина! Приготовились!» «Юнннные ленинцы!» «Ядрена мать! Кто там стучит! Убью!» Водой по ногам! Тряпки. «Перерыв!». Стоим, ждем. Генерал учит текст Девять. «Приготовились!» Вода! Прожекторы!! «Начали!» «Юнннные ленинцы!!! Гордо!! По‑боевому звучат эти слова!!»
Я делаю восторженное пионерское лицо. Камера проезжает мимо «Стоп! Еще раз!»
«Юнннные!! Гордопобоевомузвучатэтислова!» Добрался я домой на Покровку в половине двенадцатого. Бледные от ужаса мама, папа, бабушка думали, что я пропал.
Полгода ждал выхода фильма на экран. Уроки почти не учил, вместо этого рисовал пионерскую эмблему: пятиконечная звезда с тремя языками пламени, а вокруг слова «Красный галстук». Как бы начало фильма, заставка. Наконец, на «Колизее» появились афиши: «Красный галстук». Мчусь в кинотеатр, покупаю билет. Волнуюсь. Темно. Пошел фильм. За содержанием не слежу. Жду своей сцены. И вот! Вот!! Пол блестит! Несут знамя! (Странно на съемке не носили.) И вот мы! Мы! Где я, где?! Ну же! В кадре возникает генерал: «Юнннные ленинцы!!!». Сзади генерала стоит размытая какая‑то толпа в белых рубашках, отражающаяся в лакированном полу. «Гордо!!! По‑боевому!!!» Ну!!! Сейчас!
Бац и совсем другая сцена. Улица какая‑то
Это мой первый съемочный день в кино.
Нет, был еще первее. На Чистых прудах снимали «Подкидыша». Я с Асей катался на трехколесном велосипеде. Нас попросили поездить весело перед камерой.
Я поездил. И сегодня вижу себя в «Подкидыше». Это 1938 год.
И еще раз я попал в объектив кинокамеры в солнечный, жаркий, изнурительно яркий день 9 мая 1945 года.
Мы с Витькой Альбацем помчались на Красную площадь.
Я нес в руках красный флаг с серпом и молотом, который Жорка, брат, спер где‑то до войны. ПОБЕДА!
Красная площадь, Манежная, Театральная все плотно забито народом. Толпа раскрашена в два цвета: выцветший зеленый военные и черный штатские. И яркое синее небо! И красные флаги! Оркестр Утесова! Военные угощают нас мороженым!
С грузовика на Красной площади дядьки‑киношники снимают нас. Показывают руками, чтоб бросали кепки в воздух. Мы бросаем.
Сейчас, когда вижу по телевидению эти кадры, щемит сердце: вот, вот, в гигантской черной толпе ребят, бросающих в воздух шапки, кепки, тюбетейки, это я!
Я, кажется Вся жизнь впереди. Ура!
А Жорка, брат, так и пропал
«Я утверждаю вас на роль Остапа Бендера. Но с одним условием: вы должны похудеть на тридцать килограммов и весить около 75‑ти» так сказал мне постановщик фильма «Двенадцать стульев» Леонид Иович Гайдай.
Леонид Иович. Стройный, сухощавый, в круглых очках. Мне повезло: я пробовался на Бендера, моим партнером был Сергей Филиппов замечательный артист, который сыграл Воробьянинова, словно сошедшего с иллюстрации Кукрыниксов.
«Бендер должен быть похож на артиста Кторова, утверждал Гайдай, стройный, худой, с орлиным профилем!»
Что Бендер был не толст, это уж точно. Насчет профиля не убежден. «Медальный профиль командора». Командором назвал Катаев в повести «Алмазный мой венец» Владимира Маяковского. И мне казалось, что во внешности и поведении Бендера много от Маяковского напористость, атлетизм, афористичность, огромный юмор
Ради того, чтобы сыграть Бендера, я был готов на все. Похудеть пожалуйста. Я сел на диету, которую придумал сам: капуста в основном, творог. Физические нагрузки гантели, бег. Когда приходилось идти в ресторан на чей‑нибудь день рождения, смущал всех тем, что не ел ничего так, веточку петрушки, листочек кинзы И через два месяца я, весивший больше центнера, стал стройным, словно тополь, красавцем семидесяти пяти килограммов. Звоню в группу «Двенадцати стульев». Мне отвечают: извините, но съемки уже давно идут, а Бендера играет Арчил Гомиашвили
Ну что ж, Бендером я не стал, но моя физическая форма позволила мне в дальнейшем сыграть Хлестакова, Самохвалова в «Служебном романе», Шатунова в «Выпьем за Колумба!» и много других ролей. Мой новый имидж расширил рамки моих возможностей и в дальнейшем эту свою форму я поддерживал.
Как радостно где‑нибудь на гастролях театра подняться рано‑рано утром, сделать зарядку, потом надеть спортивный костюм, кроссовки, взять секундомер, спуститься со своего десятого этажа на лифте и на набережную Неринги (в Вильнюсе), или на стадион, что рядом с гостиницей «Аджара» в Тбилиси, или по яблоневыми садам с чистым воздухом предгорий Тянь‑Шаня в Алма‑Ате!
Не зря живу! Впереди роли стройных красавцев! И вообще, легче жить! Глаза встречных девушек глубоки, как озера! Я профи!
Кончилось все это однажды прямо на спектакле «Ревизор». Я получил глубокий надрыв ахиллова сухожилия. В больнице отказался заменить его нейлоном, рискуя остаться хромым всю жизнь. Когда сняли гипс, ступня повисла, неживая. Стал ступню разрабатывать, обратился даже к спортивному врачу. В результате долгих мучений восстановил походку, но бегать уже не смог.
2009 год. Гастроли в Москве совпали с моим семидесятипятилетием. Слово‑то какое длиннющее, одним махом не напишешь Я уже не говорю о жизни. Незаметно быстро, неостановимо пронеслось время, а с ним радости, горести и все‑все, что принято называть жизнью. Из поведения окружающих напрашивается вывод, что прожил я не совсем впустую на улице подходят незнакомые, жмут руку, благодарят
Москва. Гастроли в Малом театре. Первый спектакль «Дядюшкин сон». Билеты все распроданы задолго до начала гастролей. Мест нет. Наша Ира Шимбаревич на входе встречает приглашенных. Вдруг видит батюшки! Инна Натановна Соловьева! Одна, еле идет, опираясь на палку. «Инна Натановна! Мы вас не ждали, ведь вы уже видели «Дядюшкин сон» на «Золотой маске» » Инна Натановна объясняет, что считает необходимым присутствовать, потому что «это серьезно, это премьера»! Шимбаревич кидается к администраторам, умоляя, чтобы посадили на хорошее место, что это необходимо! «А что я могу сделать?! Нет мест, и все!» отвечает администратор. «Поймите, это же Соловьева! Со‑ло‑вье‑ва! Понимаете?! Она должна сидеть удобно, все видеть и слышать!» Администратор свое: «Нет мест!» А Ира: «Вы обязаны ее хорошо посадить! Это же патриарх!! Патриарх!! Патриарх русского театра!» Администратор диковато оглянулся и говорит: «Хорошо. Я ей поставлю стул в центре партера». Ира чуть его не расцеловала и помчалась опять встречать приглашенных.
В антракте она навестила Инну Натановну. Посадили ее очень хорошо, в проходе партера. Ира побежала благодарить администратора. А тот: «Я второй стул держу». «Зачем?» «Для патриарха». «Для какого патриарха?» «Для мужа ее». «Какого мужа?!» «Вы же сказали, что она жена патриарха, я жду, что он придет».
Так стала уважаемая, любимая Инна Натановна Соловьева, вдумчивый, замечательный театровед, благожелательный критик, неотъемлемая часть русского театра, Женой Патриарха.
Малый театр, Дом Щепкина. В этом театре я видел с бабушкой «Правда хорошо, а счастье лучше» с Рыжовой и Садовским еще до войны, видел Турчанинову, Яблочкину, Ильинского, Пашенную А вот теперь я на гастролях питерского БДТ играю на этой сцене Князя К., а в зале сидит любимая, замечательная Жена Патриарха. А администратор ждет ее мужа. Патриарха
Да Но это в сторону. A propos, или, как теперь говорят политические деятели, ремарка. Не ведая, что ремарка это указание драматурга на место действия или поведение персонажа, а реплика это короткая фраза, произнесенная персонажем. В отличном костюме от Диора, галстуке от Бердслея, запонках от Магуччи, туфлях от Пердуччи из змеиной кожи, побрит что надо, розов, в меру упитан. «Позвольте ремарку!» «Дэ‑дэ! Пожалуйста!»
Дэ!.. Культур‑шмультур маловато у их у всех Дэ.
Так мы о кино. Подходят люди на улице, в магазине, благодарят, жмут руки И я понимаю, что знают они меня только благодаря кинематографу. На сцене видели меня (в Москве!) ну, полпроцента Да какое там! В десятки раз меньше. Кино, телевизор Кино, в основном.
Знаешь ли ты, что такое «неконтактный секс»? Как освободить чакру? Умеешь медитировать? Почти на сто процентов убежден, что ты лишен этих умений.
А вот собравшиеся в Репинском доме творчества кинематографистов посвящены в эти сокровенные тайны. И в левом крыле дома на старых матрацах, устилающих весь пол конференц‑зала, сидят жаждущие неконтактного секса и внимают ментору‑практику. Идет «психологический семинар»
А в другом, правом крыле общество «Благая весть» собрало своих членов с целью распространения и упрочения «евангелического учения»
А в центре здания еврейская община Санкт‑Петербурга устроила недельный сбор детей членов общины, раздаются песни и смех
Позвольте, а при чем здесь кинематографисты и их творчество?! А при том, что у Союза кинематографистов нет денег на содержание дома и приходится сдавать помещение под неконтактный секс. А также, возможно, и под контактный. Кто разберет?!
Изредка, весьма изредка прохромает некто плохо одетый, с серым лицом. Это кинематографист.
Нет денег. Ни у Союза, ни у кинематографистов. Некогда мощная система советского кино рухнула, сеть кинопроката разрушена владельцы кинозалов заинтересованы больше всего в прибыли, а ее дает лишь американское кино: триллеры, вестерны и прочая шелупонь.
Раньше один день демонстрации нового фильма окупал всю стоимость съемок этого фильма, а прибыль, получаемая за все время проката, шла в казну.
И кино приносило гигантскую денежную массу государству. После производства водки. Водка шла на первом месте. Кино на втором.
Советская власть видела в кино мощнейшее средство пропаганды своей идеологии. И не жалела денег на фильмы, дома творчества и т. д. Зарплаты только были крохотные, но это в общей системе было не суть важно. А важно было то, что система мощной государственной поддержки позволяла наряду с серыми идеологическими однодневками создавать настоящие шедевры общемирового значения. Да, многие великие картины лежали на полках, да, некоторые создатели предавались остракизму, но все‑таки создавались, появлялись шедевры!.. Картины, запрещенные к показу, все‑таки иногда прорывались к зрителю в ночных сеансах, в клубах. Кое‑что, наструганное цензурой, выпускалось и в широкий прокат.
Сейчас полнейшая свобода для сценариста и режиссера. Снимай что хочешь, как хочешь! Если есть деньги! Ищи их у спонсоров, богатых людей, умоляй государство помочь Ну, допустим, нашлись деньги, снята картина, а дальше? Кто из прокатчиков рискнет прибылью, сняв с проката американский блокбастер, на который валом валит жрущее попкорн стадо, и поставит российский фильм, который заставит думать, чувствовать, сопереживать. Стадо не хочет думать, не хочет сопереживать, оно требует «хлеба и зрелищ!» вот вам попкорн и набор киноаттракционов в виде триллера, блокбастера и прочей дребедени. И хороший сбор обеспечен!
Когда‑то на заре перестройки, в девяностые годы я писал о трудном пути, по которому в новых условиях должна пройти наша культура, кино, в частности. Она, подобно хрупкому суденышку, должна суметь проскочить между Сциллой наживы, тупой погони за прибылью и Харибдой государственной и прочей цензуры, пытающейся уничтожить все живое и правдивое И каким же чутьем должны быть наделены капитан и рулевой этого утлого суденышка, чтоб проложить правильный маршрут! Каким пониманием огромной роли культуры в сплочении разнородной массы жителей на территории России в единую сплоченную силу российский народ!!
С какой легкостью можно прибиться к скале «Сцилла» и попасть в абсолютную зависимость от бывшего халдея, ныне денежного туза, рассматривающего кино лишь как средство наживы!
С какой легкостью можно пристать в гавань «Харибда», потребовав государственного финансового покровительства, и попасть в прежнюю советскую систему пропаганды нужных правящей элите понятий!!
И в том и в другом случае художник теряет свободу, возможность самореализоваться и перестает быть художником
Так и общество в целом теряет свободу, которой добивалось, попадая в зависимость от финансовых воротил либо от жесткого государственного давления.
А уж если эти две опасности сливаются вместе, то
Еще в детстве, в дни моих одиноких долгих сидений дома, я перелистывал журналы «СССР на стройке».
Один из номеров был посвящен советскому кино. Меня очаровало фото стеклянного треугольного ящика со светящейся надписью «Тихо началась съемка». В моем представлении таинственная тишина киностудии постепенно, плавно переходила в торжественную тишину съемки: легко, таинственно. Тихо‑тихо началась съемка Никто и не заметил
Значительно позже я понял, что надпись эту надо читать так: «Тихо! Началась съемка!» А уж если честно это должно звучать так: «Тихо!! Тихо, мать вашу! Какая сволочь там стучит?!! Прекратите ходьбу там, наверху!! Началась съемка!!!»
Едва окончив Студию, я получил приглашение с «Ленфильма» от режиссеров Никулина и Шределя в фильм по повести Чехова «Невеста».
Я впервые столкнулся с прозой кинопроизводства. Неожиданно для меня количество времени, уходящего на постановку света, перерывы, скандалы, безумное количество дублей, вызванное желанием «сделать лучше» и, главное тем, что пленка Шосткинской фабрики чаще всего была бракованной, поэтому снималось 68 дублей на случай того, вдруг один из этих дублей окажется технически доброкачественным, все это для меня, питомца МХАТа, было обескураживающим разочарованием.
О работе с актером, о репетициях не было и речи, «проходили» сцену два‑три раза перед съемкой и сразу снимали
Я, исповедующий мхатовские принципы, выступал на собраниях киногруппы, требуя репетиций, обвиняя режиссеров в отсутствии у них четкого понимания того, во имя чего снимается фильм, в отсутствии «сверхзадачи» картины, требовал от них терпения в «выращивании зерна роли» у исполнителей.
Бедные режиссеры, улыбаясь, слушали меня, наивного юнца‑максималиста. Катастрофическое уменьшение оставшихся для съемки дней, ежедневный брак пленки о каком «выращивании зерна» могла идти речь?
Впоследствии я понял, что в кинематографе «выращивание зерна», определение задач и сверхзадачи роли, эмоциональный настрой персонажа это дело актерское, сугубо личное Конечно, много дает и режиссер, но непосредственно на съемочной площадке, перед камерой актер обязан мобилизовать всю свою волю, чтобы в эти редкие минуты почувствовать эмоцию, питающую режиссера, принять или отвергнуть ее, или пойти на внутренний компромисс, что тоже бывало.
Игра актера перед камерой в короткие мгновения съемки существенно отличается от игры на сцене. Нужно не показать, а прожить мгновение роли. И ровно настолько, насколько позволяет нажитая и руководящая тобой эмоция.
Остановлюсь, ибо понимаю, что начинаю теоретизировать, а это скучно читателю. Теоретизировать буду в следующей своей книге. «И моя жизнь в искусстве» так она будет называться.
Какое это счастье ранним утром приехать «Стрелой» из Ленинграда, пройти по нашему двору, пропахшему валерьянкой, войти в родную нашу коммуналку, расцеловать бабушку, маму, папу, попить чаю с куличом и на «Мосфильм»! Какое счастье пройтись по бесконечным коридорам, окунуться в шум и суматоху кинофабрики и, миновав табло с надписью «Тихо! Началась запись», войти в павильон! Вдохнуть запах свежеструганых досок, клея, краски, горелой резины
Толя Бобровский один из первых моих режиссеров. В его фильм «Возвращение Святого Луки» на роль фарцовщика‑спекулянта Лоскутова был приглашен Смоктуновский, но, будучи занятым, рекомендовал меня. Мало того, позвав нас с Галей в гости, подарил икону Божьей Матери, словно благословил.
Съемки «Святого Луки» сдружили нас с Бобровским, и как жаль, что сидит он сейчас без работы, ничего не снимает: нет денег.
На съемках этого фильма я встретился и подружился с начинающим актером Владом Дворжецким, с Катей Васильевой, с Всеволодом Санаевым, впервые почувствовал радость свободы импровизации перед камерой. Спасибо Толе Бобровскому за созданную для этого общую атмосферу.
И картина получилась занятная ведь и сейчас нет‑нет да и мелькнет на экране телевизора!
Все‑таки я счастливый человек! Подумать только, с кем свела меня судьба в кино: Швейцер, Лиознова, Краснопольский и Усков, Рязанов, Данелия, Масленников, Михалков, Аранович, Роом, Кошеверова, Венгеров, Шахназаров, Колосов, Худяков, Панфилов, Урсуляк, Бортко, Гаузнер Господи, не забыл ли кого‑нибудь?!
«Раба любви», второй фильм Михалкова. Молодому режиссеру на съемки отпущено катастрофически мало денег. Но неостановимого энтузиазма у него через край! Костюмы в основном из подбора, съемки идут в Одессе, на улицах и в Ботаническом саду, на Лимане. Под съемочный павильон киношников‑эмигрантов приспособили оранжерею в Ботсаду.
Какие были репетиции! Никита так все его звали в киногруппе собирал артистов у себя в номере гостиницы, и мы читали вслух Бунина, Чехова. Искали общую атмосферу фильма, музыку интонаций.
Дисциплина на съемке была железная: никаких воплей, рабочие ходили в войлочных туфлях, чтобы звуком шагов не мешать актерам. Никита шептал на ухо что‑то Леночке Соловей, Сане Калягину Он был необычайно чуток к актеру. Уловив, например, мою всегдашнюю ностальгию по дому, по Москве, предложил мне сымпровизировать сцену, где мой Южаков с чувством вспоминает подмосковную прохладу. Я сел перед камерой, попытался вспомнить Хотьково, осень со снегом И когда Никита спросил у Паши Лебешева, нашего оператора, готов ли он начать съемку, то услышал в ответ: «А я уже снял».
Паша, гениальный Паша! Он колдовал над скверной кинопленкой Шосткинской фабрики, в результате чего она приобретала качество пленки «Кодак» и изображение получалось ярким, качественным!
Да, никогда не забуду я Одессу 1975 года, нашу дружбу, огромную луну на гигантском черном ночном небе, шум прибоя.
«Итак, я жил тогда в Одессе »
Впоследствии намекал Никита, что, может быть, будет снимать меня в «Обломове», но Обломова замечательно сыграл Олег Табаков, а я, услышав по радио, что для съемок «Обломова» в Ленинграде приглашаются статисты в массовку, пришел к восьми утра на Вознесенский канал, к дому, где шли съемки, и, представ перед изумленным Никитой, заявил, что готов сняться у него даже в массовке. Он тут же придумал мне эпизод на полминуты, не более, но он вошел в картину.
Не понимаю, почему я не снимаю вас в своих фильмах, шутливо произнес Эльдар Рязанов после того, как увидел меня в роли Людовика XIV в «Мольере».
Да, это понять трудно, я этого тоже не понимаю, нагло и всерьез ответил я (нужен, нужен «нахалин» вспомнил Бориса Ильича Вершилова ох, как нужен!) и тут же был приглашен в фильм «Служебный роман».
В гигантском павильоне «Мосфильма» было выстроено нечто то ли бывшая баня, то ли шикарный ресторан, приспособленный ныне под «Статистическое управление» с десятками перегородок, шкафами, столами, заваленными бумагами. Кое‑где возвышались бронзовые обнаженные нимфы, пальмы.
На съемках Эльдар создал очаровательную атмосферу мнимой необязательности снял с актеров тяжесть ответственности, балагуря, непрерывно остря. Актеры вслед за ним заряжались этой веселой энергией, непрерывно импровизировали, придумывали Эльдар погрузил нас в атмосферу игры, напомнил простую истину: актер играет, а не занимается тяжелой работой. Репетировали прямо на площадке, изображение с кинокамеры шло на цветной монитор, мы, еще не зная твердо текст, с ролями в руках играли сцену, потом садились перед монитором и обсуждали увиденное; тут следовали властные указания от Эльдара, да и каждый из нас, поглядев на себя со стороны, делал соответствующие выводы
«Проще, легче, выше, веселее», сказал Станиславский. Фрейндлих, Мягков, Ахеджакова, Щербаков, Немоляева, может быть, и я в какой‑то степени воплощали этот лозунг на съемках. Фильм получился, как теперь говорят, «знаковым». Успех был бешеный. Все мы получили по Государственной премии РСФСР, все, кроме Светланы Немоляевой, которая прекрасно играла. Когда я на банкете в честь лауреатов, опьяненный славой, спросил у члена Политбюро ЦК КПСС товарища Соломенцева, почему же наша прекрасная Светочка не получила награду, тот потемнел лицом, посуровел, стал бронзово‑твердым и уронил три железных слова: «Все решено правильно». Я понял, что вторгся в какие‑то тайны, и на цыпочках отошел в сторону.
«О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные», «Предсказание» Все это Рязанов!
На «Вокзале» я встретился с очаровательной Люсей Гурченко и был сражен ее талантом, обаянием. Застеснялся, смутился, а тут еще любовные сцены, стрельба глазами, поцелуи и прочее! Нет, нет я не «герой‑любовник», твердило мне мое подсознание, и только благодаря Эльдару и Люсе, которая придумывала мне костюм и прическу, даже написала текст для меня в любовной сцене, постепенно обрел себя.
В трудные годы перестройки и начала реформ снимали мы «Небеса » и «Предсказание». «Небеса » про обездоленных, про бомжей, живущих на свалке, кто в остове старого автобуса, кто в канализационном люке. Фильм был пронизан острой болью за этих несчастных пожилых бездомных, взывал к милосердию. Я решил, впервые для себя, сыграть роль «по‑театральному». Эльдар поддержал меня, и получилось! В этой работе меня подстегивала наивная, может быть, мысль: вот выйдет фильм, и люди поймут, что надо быть добрее, внимательнее друг к другу, нельзя отворачиваться от чужого горя, от чужой беды.
Ради них, ради людей надрывали мы свои сердца на Съезде народных депутатов РСФСР, в Верховном Совете, пытаясь перестроить политическую и экономическую систему страны, повернуть ее лицом к людям, наделить демократическими правами всех граждан нашей России!..
Для них, для простых людей, создавал Элик свои фильмы, пытался вселить в их сердца надежду и даже в нашем последнем совместном фильме «Предсказание», несмотря на витающую повсюду смерть, наделить героев любовью единственным спасением в этом безнадежно больном мире. Последняя фраза моя в «Предсказании»: «Будем ждать ребенка» будем надеяться, что из сегодняшней смуты вырастет в будущем что‑то хорошее, что не зря мы живем на этом свете.
Спасибо тебе, Эльдар, за твою дружбу, за работу, за счастливые мгновения перед камерой.
Снимался я в основном на «Мосфильме».
Вечером играю спектакль в БДТ, затем сажусь в «Красную стрелу». Утром в Москве забегаю домой расцеловать маму, папу, бабушку и на «Мосфильм»!
Вечером опять в «Красную стрелу», возвращаюсь в Ленинград. Потому что завтра спектакль! После спектакля в «Стрелу», на «Мосфильм»! И так почти всегда, ибо Товстоногов заявил: «Сниматься? Только в свободное от работы в театре время!!»
«Красная стрела»! Сколько тысяч раз носился я в ней туда‑сюда, сначала в купе на четверых, а потом в СВ на двоих; знал не одно поколение проводников и бригадиров поездов. Помню замечательного начальника поезда Филиппыча, который встречал нас у вагона, а иногда приносил в купе ледяной графинчик и миску дымящихся сосисок!
А наша дружба поездная с актерами других театров! Они с «Ленфильма» домой, мы из дома на «Мосфильм»! Сколько мы провели почти бессонных ночей в купе под стук колес. Какой радостью было встретиться в поездном буфете с Женей Евстигнеевым, Николаем Караченцовым. Коньяк, конфеты «Кара‑Кум» Трясет тебя, мотает из стороны в сторону дым коромыслом. Но беседы, беседы Копелян прозвал утро после ночи, проведенной в «Красной стреле», «Утро стрелецкой казни». У меня подобные бдения были не так уж часты, а уж потом, постепенно, с возрастом, ходьба в поездной буфет прекратилась, беседы закончились завтра с десяти утра съемка, надо быть в форме.
Работа над каждой ролью начиналась с мучительных поисков хорошего костюма, ботинок, галстуков, рубашек. Ибо поручали мне в основном роли нехороших людей предателей, спекулянтов, эгоистов, и одеты они должны быть соответственно, в отличие от героев положительных, замызганных, затертых, измятых, что выдавало их богатый духовный мир: не до одежды, дескать!
Несчастные художники по костюмам в «Служебном романе» проникали на какие‑то потайные склады, в распределители ЦК обычные‑то магазины были пусты, чтобы «достать» какой‑нибудь гэдээровский пиджак в клеточку или блейзер синий с серыми брюками, элегантное кепи, модный «там» галстук.
Зато как просто и легко было с одеждой бомжа Нюси в «Небесах обетованных» натянул свои брюки, надел свои же ботинки, пальто старое, протертое, старую шляпу. И готов «бомж»!
А в «Осеннем марафоне» твидовый пиджак подобрал мне сам Георгий Николаевич Данелия, Гия мой дорогой. Кепка старая, купленная в Финляндии на гастролях БДТ, брюки, ботинки все мое. Данелия обязал меня спать в пиджаке, не снимать его никогда, чтобы он приобрел поношенный, бывалый вид.
Об «Осеннем марафоне» можно написать целую книгу, сейчас скажу только одно: Бузыкин мой, Андрей Павлович, одна из самых дорогих мне ролей. Благодаря Георгию Николаевичу, с его помощью, а подчас и при его диктате пришлось мне посмотреть на себя со стороны, заглянуть себе в душу. Нет, не о любовном треугольнике идет речь, а о своем месте в жизни, о конформизме, свойственном каждому советскому человеку, об интеллигентном неумении сказать, когда необходимо, «нет!» или, в противном случае «да!», о трагедии самоуничтожения, о невозможности измениться
А партнеры, партнеры!! Гундарева, Неёлова, Подгорный, легендарный Крючков!! Немецкий журналист Норберт Кюхинке играл моего датского гостя, в его присутствии он ведь ничего не умел как актер и был естествен, словно кошка или собака, невозможно было «соврать» актерски, это становилось сразу же заметно. Леонов сочный, яркий, и я, опасаясь потеряться на его фоне, тоже как‑то постарался «ярко» сыграть. Данелия отвел меня в сторону: «Ты что, хочешь переиграть Женю?! Пойми, у него роль эпизодическая, ему надо расцветить всеми красками те пятнадцать минут, что ему отведены в фильме, а у тебя роль весь фильм, и образ твой складывается из твоих действий на протяжении полутора часов!»
Это был урок. Таких уроков я много усвоил во время съемок «Марафона». Гия строжайше следил за органикой поведения, несколько раз переснимал некоторые сцены, был очень требователен.
В сцене, когда Бузыкин вместе с женой поют детскую песенку, провожая дочку с мужем в экспедицию на Север, Гия хотел, чтобы Бузыкин мой, охваченный тоской, заплакал. Со второго дубля это у меня получилось, и Гия подошел и расцеловал меня, сказав: «Спасибо!» это была самая моя большая награда!
Каково же было мое изумление, когда в окончательном варианте сцена шла целиком, одним планом, вот‑вот должны показаться мои слезы, ан нет! Перед первой слезинкой бац! и идет уже другая сцена! «Гия, что же ты вырезал то, за что сам благодарил меня?!» «А мне важно, как ты подходишь к слезам, а эмоция в зрителе возбуждается не от слез персонажа, а в момент монтажного стыка. Вот этот стык с другой сценой я и дал». Уроки, уроки
Дорогой Гия! Благодарю судьбу за встречу с тобой!
Для съемок у Данелии Товстоногов разрешил подверстать репертуар БДТ «под Басилашвили». С понедельника по пятницу включительно я был свободен, зато в субботу и воскресенье играл по два спектакля. И в таком режиме я жил полгода.
Тяжело было, конечно. Но зато процесс съемок не нарушен, и маму, к тому времени уже тяжко больную, я видел каждый день. Фильм она так и не успела посмотреть
Однажды случайно я попал в компанию крупных милицейских чинов полковников, майоров. Они крепко выпили, пошли разговоры о том о сем. Я, поддерживая беседу, спросил, отчего наша милиция так малоуспешна: слухи о том, что милиция не может раскрыть большинство преступлений, ходили по всей Москве. Главный чин сделал паузу. Затем произнес: «Прежде чем всякую сволочь ловить, надо бы обезвредить главных!» И ткнул пальцем на висящие на стенах портреты Брежнева и Щелокова.
Мы замяли разговор и перешли на другие темы. А на следующее утро протрезвевший участник беседы позвонил мне и взял с меня честное слово, что я никому не расскажу об услышанном.
Слово я сдержал и только теперь, по прошествии почти сорока лет, говорю об этом. И то лишь потому, что хочу рассказать о режиссере Семене Арановиче и о его фильме «Противостояние», где я играл милиционера, подполковника МВД Костенко.
Он расследует дело об убийстве и выходит на след человека, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону немцев, служил им верой и правдой. Мой Костенко пытается понять природу этого предательства: что руководило человеком трусость, боязнь смерти? Или непомерное честолюбие? Или неприятие сталинской системы? И почему многие тысячи наших солдат сдавались в плен?!! Чем вызван переход армии Власова на сторону немцев? Только ли страхом смерти или к этому страху примешивались другие чувства?
Хотелось, чтобы подобные вопросы возникали и у зрителя.
Оператор Федосов снимал картину в документальном стиле: плавающая камера, якобы случайная компоновка кадра. Трудно было отличить снятые сцены от подлинно документальных, от хроники, снятой немцами, которую широко использовал Аранович. Вот советский майор показывает немецким офицерам на карте расположение наших частей, вот бегут прямо на немецкую камеру и улыбаются, подняв руки, красноармейцы. Вот школа подготовки абвера, где наши русские люди в немецкой форме, сытые, веселые учатся диверсионной работе, танцуют, играют в шахматы.
И играл я «хроникально», ничуть не педалируя, гася возможную яркость. Чтобы понять, что есть работа сыщика, я попросил взять меня стажером в один из отделов Ленинградского уголовного розыска. Там я познакомился с интереснейшими людьми, окунулся в рутинную розыскную работу, это помогло мне «быть» в кадре, а не изображать очередного патриотического сыщика с горящим взором.
Пишу эти строки, и вспоминается мне наша компания: бородатый, похожий на лесовика оператор Федосов, придававший кадру характер документальности, художник Светозаров, актеры Болтнев, Кузнецов; там же судьба свела меня с Котэ Махарадзе, с талантливым красавцем Мурманом Джинория. Вспоминаю приобщенного к высшим тайнам Юлиана Семенова, автора сценария; он являлся к нам в пятнистом камуфляже, заросший, в высоких зашнурованных ботинках с толстенными подошвами только что из Анголы или из джунглей Амазонки, прокопченный пороховыми газами революционных битв.
В Арановиче меня привлекало редкое сочетание какой‑то интеллигентной хрупкости с внутренней твердостью, его ясное понимание того, что есть что в нашей жизни. Я как‑то спросил его, как мой Костенко относится к тем, кто там, наверху, кто стоит на Мавзолее и принимает парады.
То есть как это «как относится»?! Как и все нормальные люди! Он отлично понимает, что те, кто наверху, бандиты, бандиты, захватившие власть и делающие все, чтобы эту власть не потерять. Но Костенко профессионал, и он честно работает, чтобы обезвредить обычного преступника.
Многосерийный наш фильм был готов к 9 Мая, Дню Победы, мы посвятили его светлой памяти солдат, отдавших свои жизни борьбе с фашизмом, защищавших свой дом, свою семью, свою Родину.
Не пустили его к 9 мая. Не пустили и позже. Товарищ Хесин, телевизионный цензор, нашел в нем более трехсот «недоработок». Если учесть все его требования, надо было «размонтировать» и убрать многое из фильма, и, заново смонтировав, сделать уже другой фильм, без проблем и вопросов.
Я помчался в Москву, в Останкино. Попробовал выяснить у товарища Попова, крупного начальника на Центральном телевидении, в чем заключается, с его точки зрения, «крамола». Тот уходил от ответа и дружески приглашал сгонять на футбол: сегодня юношеская сборная СССР играет! Я не отставал и получил наконец ответ:
Вот там у вас в конце фильма показан Трептов‑парк в Берлине, с захоронениями советских солдат, погибших в боях за Берлин, и стелы с их фамилиями
Да. И что?
И вот мы видим: Левин. Понимаешь? Левин! Левин! И долго эта надпись видна!
Ну и что?
Как что?! Что, одни евреи, что ли, Берлин брали?!
Почему одни евреи?! Там, на этих стелах, фамилии и русские, и казахские, и грузинские, и украинские все там! И евреи тоже!
Да ладно тебе! Вообще у вас там полно евреев: Аранович кто? Француз, что ли? Ну ладно На футбол идешь или нет?
Мчусь к Лапину начальнику Гостелерадио СССР. Добиваюсь приема. Сидит усталый, пожилой, высохший человек в сером костюме. Чем‑то напомнил мне товарища Шауро из ЦК. Говорю, что на телевидении гробят хороший фильм, уничтожают его многоплановость, хотят превратить в простой детектив с преступлением, поисками и наказанием.
Лапин снимает трубку одного из многих телефонов на столе.
Что у вас там с фильмом «Противостояние»? Замечания есть? Нет никаких? Значит, все в порядке? Хорошо, так и скажу. Кладет трубку. К фильму никаких претензий, так и передайте Арановичу.
А вот Хесин дал триста исправлений
Лицо Лапина каменеет. И он железным голосом роняет:
Повторяю! Все в порядке.
Мчусь в Питер. Вхожу в кабинет нашей киногруппы и говорю, сияя: «Эх, вы! Вот я был у Лапина вчера, к фильму претензий нет!!» «Да? отвечает Семен. А вот это что? Взгляни! Сегодня прислали с телевидения!» и протягивает мне длиннющую бумажную простыню. А на ней перечислены все замечания к фильму. Более трехсот.
Пришлось Семену выбирать: либо снять свою фамилию из титров, что грозило фильму «лечь на полку», либо пойти на компромисс «и капитал приобрести, и невинность соблюсти» постараться, выполняя требования, все‑таки сохранить многоплановость картины. Полетело в корзину почти все из кинохроники, многие сопряжения оказались разрушены.
Но невинность соблюсти не удалось. Фильм получился крепкий, но «задуматься» зрителю не пришлось: слишком многое было убрано. Да и то сказать: было восемь серий, стало шесть! Семен ходил убитый, черный дорого обошлось ему это насилие над собой.
Судьба жестоко обходилась с Арановичем. Он был штурманом военного бомбардировщика. Но случилась авария, в которой он получил травму, несовместимую с профессией авиатора. Семена демобилизовали.
Он поступил во ВГИК. Его всегда интересовало документальное кино. Семен был единственным, кто снял отпевание и похороны Анны Ахматовой. За это его из режиссеров перевели в ассистенты. Приказано было даже уничтожить пленку. К счастью, порядочные люди сохранили часть снятого. И сейчас мы видим на экране похороны великой русской поэтессы благодаря мужеству Арановича.
Его прекрасные документальные фильмы «Большой концерт народов, или Дыхание Чейн‑Стокса», «Я служил в охране Сталина, или Опыт документальной мифологии», «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната» вызывали неодобрение начальства и поэтому крайне редко демонстрировались
Он снял фильм «Торпедоносцы» одну из лучших военных драм, самых правдивых, безусловный шедевр игрового кино. Но его крайне редко демонстрировали и даже не упоминали при перечислении фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.
Другой бы сломался, махнул на все рукой. Нет, Семен был верен самому себе и мужественно продолжал работать.
Как‑то он рассказал мне, что однажды, будучи документалистом, был послан в передовой колхоз, который вырастил невиданный урожай кукурузы. Приехали они с оператором, видят мать честная! а кукуруза‑то чуть выше щиколотки, до колена не достает! Но голь на выдумки хитра вырыли глубокую траншею, влез туда оператор с камерой. Кукуруза снизу кажется высокой, а председателя колхоза и агронома поставили на колени, за кукурузой, так, чтобы видны были только их шеи и головы. И вот идет съемка: оператор ползет в траншее, председатель и агроном в орденах идут за кукурузными метелками на коленях, говорят об успехах, размахивают руками
Иллюзия полнейшая: высоченная выросла кукуруза, молодцы колхозники!
Аранович начал съемки фильма «Agnus Dei» («Агнец Божий») о ленинградской блокаде. Об ужасе, в котором жили, умирали от голода и болезней, страдали несчастные люди. И о подлинном подвиге молодой женщины, пошедшей на верную смерть, подменив собою в последний момент свою сестру‑близняшку, узнав о том, что та беременна.
Семен рассказывал мне страшную правду о блокаде. О людоедстве. О том, как родители поедали маленьких детей, держа их недоеденные трупы на морозе между окнами. О том, как другие, наоборот, кормили детей своей кровью. Как ученые, замерзая во льду своей квартиры, не позволяли сжечь ни одну книгу из библиотеки, и о том, какая у Жданова была в Смольном диета от ожирения, как голодные полускелеты, созванные в Смольный на совещание, обедали там и потом пытались унести с собой по две белые булочки, поданные к чаю, чтобы отдать их умирающим от голода родным. «Ешьте здесь, не выходя из здания!» приказали им, и люди, давясь слезами, глотали эти булочки у дверей, ведущих из Смольного на улицу.
В фильме снимались сестры Кутеповы, Олег Янковский, Калягин, Сухоруков
Половину съемок оплачивала немецкая сторона (это был российско‑германский проект), другую половину наше Роскино.
Половина материала была снята. Немецкие деньги кончились. Ждем денег от Роскино. В это временя приближались выборы президента России. Рейтинг Ельцина упал чрезвычайно. Рейтинг Зюганова, наоборот, вырос. Возникла опасность коммунистической реставрации. И вот тут‑то Роскино под руководством Армена Медведева нанесло последний, решающий удар Арановичу. «Денег не дадим, сказано было нам, фильм не ко времени!»
Попытки раздобыть где‑либо деньги на продолжение съемок были безрезультатны. Съемки прекратились. Семен не выдержал удара, заболел и умер.
А отснятый им несмонтированный материал был показан на Берлинском кинофестивале и получил почетный приз.
Помните ли вы Москву конца восьмидесятых годов двадцатого века?!
В магазинах пусто. На полках можно найти только «Завтрак туриста» омерзительную гадость из рыбных отходов, залитую для придания вкуса томатами. Гигантские очереди за водкой. В нашем «Центросоюзе», что на углу Чистопрудного бульвара и Покровки, в мясном отделе почему‑то продаются вязальные спицы. Все продукты по талонам.
А в самом центре Москвы, в гостинице «Россия», проходит международный Московский кинофестиваль «За мир и дружбу между народами». Гостиница окружена несколькими кордонами милицейских рогаток, дабы никто из посторонних не проник на просмотры, а главное в рестораны и буфеты, где есть заветный дефицит: сосиски, колбаса копченая и вареная, коньяк, вина. У внешнего кольца заграждения толпятся москвичи, в надежде проникнуть на фестиваль, но милиция начеку граница на замке!
Участники и гости фестиваля живут в гостинице, там для них открыты рестораны, бары, пресс‑центры. Это остров света и радости. Выходящим вручается пропуск, по которому впустят, когда вернешься из города.
Я имею такой пропуск, потому что играю в фильме Карена Шахназарова «Курьер», представленном на фестивальный конкурс. Живу у себя на Покровке и, гордо подняв голову, прохожу с пропуском сквозь толпы москвичей через все кордоны!
Сегодня вручение призов. Метров за сто перед гостиницей пустая зона. Никого! Словно безвоздушное пространство. Издалека вижу набычившегося швейцара‑охранника. Растопырив руки, не дает пройти внутрь какой‑то паре, мужчине и женщине. Я, предъявив пропуск охраннику, прохожу. В дверях оглядываюсь Боже! Не сон ли это?! Федерико Феллини и Джульетта Мазина!!! Великого итальянца, подарившего миру «Ночи Кабирии», «Восемь с половиной», «Амаркорд», «Сладкую жизнь» и другие киношедевры, его жену, известнейшую актрису, не пускает, грубо отталкивая, здоровенный охранник в черной поношенной шинели, грозящей лопнуть по рыжим швам.
Товарищ! обращаюсь я охраннику. Пропустите их, пожалуйста!
Уйди! Не мешай работать!
Да вы что?! Это же Феллини!
А мне что?! Без пропусков не велено!
Ну, забыли они, не знают, это же Феллини и Мазина!
Феллини лепечет потерянно: «Си, си Мазина »
Слушай, уйди! Не мешай работать! Пропуск нужен!
Ну, хорошо. Меня вы знаете?
Тебя знаю. Ты артист.
Ручаюсь тебе! Тут я не выдержал. Твою мать! Это Феллини! И если ты их сейчас не пустишь
Феллини жалобно подхватывает: «Феллини, Феллини, синьор! Си!.. Мать »
то знаешь, что твое начальство с тобой сделает?!! Уберут тебя отсюда к чертовой матери, и ни тебе сосисок, ни коньяка! Уж я‑то позабочусь!
Пауза.
Я, пытаясь придать уверенность своему голосу, добавил:
Сукой буду!
Опять пауза.
А, ладно Пусть идут.
Войдя в вестибюль, Феллини церемонно поклонился: «Грациа, синьор!», подхватил Мазину под руку, и они побежали к лифту.
Вечером Феллини получил главный приз за фильм «Интервью».
А фильм Карена Шахназарова «Курьер» был награжден специальной премией жюри кинофестиваля.
Дорогой Карен!
Во‑первых, позволь поздравить тебя с присуждением тебе «Золотого орла» за «Палату № 6», за лучшую режиссуру. Это ведь не первая твоя премия.
Помнишь, как стоял ты на сцене Концертного зала «Россия» на вручении призов Московского кинофестиваля вместе с великим Феллини, а я сидел на галерке и махал зонтиком, чтоб ты меня заметил?!
Кстати, я не ожидал, что, кроме тебя, еще кто‑нибудь получит приз! Если б знал фиг бы провел я Феллини с Мазиной в «Россию». И стояли бы они под дождем, жуя «Завтрак туриста», а не шли бы после вручения приза в ресторан требовать себе щи (это у нас‑то, в 22.30, когда уже и свет гаснет, и окурки в тарелках, нет, дай им щей). Тех же щей, да пожиже влей, решил официант и грохнул на стол 0,7 «Столичной». Без закуси. Честно говоря, мы сглотнули слюну, ибо нам из‑за позднего часа ничего не дали.
Но речь не об этом. Недавно смотрел твой фильм «День полнолуния». И вновь покорила меня тайна, окутавшая эту картину. Вроде бы отдельные эпизоды, не связанные между собой общим сюжетом. Но что‑то таинственное, неуловимое, что, наверное, и является сутью нашего пребывания на Земле, не отпускает
Та самая тайна, которую пытаются разгадать, постичь сотни поколений, пытаются объяснить ее вот она вот она передо мною и я смотрю на экран и погружаюсь в нее, и причастен к ней но вот кончается фильм и вновь гигантская, космическая тайна, словно звездная туманность окутывает все, и вновь неразрешим и притягателен вопрос зачем?.. Почему?.. Для чего?..
Твои фильмы не похожи друг на друга. Но объединяет их одно тайна, неразрешимая загадка.
Почему люди так ненавидят друг друга? Что заставляет их травить ядом, рвать на части себе подобных?
Есть ли выход из отравленных глупостью, взяточничеством, алчностью наших будней?
Портрет главной героини, графини Прозоровой в «Снах» портрет «из прошлого», глядящий с грустью на двойника‑посудомойку из гнусной столовой, их встреча будит надежду? Или нет?.. Как бы хотелось
В одном из своих стихотворных произведений Александр Галич написал: «Бойся единственно только того, кто скажет: Я знаю, как надо».
Ты не знаешь. Ты просто задаешь вопросы. Ты заставляешь думать. Делать выводы. По крайней мере протестовать! Да, не хочу я жить в стране из фильма «Город Зеро» среди демагогов, лентяев, фанатиков‑психопатов Смешно? Да. Но ответь мне, ответь, Карен: выход есть?
Когда на экране в «Снах» вдруг появляются ясные спокойные пейзажи вечернего Подмосковья, с туманами, соловьиным щелканьем, стогами на фоне вечернего сиреневого неба, когда исчезает шум, грохот, дым, дрязги мне кажется, что есть, есть выход
Я счастлив, Карен, что был причастен к твоей тайне, что мы оба пытались постичь ее и иногда это нам удавалось.
«Мосфильм» при твоем директорстве превратился из пыльного скопища полуразрушенных павильонов в одну из лучших европейских киностудий. Любой Спилберг может снимать на «Мосфильме» настолько разнообразна и современна съемочная техника. Павильоны блестят чистотой. Для работы и отдыха актеров созданы самые комфортные условия. Сравниваю «Мосфильм» с «Ленфильмом» небо и земля.
Я спросил, как тебе удалось добиться этого фантастического превращения?!! Твой ответ был краток: «Я не ворую».
Братцы, может, в этом все дело? Может, попробовать не воровать? Я понимаю, что трудно пойти на такой эксперимент, но, может, рискнем, а?
Надо заканчивать книжку.
Хотя жизнь‑то еще не окончена! Надеюсь.
А как заканчивать, чем? Что главное, что нет?
Помяну благодарным словом покойного Кирилла Лаврова.
Ведь это он после ухода Товстоногова взвалил на себя бремя ответственности за БДТ. Десять лет под его руководством театр упорно искал свой путь в изменившихся обстоятельствах. Он шел на рискованные эксперименты с новыми приглашенными режиссерами, создал Попечительский совет, благодаря деятельности которого работники театра не голодали. Это Лавров сохранил товстоноговский костяк БДТ и делал все для того, чтобы оставить на прежней высоте уровень нашей требовательности к работе и жесткую оценку результата.
Я благодарен и нынешнему художественному руководителю БДТ Темуру Нодаровичу Чхеидзе, приглашенному еще Товстоноговым.
Он принес в театр свою, отличную от товстоноговской, эстетику, свое понимание мира, ни разу не опустился до дешевого развлекательства и до «авторской режиссуры», где желание показаться «передовым» и оригинальным уводит режиссера и зрителя от главного от актера, от взаимоотношений персонажей, от событий, возникающих в результате их взаимодействия.
Работается с Чхеидзе интересно, он точно знает, куда ведет артиста, но никогда не требует немедленного результата, понимая, что роль, как цветок, должна распуститься из бутона самостоятельно. Или не распуститься что тоже часто случается
Всегда тепло вспоминаю моих товарищей по демократическому крылу Съезда народных депутатов России. Как не вспомнить Ельцина, Гайдара?
Что заставило меня в этот трагический для Родины момент принять деятельное участие в ее судьбе? Не вся ли моя предыдущая жизнь, опыт, указавший мне правильный путь? Люди, после встреч с которыми я волей‑неволей задумывался о себе, о своем месте в жизни?
Вспомнилось, как я пытался понять, почему мой Андрей в «Трех сестрах», узнав о предстоящей дуэли бретера Соленого с полуслепым Тузенбахом, то есть фактически о предстоящем убийстве Тузенбаха, не побежал в полицию, не расстроил этой дуэли?! Ведь Соленый в лицо Андрею заявляет: «Я подстрелю его, как вальдшнепа!»
А Андрей не побежал!!! Не побежал, понимаэтэ??!! Ужас от услышанного породил в нем не желание сорваться с места и расстроить дуэль, а философские размышления о трагизме нашей жизни, о собственной трагической судьбе о прекрасном будущем, которое придет, но придет как‑то само по себе Это паралич! Паралич воли, понимаэтэ?!!! Вот в чем наша беда!! Я часто вспоминал слова Товстоногова о страхе, этом непреходящем условии российского существования, о нашем попустительстве злу.
Вот я и попытался вместе с моими друзьями убрать зло, погубившее более шестидесяти миллионов граждан СССР, поставившее страну на грань исчезновения. Руководило нами одно желание: сделать жизнь лучше, свободнее, богаче в результате! Дать человеку возможность почувствовать себя хозяином своей судьбы.
Мы чувствовали поддержку большинства граждан России, но в то же время такой ненавистью были окружены! Консерваторы занимались демагогией, шли на шантаж, убийства, подкуп лишь бы не дать состояться реформам в полном объеме, лишь бы остаться у кормушки. И во многом преуспели
Сейчас я с удовольствием работаю в антрепризах, в Театре Антона Чехова, где комедия Франсиса Вебера в постановке Леонида Трушкина «Ужин с дураком» идет уже тринадцатый год, играю и в «Цене» Артура Миллера. С программой «С любовью из Санкт‑Петербурга» объездил полмира.
Конечно, финансовые соображения здесь играли роль, но было и желание на своем примере показать актерам, привыкшим жаловаться на отсутствие работы в театре и сидеть сложа руки, что наступило время, когда от тебя лично зависит твое будущее.
Совсем недавно судьба сделала мне подарок. Благодаря телепередаче «Моя родословная» я впервые побывал в храме во имя святых мучеников Адриана и Наталии, который, оказывается, мой дед построил в некогда малолюдном дачном месте Лосиноостровская, теперь здесь шумит Ярославское шоссе.
Был и на родине второго деда Ношревана Койхосровича, в деревне Карби Горийского уезда. Гладил камни, которых когда‑то касались и дед, и отец, пил холодное вино, зачерпнутое из кхвеври огромного кувшина, вкопанного в землю в подвале. Был и на деревенском кладбище, где самые старые захоронения помечены XIII веком и где на всех надгробиях одна фамилия Басилашвили.
Был я в Прохоровке, на той самой Курской дуге, где сгинул без вести мой брат Жора, начальник штаба дивизиона 125‑й стрелковой дивизии, затем первый помощник начштаба 222‑й стрелковой дивизии Западного фронта. Капитан Георгий Валерианович Басилашвили. Стоял у братской могилы на прохоровском поле: здесь погребенные сразу после того, как война отступила от Прохоровки. Здесь, наверное, и Жора Мой брат.
Брат, который семьдесят лет назад на кухне в нашем доме на Покровке нагнулся, потрепал меня по голове, повернулся на каблуках шинель сзади разлетелась, обнажив длинный ряд золотых пуговок, улыбнулся и ушел с Покровки навсегда.
Вместе со съемочной группой мы поехали в Хотьково.
Двадцать с лишним лет прошло, как я в последний раз был здесь. И вот опять я оказался в таком родном, но чужом уже месте.
Хозяев не было. На запертой террасе наш стол с Покровки, стулья, перевязанные шнуром.
Скамейка, которую сделал папа, почти сгнила. Жасмин, посаженный папой Заросло все.
Когда‑то, лет сорок назад, в один из радостных упоительных солнечных дней я трамбовал дорожку, идущую от террасы к калитке.
Остановился отдохнуть. Вокруг на стволах берез, на траве играли солнечные пятна
Вдруг я услышал громкий мужской голос:
Оглянись вокруг! Запомни! Больше этого никогда не будет.
Что за чудеса? Рядом никого. Мистика какая‑то! И на всем участке никого.
Оглядываюсь. Ну и что? На террасе бабушка и мама пьют чай с клубничным вареньем. Ничего особенного!
И вот теперь я опять в Хотькове. Опять стою точно на том же месте, где стоял столько лет назад, когда услышал этот голос. Оглядываюсь. Все то же. Жасмин. Скамейка. Терраса. Только на ней никого нет.
И мелкий дождичек шелестит в листьях когда‑то посаженных нами яблонь.
Хотьково Москва Ленинград Петербург Репино
2011
Вкладка
Мои портреты


Это я лет десять тому назад. Сейчас всё значительно хуже.

Юбилей 70 лет. Делаю вид, что мне весело.
Москва, семья, Хотьково...

1936 год. Подмосковное Пушкино. Всегда был с техникой не в ладу.

Пушкино. Сзади общежитие Политехникума связи, где работал папа.

Пушкино. Я крайний справа, у мамы на руках. Красавец папа сзади стоит.
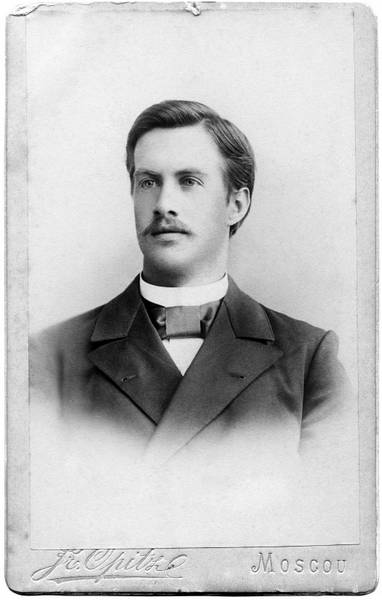
Ученик Школы живописи, ваяния и зодчества Ильинский Сергей Михайлович. Мой дедушка.

Дедушка принимал участие в строительстве храма Христа Спасителя.
Большевики взорвали храм. Дедушка заболел и умер.

1941 год. Фронт рядом с Москвой. Папа на фронте.

Папа. Валериан Ношреванович Басилашвили. Директор Московского политехникума связи.
Все звали его Валериан Николаевич.

Папа среди студентов участников одной из первых послевоенных первомайских демонстраций.
Демонстрировали любовь к партии и правительству.

Тбилиси. 1942 год. Эвакуация. «Капитанское» пальтишко куплено в 1940 году в ЦУМе.
Штаны и рубашку сшила бабушка.

Мой лучший друг мама.

Моя любимая бабушка Ольга Николаевна.

Мама студентка университета. «Вольнослушатель».

Доктор филологических наук Ильинская Ирина Сергеевна. Мама.

Мой брат по отцу Георгий Басилашвили. Жора. Стопроцентный грузин. Окончил артиллерийское училище в июне 1941 года. Фронт. Окружение. Вязьма. Потом Харьков. Выбрался самостоятельно. Потом командир артиллерийской батареи, начштаба Отдельного артиллерийского дивизиона 76‑мм пушек 125‑й стрелковой бригады. В кровавой мясорубке на Курской дуге, под Прохоровкой был тяжело ранен. Обоз с ранеными до госпиталя не добрался

Серьезно увлекся живописью. Вид из нашей столовой. Март.

Хотьково. Попытка отобразить богатство и буйство подмосковного знойного лета.
Все живы и счастливы!

Валерия Иолко. Утро на террасе в Хотьково. Солнце бьет сквозь листья! Счастье!

Последнее Хотьковское лето. Тишина. Мама в забытьи на террасе

Семья. Новый год. Оля нас фотографирует. Обратите внимание
с каким почтением смотрит на меня внучка! Хорошо бы и дальше так!

Оля. Вот она какая!

А это Ксюша, младшая.

Галя Мшанская в дальнейшем моя жена. Это ее имел в виду Юрский, говоря, что у меня «большие Мшансы».



Галя и Ван Клиберн. Первый лауреат Конкурса им. Чайковского. Галя сняла фильм о нем «В мире звуков».

Кремль. Соборная площадь. Депутаты Съезда народных депутатов России Бэлла Куркова и я,
полные веры в счастливое демократическое будущее России, идем на съезд.
Студия МХАТ

1‑й курс Студии МХАТ. Валяют дурака (справа налево)
Володя Любимов, Миша Козаков, Володя Поболь и я
в наивной вере в легкое и прекрасное актерское будущее.

Поручик Кригер мое первое и последнее появление на МХАТовской сцене.
Красив, подлец! Спектакль «Лермонтов».

Наша концертная студенческая бригада на целине. Узнаёте?
Леонид Броневой, Рая Максимова, Юрий Горохов, Володя Поболь, Соня Зайкова, Женька Евстигнеев
На самом верху студент постановочного факультета забыл, к стыду своему, кажется, Юра Прокофьев Фотографировал я.

Тарханов И. М. (стоит слева); сидят Радомысленский В. З. («папа Веня»), Тарасова А. К., Сарычева (сценическая речь),
Вершилов Б. И., Виленкин В. Я. Массальский отсутствует у него сегодня «Воскресение», роль «от автора»

Павел Владимирович Массальский «Паша».
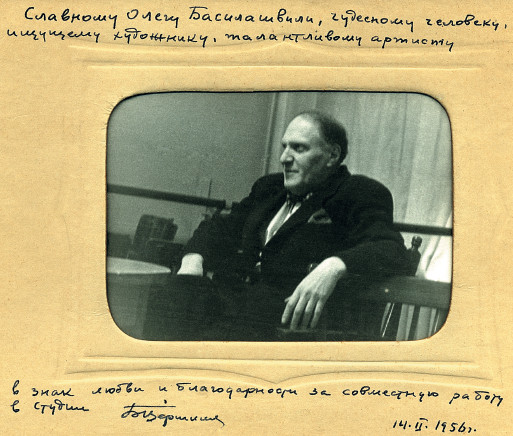
Борис Ильич Вершилов подарил это фото с надписью перед выпуском, на 4 курсе. Снимал Женька Евстигнеев.
Ленинград. БДТ

Рисунок Анатолия Евлампиевича Гаричева, нашего артиста. БДТ.

Это я в крохотной роли Лапченко в спектакле «Иркутская история»
Толя Гаричев точно схватил «зерно» моей роли.

Острим. Юрский и я после «Лисы и винограда».

Это Гаричев нарисовал меня в роли Куклина, спектакль «Океан».

Сцена из телеспектакля «Обломов». Захар Н. Боярский, Обломов (лежит) я. Рисунок Гаричева.

«У вашего Андрея паралич воли! Понимаете?! Паралич! Это наша общая беда!»

«Три сестры» конец надеждам, конец жизни. Очередной Бобик в коляске.

Точно схваченное Гаричевым «зерно» моего Прозорова безвольное тело, придавленное прозой жизни к земле,
и взгляд ввысь, в будущее: « но когда я думаю о будущем, то как хорошо!»

«Три сестры». Второй акт. Вот они все, мои дорогие: Юрский Тузенбах, Штиль Родэ, Трофимов Чебутыкин,
Попова Ирина, Волков Федотик! Святки. «Ах вы, сени, мои сени »

Гример Тадеуш Щениовский и я. Изображаем сицилийских мафиози.

В этом моем портрете, нарисованном Гаричевым, весь я.

Пашка Луспекаев. Мой сосед по лестничной площадке. Павел Борисович.
Гениальный артист. Рисунок Гаричева.

Тенякова, Юрский, Боря Лёскин. Гастроли. Лёскин сейчас в Америке, преподает, снимается.

Гога счастлив. Репетиция. Может быть, я на сцене? Хотя вряд ли.
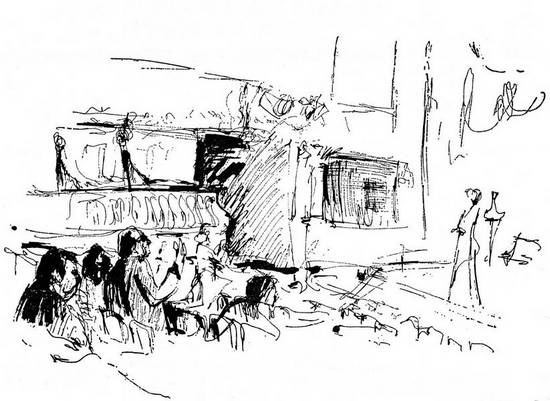

Репетиция «Трёх сестер». Рисунок Гаричева.

Та самая сцена прощания из «Беспокойной старости».
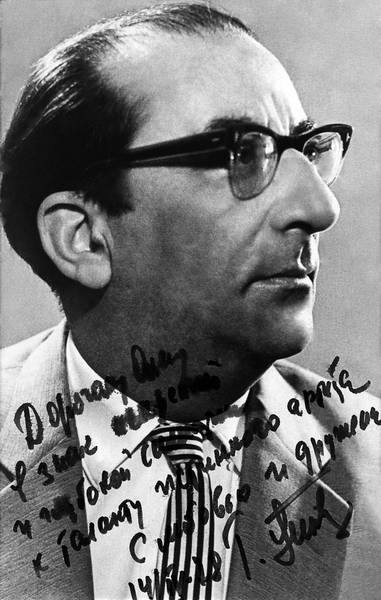
Георгий Александрович. «Дорогому Олегу в знак искренней и глубокой симпатии к таланту истинного артиста.
С любовью и дружбой. Товстоногов. 14/IV 78».


(вверху и справа)
«Лиса и виноград». Глупый мудрец Ксанф.

Таким увидел моего Хлестакова Толя Гаричев. А я себя таким и чувствовал.

(справа и внизу)
Хлестаков: первое появление и с Марьей Антоновной Теняковой.



Заблудовский Троттер (на фото вверху) , Данилов Уордль (на фото внизу) и я «Джингль, сэр,
Альфред Джингль, эсквайр! Беспоместный и бездомный эсквайр, сэр!».

Спектакль Юрского «Мольер». Этот красавец с ледяным взором Людовик XIV, «Король‑солнце».

«Волки и овцы». Лыняев.

«Дядя Ваня». Товстоногов: «Пэрерыв! А вы, Кирочка и Олег, подойдите ко мне в зал!»

Иван Петрович Войницкий в щегольском галстуке. «В такую погоду хорошо повеситься »

С «букетом» почти завядших роз неожиданно застаю Елену в объятиях Астрова.

«Дядя Ваня». «Уехали Всё будет по‑старому »

«Дачники». Адвокат Басов. Роковая «пьяная» сцена. Репетиция.

«Энергичные люди». Обожал играть эту роль «Человека с простым лицом».

«История лошади». Князь Серпуховской. На «Ревизоре» надорвал ахиллово сухожилие.
Стою в позе Дениса Давыдова из‑за гипса. Никто не заметил. А мне эта поза даже помогла.

Картина заслуженного художника РСФСР Анатолия Левитина. Мои роли толпятся вокруг меня.
Здесь и Лыняев, и Людовик, и Хлестаков, и Бочаров, и Прозоров, и Джингль, и Басов, и дядя Ваня (с револьвером), и Серпуховской
Не забыт «Осенний марафон» в телевизоре А крохотная фигурка это я на концерте.

Последняя моя роль, которую видел Товстоногов. Илл в «Визите старой дамы».
Клара Валентина Ковель. «Гарнир есть, а зайца нет »

«На дне» последний спектакль Товстоногова. Барон.

Г. А. Товстоногов. Человек, создавший великий театр, театр‑семью,
театр репертуарный, театр единомышленников. Идет репетиция. «Marlboro».

Как хорошо! Париж, гастроли, свобода! Все живы‑здоровы!

Солнце, жара, виски Авиньон.
Кино

«Возвращение Святого Луки». Катя Васильева, Рыжаков, Дворжецкий и я
в роли спекулянта иконами Лоскутова веселимся в перерыве.

«О бедном гусаре ». Мерзляев. Впоследствии Мерзяев.

«Раба любви» Михалкова. Кинопредприниматель Южаков.

«Осенний марафон» Г. Данелии. Замечательная Неелова и я Бузыкин
после столкновения с автомобилем.

Данелия показывает. Народу тьма. А в кадре я один.

«Вокзал для двоих» Рязанова. Первый съёмочный день. И сразу поцелуй.
Мы с Люсей Гурченко стесняемся пока.

Последний кадр «Вокзала для двоих» только что снят. Всё!
Вся киногруппа на память! Все вместе.