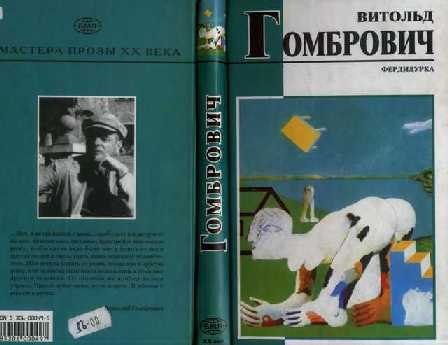
Витольд ГОМБРОВИЧ
ФЕРДИДУРКА
Роман
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«КРИСТАЛЛ»
2000
Witold Gombrowicz
FERDIDURKA
Перевод и вступительная статья переводчика А. Н. Ермонского
Вступительная статья И.
Г. Мосина
Выпускающий редактор Р.
В. Грищенков
В оформлении обложки и титула использована работа Хорста Антеса
OCR,
вычитка – Давид Титиевский,
февраль
2007, Хайфа
Библиотека Александра Белоусенко
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ
С ВИТОЛЬДОМ ГОМБРОВИЧЕМ,
ИЛИ О ПРЕВРАТНОСТЯХ СУДЬБЫ
НЕКОТОРЫХ КНИГ
Есть расхожее выражение:
«Книги имеют свою судьбу». Полностью готов под этим подписаться. А от себя
добавил бы еще вот что: иногда книги мистическим образом повторяют судьбу своих
создателей.
Это неловкое
вступление понадобилось мне для того, чтобы поведать обычную, и в то же время
абсолютно невероятную историю, случай, одним из действующих лиц которого
довелось быть мне. Что касается другого действующего лица, то им, волею Судьбы,
оказался (не удивляйтесь!) карманньй томик рассказов Витольда Гомбровича с
интригующим названием «Преднамеренное убийство».
Для меня и до этого
случая фигура Гомбровича, маргинала, мистификатора, гражданина Мира, была
привлекательной и таинственной. А после всего, что случилось, поверьте, я
проникся к этому автору и его творениям просто-таки мистическим чувством.
Первый раз я услышал
имя Гомбровича задолго до того, как попала ко мне в руки его первая книжка.
Странный человек, писавший странную прозу, живший везде, и в то же время нигде
конкретно, не мог не вызывать любопытства. О нем слышали почти все, о нем
спорят многие, и вместе с тем, на сегодняшний день реально прочитали единицы.
Не оказался исключением и я. Еще в начале 90-х раздобыв в свою собственность
томик рассказов этого автора, я не кинулся жадно читать его (мое сознание в тот
момент дремало, удовлетворенное фактом обладания), и маленькая кни-
5
жица отправилась ждать
своего часа в компании ей подобных (из библиотечки журнала «Иностранная
литература»). Мог ли я тогда подумать, что и книги способны жестоко мстить за
проявленное к ним равнодушие?
И вот совсем недавно
это имя снова зазвучало, только теперь уже в несколько иной интонации, в ином,
так сказать, контексте — мне предложили подумать об оформлении книги сочинений
Витольда Гомбровича. Ситуация потребовала более близкого знакомства, и я извлек
наконец-то на свет сборник рассказов «Преднамеренное убийство». Именно в эти
дни мне предстояло ехать на пару дней в Москву, и вечный вопрос «что взять
почитать в дороге?» даже не возникал. Книга Гомбровича показалась мне тогда
идеальной «книгой для поезда» (как впоследствии и оказалось).
Наша привычка
относиться к книгам, как к вещам — дурная привычка. И унижает она не книгу, а
нас. А ведь любая книга — это ни что иное, как проекция авторского сознания,
его мыслей и чувств на бумагу, я бы сказал, тень его личности. Книга утратила
для нас качество уникальности, а книжный дефицит, как ни странно, еще больше
развратил нас. Колоссальное количество библиотек, где книги томятся без
читательского внимания, по сути являются если не кладбищами, то тюрьмами. И
если на минуту допустить мысль (а как соблазнительно ее допустить), что книга —
это часть ее автора, которая живет, чувствует, ликует, боится, скорбит, как и
он сам, то подумайте, что сулит ей такая поездка, этот «полночный экспресс» в
сторону Москвы...
Устроившись кое-как
на своем месте в сидячем вагоне поезда (друтих билетов добыть не удалось), я с
нетерпением извлек из кармана томик Гомбровича и весь отдался чтению. Очень
скоро самые смелые мои ожидания подтвердились: это была чудесная, прозрачная проза
ироничного и абсолютно свободного человека, каждой строчкой своей отзывавшегося
в моей душе ликованием. Вот когда я пожалел о том, что не прочитал книги
раньше, самолично лишая себя такого удовольствия все это время. Но книга
6
была у меня в руках, и я был
полон решимости получить это удовольствие сейчас.
Первый (и последний)
рассказ был очень озорной и печальный одновременно: история смертельно больного
эгоиста, к тому же в самом начале повествования публично оскорбленного неким
адвокатом. На протяжении этой короткой истории герой упражнялся в сведении
счетов со своим обидчиком весьма оригинальными и разнообразными способами. Но
лучше читать сам рассказ, чем его неловкий пересказ. А потому — умолкаю. Скажу
только, что к концу его я был уже без ума от Гомбровича, его удивительного
умения рассказывать истории.
Тем временем ночь
вступила в свои права, и в вагоне погасили свет. Читать стало тяжело, поэтому я
решил немного покемарить в ожидании рассвета. Книгу я положил туда, куда обычно
я кладу ее в электричке, когда устаю читать — в канавку вдоль оконной рамы. Но
пассажирский поезд — не электричка, и на месте ожидаемой канавки оказалась
прореха, возникшая между стеклом опущенного окна и рамой. Надо ли говорить, что
книжка угодила прямиком туда. Закон подлости, скажете вы. Я же вижу в этом
нечто большее, чем просто случайность.
Первое время уголок
ее предательски торчал из щели, как бы поддразнивая меня. Мне и нужно-то было
лишь поднять стекло, чтобы книжка моя, как на лифте, вернулась в хозяйские
руки. Я же, наоборот, пытался ухватить беглянку пальцами, и только еще больше
проталкивал ее.
В какое-то мгновение
мне показалось, что книга сама прыгнула в пустоту панели. Обман зрения, скажете
вы. Не думаю. Скорее это было похоже на дерзкое бегство, впрочем, вполне в духе
самого пана Гомбровича.
Остаток ночи я
провел в планах, как вернуть себе мою книгу. Сна, конечно, уже не было. До сна
ли тут? А в те минуты, что удавалось забыться, мне мерещились самые невероятные
способы возвращения «блудной книги», извлечения ее из-за пресловутой панели.
Между тем рассвело
настолько, что можно было снова приниматься за чтение, и это еще больше
отравляло созна-
7
ние, вносило в ситуацию ту
ноту гротеска, что так тонко сквозит в текстах Гомбровича. Я был подобен Лисе,
вожделеющей винограда. Книжка была рядом, и в то же время недосягаема. Меня, в
обычной жизни человека исключительно спокойного, это просто бесило.
И тогда я
почувствовал себя, нет, я просто был им, сам
был персонажем рассказа, над которым, напиши его Гомбрович, потешался бы от
души. Но сейчас мне было не до смеха. Я упускал инициативу, и уже не мог, как я
это привык, контролировать ситуацию. Маленькая книжонка не толще мизинца,
которая помещалась в заднем кармане джинсов и еще совсем недавно принадлежала
мне всецело, вдруг на моих глазах ускользнула от меня и теперь манипулирует
моим сознанием. Я не мог думать ни о чем другом, я не мог спать. Это было
какое-то помешательство.
Остаток ночи я
провел за «интересным занятием» — испепелял гневными взорами проклятую панель.
И если бы у меня была с собой отвертка, перочинный нож или что-то другое в этом
роде, я, невзирая на любопытные взоры пассажиров, вскрыл бы эту распроклятую
панель и извлек из-за нее «моего» Гомбровича. Никогда еще ни одна книга не была
столь желанна мне.
Попав в липкую
паутину мистических настроений, я представлял себе как она лежит там, за
панелью, и подсмеивается надо мной. А
может быть так оно и было — в конце концов, что мы, собственно, знаем о тайной
жизни книг (в том, что она есть, эта тайная жизнь, лично у меня нет ни капли
сомнения). В ту минуту я не удивился бы ничему, даже если бы услышал за
перегородкой шуршание или увидел, как беглянка осторожно выглядывает из
отверстия, наслаждаясь моей растерянностью.
В момент наивысшего
отчаянья промелькнула в моей голове шальная мысль идти к проводнику и просить у
него отвертку. Однако, тщательно изучив крепежные шурупы, я убедился, что это
ничего не даст — ручка железного кресла напрочь закрывала один из них, так что
подступиться к нему не было никакой возможности. Да и сам проводник, думаю, не
стал бы стоять в стороне и смотреть на то, как но-
8
воиспеченный вандал на его
глазах терзает вверенное ему имущество из-за какой-то книжонки (знал бы он, какой!).
Измотав себя
подобными размышлениями, я забылся, наконец, тревожным, тяжелым сном.
Утро, как всегда,
решило все проблемы.
В солнечном свете
все случившееся выглядело совершенно иначе. Я от души посмеялся над своими
ночными мыслями, включая идею разборки поезда на ходу. История с книгой вдруг
увиделась мне совсем в другом свете. Это было не просто бегство. Это был выполненный
по всем правилам побег, возможно, многие годы вынашиваемый и теперь с
блеском осуществленный. Глупо и бессмысленно было препятствовать этому. Что я
мог предложить взамен? Возвращение в постылую тюрьму-библиотеку? Видимо, жизнь
за панелью поезда выглядела более привлекательной.
Окончательно с этой
утратой меня примирила мысль о том, что моя книжка теперь будет жить тайной и
свободной жизнью, станет, подобно ее автору, вечной скиталицей. А если и не
вечной, то по крайней мере до тех пор, пока вагон, в котором я оставил ее (уже
без большого сожаления), не попадет на капремонт. И когда какой-нибудь
мальчишка-слесарь открутит пресловутые шурупы, держащие панель, в его ладонь
вдруг упадет книга Витольда Гомбровича. И даже если имя это ничего ему не
скажет (а скорее всего так и будет), думаю, он прочтет ее, хотя бы из
любопытства.
Много бы я дал,
чтобы взглянуть на его изумленное лицо в момент обретения им книги. А может
быть я не прав, и изумления не будет. Может быть, по недосмотру таких же
«читателей», как я, панели сидячих вагонов пассажирских поездов просто битком
набиты всякого рода литературой, и мой Гомбрович «путешествует» в компании с
Беккетом, Сартром, Ионеско, Камю. У себя за панелями они посмеиваются над нашей
незадачливостью и неловкостью. И конечно, коротают время, оживленно споря,
цитируя друг друга, обмениваясь мыслями, «перестукиваясь» с обитателями
соседних панелей.
9
С момента этого
забавного и поучительного случая прошло уже некоторое время. Но по-прежнему,
когда я слышу, как кто-то произносит: «Витольд Гомбрович», перед моим
внутренним взором встает сидячий вагон ночного поезда Санкт-Петербург — Москва.
Не сбавляя скорости, он мчится в Москву, а потом обратно. А потом опять в Москву.
А потом снова обратно. И опять... И снова...
Вечное движение без
конца и края, без сна и покоя. Может быть
это и есть бессмертие?
Из Петербурга в
Екатеринбург
Ночь 15-16 июля 2000
года
Иван Мосин
АНДРЕЙ ЕРМОНСКИЙ*
ТРЕВОЖНОЕ ОБАЯНИЕ ПАНА ВИТОЛЬДА**
Витольд Гомбрович,
наверное, самый удивительный, самый обаятельный и самый парадоксальный польский
писатель уходящего столетия.
Правда, он не из тех
«уютных» литераторов, которых можно любить или не любить. Он — из тех, кого
надо либо безоговорочно принимать, либо отвергать с порога. Потому что
Гомбрович не цацкается с читателем, не подделывается под него, он не просто
стремится рассказать ему всю правду о нем же самом, но настойчиво, даже
бесцеремонно навязывает ему эту свою правду — а она по большей части
представляется писателю довольно неприглядной. К тому же он пытается разрешить,
собственно, неразрешимую проблему: как живется человеку в мире современной ему
культуры, или, если хотите, цивилизации. По Гомбровичу, живется человеку не
сладко, как в осажденной крепости, ибо, считал он, есть что-то такое в сознании
современного человека, будто оно и само для себя ловушка.
Он умер в 1969 году,
тридцать с лишним лет назад, но книги его еще отнюдь не стали лишь достоянием
истории литературы. Они продолжают вызывать споры критиков и будоражить умы
читателей. После смерти пана Витольда о
______________
* Печатается по первому изданию, опубликованному в журнале «Иностранная литература» 1991, №1, с частичной новой редакцией переводчика, осуществленной в июле 2000 г.
** Я рискнул приспособить к русскому уху эту бессмыслицу, которая по-польски звучит так: Фэрдыдуркэ. — А. Е.
11
нем куда больше говорят и
пишут, чем его читают. И гора толкований, истолкований, осмыслений и
переосмыслений созданного им продолжает расти. А между тем, писать о
Гомбровиче, по-моему, дело не просто неблагодарное, но и совершенно
безнадежное. Уже по тому одному, что он не укладывается в прокрустово ложе так
называемой науки о литературе, всех этих правил, канонов и запретов,
придуманных, как саркастически выразился сам писатель, многочисленными
тетушками от мировой культуры с их «все усредняющей и отнимающей у жизни всякую
жизнь» ментальностью. Я не собираюсь прибавлять к этой горе гомбровичеведеиия ни камешка. Но,
провожая в свет первое у нас в стране книжное издание Фердидурки, надо, мне кажется, сказать хотя бы несколько слов о
человеке и литераторе, имя которого большинству наших читателей пока все еще,
пожалуй, не говорит почти ничего. А между тем это один из крупнейших писателей XX столетия.
Увы, сегодня
подобный казус вряд ли кого-нибудь очень уж удивит. Ведь в последние годы мы
обнаружили в собственном прошлом, обнаруживаем в настоящем, обнаруживаем в мире
вокруг нас столько пресловутых «белых пятен», что порой кажется, будто мы пробудились
вдруг на одиноком острове в безбрежном белом океане, и принялись отчаянно,
нередко беспорядочно приращивать себе земли, постигать то, что другими уже
постигнуто, освоено, присвоено.
Дело это
необходимое, но тяжкое неимоверно. Ибо время упущено, и то, что могло (и должно
было) при нормальном порядке вещей стать частью нашей собственной духовной
культуры давно, нам еще только предстоит «переварить» как нечто едва явившееся
на свет. А вокруг совсем иной мир, иные берега, иные вкусы...
Сто лет назад, на
пороге уходящего, XX века, польский прозаик и критик Кароль Ижиковский
написал роман Paluba (на русский слово это перевести непросто — то ли крытый экипаж, то ли
нечто бесформенное, безобразная женщина, бабища, уродина, то ли колода-манекен,
которую портные используют в своих мастерских), в нем он
12
вскользь высказал довольно
странное для своего времени суждение: человеку вечно что-то мешает попасть в такт жизни другого человека, а
потому, мол, не следует принимать в расчет мнения о себе других людей, но надо
жить, принимая в расчет, что такое мнение о тебе существует. Мне кажется, что
схожая мысль стала генеральной идеей, а может, и отправной точкой и жизни, и
творчества Витольда Гомбровича, который не столько не мог, сколько не хотел
попадать в такт устоявшейся, общепринятой, если так можно выразиться, жизни.
Он родился на грани
столетий, в 1904 году, в нынешней Литве, которая была тогда, как и Царство
Польское, частью Российской империи, в семье старинного дворянского рода, но
уже не знатной и не богатой, отец писателя расстался с земледелием и заделался
заводским управляющим. Гомбрович чутко переживал это своего рода пограничье собственного бытия: между Литвой и Польшей, между деревней и городом, между высшим светом и средним классом.
Эти между, писал он в Дневнике, потом «размножатся вокруг меня
до такой степени, что станут едва ли ни местом моего жительства, моим истинным
отечеством». Так, собственно, оно и было: Гомбрович окончил юридический
факультет, собирался быть адвокатом, не получилось, стал писателем, но
писателем, путь которого в литературу и в литературе отнюдь не был усеян
розами.
Он дебютировал в
тридцатые годы, и нельзя сказать, чтобы удачно. Молодого прозаика встретили
поначалу чуть ли не в штыки. Он шокировал, издевался, раздражал. А «Фердидурку»
(1937) — на мой взгляд, один из самых лучших, парадоксальных и
трагически-тревожных романов этого писателя — польская предвоенная критика всех
направлений (и правого, и левого) почти единодушно отвергла. И лишь годы спустя
книги Гомбровича были по-настоящему поняты и приняты — но сначала не на родине.
В канун рокового
сентября 1939 года Гомбрович отправился за границу и волею обстоятельств
расстался с Польшей навсегда. Без малого четверть века прожил он в Аргентине,
13
затем перебрался в Западную Европу
и окончил свои дни во Франции — писателем, известным всему миру. Но путь к
известности начался именно с «Фердидурки». Этот роман в 1947 году вышел в
Аргентине по-испански, после чего переводы его стали появляться в одной стране
за другой.
Почему так? Почему
второе польское издание «Фердидурки» увидело свет в 1957 году, первое русское в
журнале лишь в 1991 году, а книжное только сейчас, на пороге XXI века? Думаю, что
роман этот — своего рода манифест антитоталитаризма — способен и постоять за
себя сам, и сам лучше всего это объяснить. Но вот как «объяснить» сам роман?
Или хотя бы только его название — «Фердидурка», — ведь такого слова ни в одном
языке нет, и автор не упоминает его ни разу? Или — чего уж вроде бы проще — о
чем, собственно, книга эта написана?
Фердидурку, по-моему, легче понять, если
прочитать ее как книгу, рассказывающую о страдании человека, порождаемом
рамками, в которые загоняет нас другой человек, о страдании, проистекающем «из
того, что мы задыхаемся и захлебываемся в тесном, узком, жестком воображении о
нас другого человека». Гомбрович словно ставит опыт: способен ли его герой
освободиться от насилия и гнета чужих мнений о нем или он обречен покориться,
позволить другим напялить на себя маску по их собственным вкусам. В Дневнике писатель, в сущности, отвечает
на этот вопрос отрицательно, по крайней мере, очень пессимистично: «...мой
человек создается извне, иначе говоря, он по природе своей неподлинен — он не
является собой, поскольку его вычеркивает форма, которая рождается между людьми.
Поэтому его „я" помещено в этой „междучеловечности". Вечный актер, но
актер по природе, поскольку его неестественность — свойство врожденное, она
представляет собой черту его человечности: быть человеком значит быть актером
(...) Так как же в таком случае понимать схватку с рожей, с миной в
„Фердидурке"? Нет, не так, что человек должен избавиться от своей маски,
ведь под нею никакого лица у него нет, — тут можно лишь требовать, чтобы он
осознал свою неестественность и ее признал».
14
Такую маску автор Фердидурки называет «рожей», которая может намертво прирасти к лицу, заменить его
собою. Герой Гомбровича испытывает на себе диктатуру
усредненной массы, враждебной к личности, стремящейся приладить ей эту
самую рожу по образу и подобию
собственной, да еще прилепить к ней и попочку,
ибо в представлении людей серьезных, людей подавляющего все и вся большинства («взрослых», по определению
писателя) чистота, непосредственность, свобода — всего лишь достойные
искоренения наивность, невинность, незрелость.
В 30-е годы, когда
писался роман «Фердидурка», то, что мы называем сегодня массовой культурой,
только-только зарождалось. И Гомбрович был среди первых, кто сумел понять,
предугадать, прочувствовать те сложнейшие проблемы, с которыми
стандартизированное общество XX века, защищающее себя стандартизированной
«культурой» мысли, социального поведения, искусства, столкнет человека,
индивидуальность, личность. Он увидел угрозу в жесткой и нетерпимой «зрелости»
конформизма, способного лишить человека искренности, самостоятельности,
свободы.
Однако понадобились
кошмары сталинщины и гитлеризма, а затем и трагедия второй мировой войны, чтобы
этот вопль Гомбровича по человеку и человечности был услышан в Европе и
Америке. Его Фердидурка пережила
второе рождение, а сам он своими книгами оказал огромное влияние на мировую
культуру. Без них не только польская, вся мировая культура сегодня выглядела бы
и куда беднее и куда беспомощнее — перед вызовами и угрозами, которые обрушил
на человека XX век и, видимо, еще обрушит XXI...
Вне этого влияния
почти полвека оставалось, по меньшей мере, треть человечества — та, что жила в
так называемом социалистическом лагере. Теперь настало время и для этой трети
извлекать уроки из собственного прошлого, в чем могут помочь и Фердидурка, и все последовавшие за ней
книги Витольда Гомбровича.
«Фердидурка» —
чтение захватывающее, но не простое. Это и философская повесть, и гротеск, и
литературное эссе, и лирическая исповедь, изрядно приправленная сарказмом
15
и самоиронией, —
единственной, пожалуй, надежной интеллектуальной защитой души в век
безудержного прогресса всего и вся. Но, конечно же, «Фердидурка — это прежде
всего настоящая литература.
Это — подлинное
пиршество слова, которое, признавался Витольд Гомбрович, «развивается во
времени, это как шествие муравьев, и каждый приносит что-то новое, неожиданное,
тот, кто выражает себя словом, постоянно рождается заново, не успеет кончиться
одно предложение, как следующее его уже дополняет, договаривает, и вот в
движении слов выражается бесконечная игра моего существования...»
ГЛАВА I
ПОХИЩЕНИЕ
Во вторник я
проснулся в тот бездушный и призрачный миг, когда ночь, собственно, уже
кончилась, а рассвет еще не успел как следует устояться. Внезапно вырванный из
сна, я чуть было не помчал в такси на вокзал, ибо представлялось мне, я уезжаю,
— и тут только с горечью осознал, что поезда на вокзале для меня нет, никакой
час для меня не пробил. Я лежал в
тусклом свете, и тело мое непереносимо боялось, стискивая страхом мой дух, дух
стискивал тело, и каждый прекрошечныи нервик сжимался в ожидании того, что
ничего не произойдет, ничего не переменится, ничего никогда не наступит и — на
что бы ни решиться — не начнется ровным счетом ничего. Это был ужас
несуществования, страх небытия, боязнь нежизни, опасение нереальности,
биологический вопль всех моих клеток, напуганных внутренним раздором,
раздроблением и распылением. Ужас непристойной мелкости и мелочности, переполох
распада, паника, порождаемая созерцанием обломка, страх перед насилием, тем,
которое гнездилось во мне самом, и тем, которое угрожало извне, — а самое
главное, мне постоянно сопутствовало, не отставая ни на шаг, нечто, что я мог
бы определить как ощущение непрекращающегося передразнивания и издевок клеточек
моего существа, насмешливости, присущей разнузданным частям моего тела и
аналогичным частям моего духа.
19
Сон, который докучал
мне ночью и разбудил меня, был выражением ужаса. Время хлынуло вспять, что
должно быть воспрещено природе, я увидел себя таким, каким был в пятнадцать и
шестнадцать лет, — я перенесся в юность, — и, стоя на ветру, на камне, возле
самой мельницы над рекой, я что-то говорил, слышал свой давно погребенный
петушиный, писклявый голосок, видел нос, не вытянувшийся еще на недолепленном
лице, и чересчур большие руки — я чувствовал неприятную вязкость той
промежуточной, переходной фазы развития. Я пробудился, смеясь и страшась, ибо
мне казалось, что тот, каков я сейчас, а мне за тридцать, передразнивает и
высмеивает собой неоперившегося молокососа, каким я был, а он, в свою очередь, передразнивает
меня, и что оба мы — на равных — друг другом передразнены. О ты, несчастная
память, которая велишь знать, какими путями пришли мы к нынешнему своему
достатку! И потом, почудилось мне в полусне, но уже по пробуждении, что тело
мое не единообразно, что некоторые его части еще ребячьи и что моя голова язвит
и издевается над коленкой, а коленка над головой, что палец измывается над
сердцем, сердце — над мозгом, нос — над глазом, глаз потешается и гогочет над
носом, — и все эти части дико набрасываются друг на друга в атмосфере
всеохватного и трогательного всеиздевательства. А когда я уже совсем пришел в
себя и принялся размышлять над собственной жизнью, ужас не уменьшился ни на
йоту, но стал еще сильнее, хотя порой его перебивал (или подкреплял) смешок, от
которого рот не способен был удержаться. На полдороге жития моего очутился я в
чаще темного леса. Лес этот, что хуже всего, был зеленый.
Ибо наяву я был тоже
неустоявшийся, разрозненный — как и во сне. Недавно я перешел Рубикон
неотвратимого тридцатилетия, миновал верстовой столб, по метрике, по внешности
я был человек зрелый, од-
20
нако же я им не был — ибо
чем же я был? Тридцатилетним игроком в бридж? Случайным и временным работником,
который устраивал свои мелкие житейские дела и набивал себе шишки? Каково же
было мое положение? Я ходил по кафе и барам, встречался с людьми, обмениваясь с
ними словами, иногда даже мыслями, но положение мое оставалось непроясненным, я
и сам не знал, человек ли я, молокосос ли; и вот на рубеже лет я не был ни тем,
ни другим — я был ничем, — а ровесники, которые уже обзавелись семьями и заняли
определенные позиции, не столько в жизни, сколько в различных государственных
учреждениях, относились ко мне с оправданным недоверием. Тетушки мои, эти
многочисленные четвертьматери сбоку припека, но искренне любящие, с давних пор
старались повлиять на меня, побуждая остепениться, скажем, стать адвокатом или
чиновником, — неопределенность моя необыкновенно их огорчала, они не знали, как
говорить со мною, не зная, кто я такой, они все больше бубнили.
— Юзек, — говаривали
они между одним бу-бу и другим, — самое время, деточка. Что люди скажут? Ну, не
хочешь быть доктором, так стань хоть бабником или лошадником, но пусть будет
известно... пусть будет известно...
И я слышал, как одна
нашептывала другой, что я не умею вести себя в обществе и неопытен в жизни, а
потом они опять принимались бубнить, измученные опустошением, которое я учинял
в их головах. В сущности, такое состояние не могло продолжаться вечно. Стрелки
часов природы были неумолимы и категоричны. Когда последние зубы, зубы
мудрости, у меня выросли, надлежало признать — развитие состоялось, пришло
время неизбежного душегубства, мужчина должен убить неутешное в скорби дитя,
вспорхнуть,
21
словно бабочка, покинув труп
куколки, которая завершила свой путь. Из тумана, из хаоса, из мутных пойменных
вод, водоворотов, шумов, течений, из лозняка и камышей, из лягушачьего кваканья
мне предстояло переместиться в мир форм прозрачных, строгих — причесаться,
привести себя в порядок, войти в общественную жизнь взрослых и присоединиться к
их болтовне.
Как бы не так! Я
пробовал уже, старался — и меня передернуло смешком при мысли о результатах
этой пробы. Дабы причесаться и по мере сил прояснить, я засел за написание
книги— странно, но мне показалось, что мое пришествие в мир не может обойтись
без прояснения, хотя никто еще не видел прояснения, которое не было бы
затемнением. Я стремился книгой наперед купить их благоволение, чтобы потом,
когда произойдет личная встреча, вступить на почву уже подготовленную, и —
рассчитывал я — коли сумею взрастить в их душах благоприятное представление о
себе, представление это в свою очередь сформирует и меня самого; таким способом
я, даже если и не захотел бы того, сделаюсь взрослым. Почему, однако, перо подвело
меня? Отчего священный стыд не позволил мне написать расхоже-легковесный роман,
и вместо того, чтобы вытягивать возвышенные сюжеты из сердца, из души, я
вытянул их из нижних конечностей, вставил в текст каких-то лягушек, ноги, вещи
все сплошь незрелые и бродящие, единственно стилем, тоном, холодным и
сдержанным, изолируя их на бумаге, свидетельствуя, вот, мол, жажду расстаться с
брожением? Почему, словно наперекор собственным намерениям, дал я книге
название «Дневник времен возмужания»? Тщетно друзья отговаривали меня от такого
заглавия и советовали вообще поостеречься малейших намеков на незрелость. — Не
делай этого, — просили меня, — незрелость — понятие рискованное,
22
если ты сам себя признаешь
незрелым, кто же тебя признает зрелым? Неужто не понимаешь, что первое условие
зрелости, без которого ни-ни, — самому признать себя зрелым? Но мне казалось,
что просто не стоит слишком легко и задешево изгонять из себя сопляка, что
Взрослые чересчур сметливы и проницательны, чтобы дать провести себя, и что
тому, за кем сопляк без устали ходит по пятам, нельзя публично показываться без
сопляка. У меня, возможно, было сверхмеры серьезное отношение к серьезности, я
изрядно переоценил взрослость Взрослых.
Воспоминания,
воспоминания! Уткнув голову в подушку, спрятав ноги под одеяло, сотрясаясь то
от смеха, то от ужаса, я подводил итог своему пришествию в мир взрослых.
Слишком упорно молчат об интимных, душевных царапинах и язвах этого пришествия,
последствия которого не изживаются никогда. Литераторы, эти люди, обладающие
божественным даром рассказывать о вещах самых от них далеких и самых им
безразличных, таких, к примеру, как драма императора Карла II, доведенного до
отчаяния замужеством Брунгильды, и в мыслях не позволяют себе обратиться к
наиважнейшей проблеме собственного их превращения в человека публичного,
общественного. Им, видимо, страстно хотелось бы, дабы каждый думал, будто они
писатели милостью Божьей, а не — человеческой, будто вместе со своим талантом
они свалились на землю с неба; они стесняются открыть, какими собственными
своими уступками, каким личным поражением оплатили они право расписывать
Брунгильду или хотя бы жизнь пчеловодов. Нет, о собственной жизни ни слова —
только о жизни пчеловодов. Наверняка, сочинивши двадцать книг о жизни пчеловодов,
можно сделаться изваянием, — но какая же связь, где единение короля пчеловодов
с мужчиною, скрывающимся под личиною короля, где едине-
23
ние этого мужчины с юношей,
юноши — с подростком, подростка — с ребенком, которым ведь всякий некогда был,
какой прок вашему сопляку от вашего короля? Жизнь, которая не принимает в
расчет этих связей и единений, которая не реализует собственного развития во
всей полноте, напоминает дом, строящийся с крыши, и она неотвратимо должна
привести к шизофреническому раздвоению личности.
Воспоминания!
Проклятие человечества состоит в том, что существование наше на этом свете не
терпит никакой четкой и устойчивой иерархии, что, напротив, все постоянно
течет, переливается, движется, и каждый должен быть прочувствован и оценен каждым,
а представление о нас людей темных, ограниченных и тупых не менее важно, чем
представление людей умных, светлых и тонких. Ибо человек крепчайшим образом
скован своим отражением в душе другого человека, даже если это и душа кретина.
И я решительно возражаю против точки зрения тех моих собратьев по перу,
которые, заслышав мнение тупиц, принимают позу аристократическую и надменную,
провозглашая, что «odi profanum vulgus»*. Какой дешевый, простецкий способ
уклонения от действительности, какое жалкое бегство в фальшивое высокомерие! Я
же, в противовес этому, утверждаю, что чем суждение тупее и ничтожнее, тем оно
для нас существеннее и необходимее, это совершенно так же, как тесный башмак
дает нам знать о себе куда откровеннее, чем башмак, сделанный по ноге. Ох, уж
эта молва людская, эта бездна соображений и мнений о твоем уме, сердце,
характере, о всех подробностях твоей натуры — бездна, отверзающаяся перед
храбрецом, который мысли свои приодел типографским шрифтом и пустил гулять в
люди на бумаге, о бумага, бумага, печать, печать!
_______________
* Презираю невежественную толпу (лат.).
(Здесь и далее прим. перев.)
24
И я не веду тут речь
о самых сердечных, самых приятных суждениях семейных тетушек наших, нет, я,
скорее, намеревался коснуться суждений тетушек иных— тетушек от культуры, тех
многочисленных четвертьавторш и за волосы притянутых полукритикесс, публикующих
свои приговоры в газетах и журналах. Ибо мировую культуру облепил рой
старушенций, пришпиленных, прилатанных к литературе, чрезмерно погруженных в
духовные явности и подкованных эстетически, чаще всего обладающих какими-то
своими взглядами и мыслями, просвещенных насчет того, что Оскар Уайльд устарел,
а Бернард Шоу — мастер парадокса. Ах, они-то знают, что надобно быть
независимой, категоричной и глубокой, и потому, как правило, они независимы,
глубоки и категоричны в меру, да вдобавок их распирает тетушкина доброта. Тетя,
тетя, тетя! О, кто никогда молча и без стонов не лежал на рабочем столе тетушки
от культуры и не был кромсаем этой их ментальностью, все усредняющей и
отнимающей у жизни всякую жизнь, кто не прочитал в газете тетушкиного о себе
суждения, тот не знает пустячка, тот не ведает, что такое в тетушке пустячок.
А теперь возьмем
суждения помещиков и помещиц, суждения гимназисток, никчемные суждения мелких
чиновников и бюрократические суждения высокопоставленных чиновников, суждения
провинциальных адвокатов, преувеличенные суждения учащихся, самонадеянные
суждения старцев, равно как и суждения публицистов, суждения общественных
деятелей, суждения жен докторов, наконец, суждения детей, прислушивающихся к
суждениям родителей, суждения горничных, служанок и кухарок, суждения
двоюродных сестричек, суждения гимназисток — целое море суждений, каждое из
которых вычерчивает тебя в другом человеке и творит тебя в его душе. Ты будто
рожда-
25
ешься в тысяче меленьких
душ! Но мое положение тут было труднее и непристойное ровно настолько,
насколько моя книга была труднее, непристойнее обычной взрослой литературы.
Правда, она помогла мне обзавестись кружком незаурядных друзей, и если бы
тетушки от культуры, а также иные представители черни могли слышать, как в
узком и даже не доступном их воображению кружке Признанных и Великолепных
потчуют меня великолепием и признанием, как я веду интеллектуальные беседы в
заоблачных высях, они, верно, пали бы передо мною ниц и принялись вылизывать
мои пятки. С другой же стороны, в книге, по-видимому, должно было быть нечто
незрелое, такое, что располагало к доверительности и притягивало существа
желеобразные, ни рыба ни мясо, самый страшный слой полуинтеллигентов — период
возмужания приманивал к себе полусвет культуры. Вероятно, чересчур изысканная
для темных умов книга в то же самое время была недостаточно надменной и
напыщенной в глазах толпы, которая чувствительна только к внешним признакам
серьезности. И не однажды, выйдя из мест священных и прекрасных, где я бывал
обласкан уважением, я встречал на улице какую-нибудь жену инженера или
гимназистку, которые видели во мне родственную душу, недозрелого побратима и
земляка, похлопывали меня по плечу и восклицали: — Привет, Юзек, ты глупый, ты
— ты незрелый! — Вот так для одних я был умный, для других глупый, для одних —
значительный, для других — едва приметный, для одних — заурядный, для других —
аристократичный! Распятый между превосходством и ничтожеством, сродненный и с
тем и с другим, уважаемый и пренебрегаемый, гордый и презираемый, способный и
неспособный, как придется, как сложатся обстоятельства! С той поры жизнь моя
стала еще раздвоеннее, чем в те
26
дни, которые я провел в тиши
дома. И я не знал, чей я — тех, кто ценит меня, или тех, кто меня не ценит.
Но всего хуже то,
что, ненавидя толпу полуинтеллигентов, как, пожалуй, никто никогда еще ее не
ненавидел, ненавидя непримиримо, я сам себе изменял с толпой; отбивался от
элиты и аристократии и бежал ее дружески распахнутых объятий, бросаясь в
хамские лапы тех, кто считал меня молокососом. В сущности, первостепенное
значение, предрешающее дальнейшее развитие, имеет то, сообразуясь с чем человек определяет свою позицию и себя лепит —
к примеру, действуя, говоря, меля чепуху, сочиняя, он либо берет в расчет,
принимает во внимание одних только взрослых, состоявшихся людей, мир понятий
ясных и четких, либо же его постоянно преследует видение толпы, незрелости,
учеников, гимназисток, помещиков и землевладельцев, тетушек от культуры,
публицистов и фельетонистов, видение подозрительного, взбаламученного
полусвета, который где-то там подстерегает тебя и неспешно обвивает тебя
зеленью, наподобие вьюнов, лиан и иных растений в Африке. Ни на миг не мог я
забыть о недосвете недочеловеческих людей, — и, панически страшась, ужасно
презирая его, содрогаясь от одной только мысли о его болотной зелени, я, однако
же, не умел от него оторваться, был им заворожен, как кролик удавом. Словно какой-то
демон искушал меня незрелостью! Словно в антимирах я благоволил низшей сфере и
любил ее — за то, что она удерживает меня подле себя молокососом. Я и секунды
не мог говорить умно, хотя бы настолько, насколько меня хватает, ибо я знал,
что где-то в неведомой провинции некий доктор считает меня глупцом и ждет от
меня одних только глупостей; и я никак не мог вести себя в компании пристойно и
серьезно, ибо знал, что некоторые гимназистки ждут от меня сплошных
непристойностей. Воистину, в духовном мире
27
вершится перманентное
насилие, мы не самостоятельны, мы только функция других людей, мы обязаны быть
такими, какими нас видят, а уж личным моим провалом было то, что с каким-то
болезненным наслаждением охотнее всего я шел в зависимость к недоросткам, переросткам,
подросткам да тетушкам от культуры. Ах вечно, вечно тетка на шее — быть наивным
того ради, что некто наивный полагает, что ты наивный, — быть глупцом того
ради, что глупец считает тебя глупцом, быть зеленым того ради, что кто-то
незрелый погружает тебя в собственную зелень и полощет тебя в ней, — ах, так и
сбрендить можно, если бы не это словечко «ах», которое хоть как-то позволяет
жить! Чуть не рукой касаться этого высшего и взрослого мира — и не пробиться в
него, находиться в шаге от изысканности, элегантности, ума, серьезности, от
зрелых суждений, от взаимного одобрения, иерархии, ценности — и всего лишь
через стекло лизать эти конфетки, не иметь доступа ко всему этому, быть
приложением. Общаться со взрослыми и по-прежнему, как в шестнадцать лет,
оставаться под впечатлением, что ты только прикидываешься взрослым?
Притворяться писателем и сочинителем, пародировать литературный стиль и зрелые,
изысканные обороты речи? Вступать как художник в беспощадную публичную схватку
во имя собственного «я», тайком помогая своим врагам?
О да, перешагнув
порог общественной жизни, я был рукоположен в полусвет, щедро натерт
благовониями низшей сферы. Но еще больше запутывало дело то, что мое поведение
в обществе тоже оставляло желать лучшего, было никчемным, невыразительным и не
защищало меня от львов полусвета. Некая неумелость, порожденная упрямством, а
может опаской, мешала мне спеться с какой-нибудь зрелостью, и не раз, бывало, я
со страху просто щипал ту особу, которая льстиво лезла
28
своим духом в мой дух. Как
же завидовал я тем литераторам, уже в колыбели возвышенным и, видимо,
предрасположенным к избранности, писателям, Душа которых неустанно карабкалась
ввысь, будто ее щекотали шилом в ягодицу, — писателям солидным, Душа которых
воспринималась всерьез и которые с врожденной легкостью, в великих творческих
муках орудовали в сфере понятий столь высоких, заоблачных и раз навсегда
освященных, что сам Господь Бог был для них чем-то чуть ли не простонародным и
недостаточно благородным. Отчего же не всякому позволено написать еще один
роман о любви либо с безмерной болью разодрать какую-нибудь общественную рану и
стать Борцом за дело угнетенных? Либо слагать стихи и сделаться Поэтом и верить
в «лучезарное будущее поэзии»? Быть талантливым и своим духом насыщать и взбадривать
широкие массы духов неталантливых? Ах, какое же удовольствие казниться и
мучаться, приносить себя в жертву и сгорать, но неизменно в сферах возвышенных,
в категориях таких утонченных, таких взрослых. Удовлетворение для себя и
удовлетворение для других — самовыражаться, черпая из богатств тысячелетних
культурных институтов с такою уверенностью, будто это твой собственный счетец в
банке. Но я, к сожалению, был молокосос, и молокососие мое было единственным
моим культурным институтом. Дважды пойманный и связанный — один раз собственным
младенческим прошлым, о котором я позабыть не мог, другой раз младенчеством
воображения людей обо мне, той карикатурой, которой я запечатлевался в их
душах, — печальный невольник зелени, э, насекомое в зарослях, беспредельных и
густых.
Положение не только
тягостное, но и угрожающее. Ибо Взрослые ни к чему иному не питают такого
отвращения, как к незрелости, и нет для них ничего ее ненавистнее. Они легко
снесут любое, самое страстное бун-
29
тарство, лишь бы оно укладывалось
в рамки зрелости, им не страшен революционер, который один зрелый идеал
повергает другим зрелым идеалом и, к примеру, Монархию разрушает Республикой
либо же, наоборот. Республику надкусит и сожрет Монархией. Да, конечно, они с
удовольствием наблюдают за тем, как приходит в движение зрелое, возвышенное
дело. Но если они пронюхают у кого-нибудь незрелость, если почуют запах
молокососа и сопляка, тотчас же набросятся на него, заклюют, как лебеди утку, —
сарказмом, иронией, издевкой ухайдакают, не допустят, чтобы паскудил им гнездо
подкидыш из мира, от которого они давно уже отреклись. Так чем же это кончится?
Куда я так зайду? На какой почве (думал я) возросло это мое рабство
недоделанности, это самозабвение в зелени — оттого ли, что я родился в краю, необычайно
обильном существами неприспособленными, ущербными, промежуточными, где никто и
воротничка толком носить не умеет, где не столько Печаль и Судьба, сколько
Растяпа и Раззява шагают по полям и постанывают? А может, оттого, что жил я в
эпоху, которая каждые пять минут горазда на новые лозунги и причуды и
судорожно, во всю мочь, кривит лик свой,— в эпоху промежуточную?.. Белесый свет
сочился сквозь неплотно прикрытые шторы, ну а я, подводя таким вот образом
итоги собственной жизни, заливался краской, непристойный смешок подкидывал меня
под простыней — и я разражался беспомощным животным смехом, механическим,
ножным, будто мне щекотали пятку, будто не лицо мое хохотало, а нога. Надлежало
поскорее с этим покончить, порвать с младенчеством, принять решение и начать
сызнова — надлежало что-то делать! Позабыть, наконец, позабыть о гимназистках!
Порвать с влюбленностью тетушек от культуры и сельских жительниц, позабыть о
мелких, злых чиновниках, позабыть о ноге и собственном позор-
30
ном прошлом, запрезирать молокососа
и сопляка — прочно консолидироваться на взрослой платформе, ах, занять в конце
концов эту крайне аристократическую позицию, запрезирать, запрезирать! Не то
чтобы, как это было до сих пор, незрелостью возбуждать, притягивать,
приманивать незрелость других, но, напротив, — извлечь из себя зрелость,
зрелостью подвигнуть их к зрелости, душой заговорить с душой! Душой? Но разве
позволительно запамятовать о ноге? Душой? А нога где? Позволительно ли
запамятовать о ногах тетушек от культуры? И потом — что будет, если вопреки
всему не удастся сладить с распускающейся повсюду, пульсирующей, растущей
зеленью (почти наверняка не удастся), что будет, если я к ним обращусь зрело, а
они по старинке воспримут меня незрелым, если я к ним с умом, а они ко мне с глупостью?
Нет, нет, в таком случае незрело предпочитаю первым начать я, не хочу ставить
свою мудрость под удар их глупости, лучше уж против них двинуть глупость! А
впрочем, не хочу, не хочу, желаю с ними, люблю, люблю эти почки, ростки, эти
зеленые кустики, о! — я почувствовал, что опять меня похищают, заключают в
любовные объятия, я снова залился смехом механическим, ножным и запел
непристойную песенку:
В Сколимове, у Фарамушки на вилле,
В комнатке бонны, барышни Миты,
Были в шкафу два бандита укрыты —
...и вдруг во рту
моем сделалось горько, горло пересохло — я обнаружил, что не один. Кто-то,
кроме меня, был в углу, подле печки, куда свет пока не добрался — в комнате был
другой человек.
Однако же дверь
заперта на ключ. Так, значит, не человек, всего только призрак? Призрак? Черт?
Страх? Покойник? И тотчас же я ощутил, что не покойник, а живой человек, и вмиг
весь сжался в комок — я почув-
31
ствовал человека, как собака собаку. И опять во рту сушь, сердце колошматит, дыхание прерывается — это сам я стоял у печки. На сей раз то не был сон — у печки действительно стоял мой двойник. Я, правда, заметил, что он напуган еще больше меня; стоял, опустив голову, глаза долу, руки по швам — его страх придал мне смелости. Из-под одеяла рассматривал я украдкой вроде бы самого себя и видел это лицо, которое было мое и не мое. Оно проступало сквозь густую, темную зелень, само же не такое зеленое, — это личина, которую я носил на себе. Вот нос мой... вот мой рот... вот уши мои, дом мой. Приветствую вас, знакомые углы! И какие знакомые! Как хорошо знал я это искривление губ, выдающее укрываемый страх. Вот уголки рта — вот подбородок — вот ухо, которое когда-то порвал мне Здзись, — знаки и признаки двоякого рода воздействий, лицо, которое смяли две силы, внутренняя и внешняя. Было это мое — или же я этим был — или все-таки это было чужое — а я, однако, этим был.
Мне вдруг показалось
невероятным, чтобы это мог быть я. Когда в зеркале мы неожиданно увидим себя,
какой-то миг мы еще сомневаемся, мы ли это, — вот точно так же меня удивила и
покоробила поразительная конкретность этой фигуры. Со странно укороченными и
причесанными волосами, с веками, в брюках, с устройствами для слуха, зрения и
дыхания — да, ведь это же все мое, но я ли это был? Уточненный — четкий в
очертаниях и до мелочей прорисованный, подробный... чересчур четкий. Он, должно
быть, заметил, что я вижу его подробности, поскольку еще больше сконфузился,
еле приметно усмехнулся и сделал робкое движение рукой, растворившееся во
мраке.
Но свет в окне
набирал силу, и фигура прочерчивалась все резче — уже пальцы рук были видны и
ногти — и я все это видел... а дух, видя, что я вижу, как-то нахох-
32
лился и, не поднимая глаз,
делал мне рукою знаки, чтобы я не смотрел на него. Не мог я не смотреть. Так
вот, значит, каким я был. Чудной, и вправду, как мадам Помпадур. И случайный.
Почему такой, а не иной? Химера. Все его недостатки и несовершенства обнажались
при свете дня, а он стоял съежившись, словно ночная тварь какая-нибудь, которую
солнце обрекает на роль добычи, — вроде крысы, пойманной посреди комнаты. И
подробности проступали все осязаемее, все страшнее, отовсюду вылезали наружу у
него части тела, разрозненные части, и части эти были старательно вычерчены,
конкретизированы... до пределов позорной выразительности... до пределов
позора... Я видел палец, ногти, нос, глаз, бедро и ступню, и все это было
вывернуто наружу, — будто загипнотизированный подробностями, я встал и сделал
шаг ему навстречу. Он вздрогнул и замахал рукой — словно извинялся передо мной
за себя и говорил, что, мол, это не то, что, мол, все равно — позволь, прости,
оставь... но жест его, начатый предостерегающе, завершился как-то пошло, — я
двинулся на него и не в силах уже сдержать вытянутой руки со всего маху вмазал
ему по физиономии. Вон! Вон! Нет, да это же не я вовсе! Это что-то случайное,
что-то чужое, навязанное, какой-то компромисс между внешним и внутренним
мирами, это вовсе не мое тело! Он застонал и исчез — дал стрекача. А я остался
один, да, собственно, не один — ибо меня не было, я не чувствовал, чтобы я был,
и каждая мысль, каждый мой порыв, поступок, слово — все казалось мне не моим, а
вроде как помещенным вне меня, сделанным для меня, — а на самом-то деле я
другой! И тогда охватило меня страшное возмущение. Ах, создать собственную свою
форму! Выплеснуться наружу! Самовыразиться! Пусть же мой образ рождается из
меня, пусть никто его мне для меня не лепит! Возмущение бросает меня к бумаге.
Я вытаскиваю стопку лист-
33
ков из ящика, и вот уже
наступает рассвет, солнце заливает комнату, служанка вносит утренний кофе и
булочки, а я в окружении блистательных и отточенных форм принимаюсь за первые
страницы собственного моего творения, такого, как я, идентичного мне,
источающегося прямо из меня, творения, суверенно выражающего собственную мою
правду, обращенную против всего и против всех, но тут вдруг раздается звонок,
служанка открывает, в дверях появляется Т. Пимко, доктор и профессор, а точнее
говоря, преподаватель, эрудированный филолог из Кракова, крохотный, низенький,
худосочный, плешивый и в пенсне, в полосатых брюках, в коротеньком сюртучке, с
выпуклыми и желтыми ногтями, в шевровых штиблетиках, желтых.
Вы знаете профессора?
Вам известен профессор?
Профессор?
Ой, ой, ой, ой, ой!
При виде этой Формы, так несносно банальной и донельзя опошленной, я бросился
на свои тексты, накрыв их всем телом, но он сел, так что и мне пришлось сесть,
а сев, он выразил мне соболезнования в связи со смертью некой тетушки, которая
умерла довольно давно и о которой я совершенно позабыл.
— Память об усопших,
— сказал Пимко, — это ковчег завета над прошлым и грядущим поколеньем, как и
песнь народа (Мицкевич)*. Мы проживаем жизнь умерших (О. Конт)**. Тетушка ваша
скончалась, и это причина, по которой можно и даже нужно посвятить
_______________
* См. строки из поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод»:
О песнь народа! Ты — ковчег завета
Над прошлым и грядущим поколеньем!
(Перев. Н. Асеева)
** Огюст Конт (1798—1857) — французский философ, представитель позитивизма.
34
ей фрагмент культурной
мысли. У покойницы были свои недостатки (он их перечислил), но она обладала и
достоинствами (он их перечислил), принося тем самым пользу всем, в целом книга
неплоха, то есть, я хотел сказать, скорее на троечку с плюсом — ну, в конце
концов, коротко говоря, покойница была фактором положительным, суммарная оценка
вышла позитивной, и я посчитал для себя приятным долгом сказать вам об этом, я,
Пимко, стоящий на страже культурных ценностей, к которым, без сомнения,
принадлежит и тетушка, тем более что она уже покойная. А впрочем, — добавил он
снисходительно, — de mortuis nihil nisi bene, о мертвых либо ничего, либо хорошее, — так что,
хоть и можно было бы еще указать на то да на се, но зачем же расхолаживать
молодого автора — прошу прощения, племянника... Но что это? — воскликнул он,
заметя на столе начатую рукопись. — Не только, стало быть, племянник, но и
автор! Вижу, пробуем свои силенки на ниве? Цып, цып, цып, автор! Посмотрю вот
сейчас и приободрю...
И, не поднявшись с
места, Пимко потянулся через стол за листками, при этом он надел пенсне и
продолжал сидеть.
— Это не... Это
просто так, — пробормотал я сидя. Все вдруг пошло кувырком. «Тетушка» и «автор»
вывели меня из себя.
— Ну, ну, ну, —
проговорил он, — цып, цып, курочка.
Приговаривая так, он
протирал глаз, а затем вынул сигарету и, держа ее двумя пальцами левой руки,
двумя пальцами правой руки стал разминать; тут он чихнул, ибо табачинки попали
ему в нос, и, сидя, взялся за чтение. И сидел он умно, читая. А мне, когда я
увидел, что он читает, сделалось дурно. Мир мой пошел прахом и стал тотчас же
заново отстраиваться на на-
35
чалах классического
учителишки. Я не мог кинуться на него, ибо я сидел, а сидел я, ибо сидел он. Ни
с того ни с сего сидение это вылезло на первый план и превратилось в самую
большую преграду. И я ерзал на стуле, не зная, что сделать и как себя повести,
начал водить ногой по полу, разглядывать стены и грызть ногти, а он тем
временем последовательно и логично сидел, и это его сидение было упорядоченным
и отдавало читающим учителишкой. Тянулось это кошмарно долго. Минуты тяжелели
часами, а секунды раздувались, и я чувствовал себя нелепо, словно море, которое
кто-то захотел высосать через трубочку. Я простонал:
— Бога ради, только
не учителишка! Только не учителишкой!
Колючий, недвижный
учителишка убивал меня. Но он продолжал учительски читать и утюжить мой живой
текст, типично по-учительски поднося лист близко к глазам, а за окном дом
стоял, двенадцать окон вдоль и поперек! Сон?! Явь?! Зачем он сюда пришел? Зачем
сидел, зачем я сидел? Каким это чудом все, что было перед тем, сны,
воспоминания, тетушки, муки, духи, начатое сочинение — все оборотилось сидением
заурядного учителишки? Мир съежился в учителишку. Это становилось невыносимым.
Он сидел осмысленно (ибо читал), а я сидел бессмысленно. Я было судорожно
встрепенулся, чтобы встать, но в этот именно миг он снисходительно и цепко
взглянул на меня из-под пенсне — я уменьшился, нога стала ножкой, рука —
ручкой, персона — персонкой, человек — человечком, сочинение — сочиненьицем,
тело — тельцем, а он вырастал и сидел, посматривая на меня и читая рукопись мою
веки вечные, аминь, — он сидел.
Знакома ли вам такая
поразительная вещь, когда вы в ком-нибудь уменьшаетесь? Ах, мельчать в тетушке
— это нечто дивно непристойное, но мель-
36
чать в великом пустопорожнем
учителишке — вершина непристойного ничтожества. И я заметил, что учителишка,
словно корова, пасется на моей зелени. Престранное чувство — когда учителишка
пощипывает твою зелень на лугу, однако же в квартире, сидя на стуле и читая, —
однако же пощипывает и пасется. Со мною творилось что-то ужасное, но вне меня —
что-то дурацкое, что-то нахально иррациональное. — Дух! — завопил я. — Я! Дух!
А не бяка-автор! Дух! Дух живой! Я! — Но он сидел, а сидя, сидел, сидел как-то
сидя, он так в сидении своем засиделся, так был в этом сидении абсолютен, что
сидение, будучи окончательно глупым, было тем не менее одновременно
могущественным. И, снявши с носа пенсне, он протер его платочком, после чего
снова водрузил на нос, а нос был чем-то неодолимым. Это был носатый нос, пустой
и тривиальный, нос учителишки, довольно длинный, составленный из двух
параллельных трубочек, доведенных до совершенства. И он изрек:
— Какой еще дух?
Я заорал:
— Мой!
Он тогда спросил:
— Свойский?
Отечественный?
— Не свойский, а
свой!
— Свой? — добродушно
переспросил он. — Мы говорим о своем духе? А известен ли нам по крайней мере
дух короля Владислава? — И все сидел.
Какой еще король
Владислав? Я был словно поезд, нежданно переведенный на боковую ветку короля
Владислава. Я затормозил и открыл рот, сообразив, что не знаю духа короля
Владислава.
— А духа истории мы
знаем? А духа эллинской цивилизации? А духа галльской, духа умеренности и хо-
37
рошего вкуса? А духа никому,
кроме меня, не ведомого автора идиллий XVI века, который первым
употребил выражение «пупок»? А духа языка? Как говорят: «влажу» или «влезаю»?
Вопрос застал меня
врасплох. Сто тысяч духов вдруг задушили мой дух, я пробормотал, что не знаю, а
он спросил, что мне известно о духе Каспровича* и каково было отношение поэта к
крестьянам, после чего спросил еще про первую любовь Лелевеля**. Я откашлялся и
незаметно покосился на ногти — ногти были чистые, шпаргалки не было. Тогда я
оглянулся — словно ждал, что кто-нибудь мне подскажет. Но сзади ведь никого не
было. Не верь снам своим. Что происходит? Господи? Я быстренько вернул голову в
прежнюю позицию и взглянул на него, но взгляд был не мой, был то взгляд
насупленный, детский, полный ученической ненависти. Неуместное и анахроничное
желание возникло у меня — запустить учителю в нос бумажным шариком. Видя, что
со мной творится неладное, я судорожно попытался взять себя в руки и светским
тоном спросил Пимку, что нового в городе, но услышал не свой, обычный голос, а
писклявый, с хрипотцой, будто он у меня снова ломался, и смолк; а Пимко
спросил, что я знаю о наречиях, велел просклонять «mensa, mensae, mensae», проспрягать «amo, amas, amat»***, поморщился,
сказал:
— Ну, ладно, надо
будет немножко поработать, — вытащил записную книжку и поставил мне плохую
отметку, а при этом все сидел, и сидение его было окончательным, абсолютным.
_________________
* Ян Каспрович (1860— 1926) —
польский поэт, драматург, переводчик, ученый-филолог.
** Иоахим Лелевель (1786 — 1861)— польский историк, видный деятель
национально-освободительного движения.
*** Стол;
любить (лат.).
38
Что? Что? Мне
хотелось крикнуть, что я не школьник, что произошла ошибка, я было ринулся
удирать, но где-то сзади что-то схватило меня будто клещами и пригвоздило к
месту — детская, инфантильная попочка меня схватила. С попочкой мне было не
шевельнуться, а учителишка все сидел и сидя воплощал собою такую совершенную
учительковатость, что, вместо того чтобы закричать, я поднял вверх руку, как
это делают в школе ученики, когда хотят, чтобы их вызвали. Пимко поморщился и
сказал:
— Сиди, Ковальский.
Опять в клозет?
И я сидел в
нереальной бессмысленности, словно во сне, с замурованным ртом, ошколенный и
вышколенный, сидел на детской попочке, — а он сидел как на Акрополе и что-то
заносил в записную книжку. Наконец проговорил:
— Ну, Юзек, вставай,
пойдем в школу.
— В какую школу?
— В школу дир.
Пюрковского. Первоклассное учебное заведение. Там есть еще свободные места в
шестом классе. У тебя в образовании прорехи — и надо прежде всего их заполнить.
— Но в какую школу?!
— В школу дир.
Пюрковского. Не бойся, мы, преподаватели, любим малышню, цып, цып, цып, не
мешайте крохам приходить ко мне.
— Но в какую
школу?!!
— В школу дир.
Пюрковского. Дир. Пюрковский как раз просил меня заполнить все свободные места.
Школа должна работать. Без учеников не было бы школы, а без школы не было бы
преподавателей. В школу! В школу! Там-то уж сделают из тебя ученика.
— Но в какую
школу?!!!
— Э, только,
пожалуйста, без капризов. В школу! В школу! — Он позвал служанку, велел подать
мне
39
пальто, девушка, не понимая,
почему это чужой господин меня выпроваживает, заголосила, но Пимко ее ущипнул —
ущипнутая служанка не могла больше голосить, оскалилась, фыркнув смехом
ущипнутой служанки. Пимко взял меня за руку и вывел из дому, а на улице стояли
дома и ходили люди!
Полиция! Чересчур глупо!
Чересчур глупо, чтобы такое могло быть! Невозможно, ибо чересчур глупо! Но
чересчур глупо, чтобы мне упираться... Я не
мог, потому что рядом замухрышка-учителишка, который был учителишкой заурядным.
Совершенно так, как если с вами заговорит кто-нибудь чересчур плоско и
банально, вы не можете, ну, вот потому именно и я не мог. Идиотская,
инфантильная попочка меня парализовала, не оставила никаких сил к
сопротивлению; семеня подле гиганта, который пер широким шагом, я из-за этой
попочки ни гугу. Прощай, Дух, прощай, начатое сочинение, прощай, собственная и
истинная форма, здравствуй, здравствуй, форма страшная, инфантильная, зеленая и
неоперившаяся! П?шло ошколенный кроха подле великана-учителишки, который только
и бормочет без устали: — Цып, цып, курочка... Сопливенький носик... Люблю, э,
э... Человечек, малыш, малыш, э, э, цып, цып, цып, цыпочка. Юзек, Юзек, Юзюня,
Юзечка, маленький-маленький, цып, цып, цып, попочка, попочка, чка... — Перед
нами элегантная дама вела на поводке маленького пинчера, собачонка зарычала,
бросилась на Пимку, разодрала ему брючину. Пимко закричал, выставил
неудовлетворительный балл собачонке и ее хозяйке, заколол брючину булавкой, и
мы пошли дальше.
ГЛАВА II
ВОДВОРЕНИЕ В УЗИЛИЩЕ
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УМАЛЕНИЕ
И вот перед нами —
нет, не верю собственным глазам — довольно-таки приземистое здание, школа, в
которую Пимко, не обращая внимания на рыдания и протесты, тянет меня за ручку,
а теперь через калитку и вталкивает. Мы прибыли как раз во время большой
перемены, на школьном дворе ходили по кругу существа промежуточные, от десяти
до двадцати лет, уписывая второй завтрак, состоявший из хлеба с маслом или
сыром. В заборе, окаймлявшем двор, были щелки, и через те щелки глазели матушки
и тетушки, которые никогда не могут наглядеться на своих чад. Пимко с
наслаждением втянул в свои аристократические трубочки школьный воздух
— Цып, цып, цып, —
закричал он. — Малыш, малыш, малыш...
А между тем какой-то
колченогий интеллигент, наверное дежурный педагог, подошел к нам, выражая
величайшую почтительность Пимке.
— Господин учитель,
— начал Пимко, — вот маленький Юзя, которого я хотел бы включить в реестр
учеников шестого класса, Юзя, поздоровайся с господином учителем. Я поговорю сейчас с Пюрковским, а пока
передаю его вам, пусть он осваивается
41
со школьной жизнью. — Мне
хотелось запротестовать, но я шаркнул ногой, подул легкий ветерок, зашевелились
ветки деревьев, а с ними вместе и пучок волос на голове Пимки. — Надеюсь, он
будет вести себя хорошо, — проговорил старый педагог, гладя меня по голове.
— Ну, а как там
молодежь? — понизив голос, спросил Пимко. — Вижу, гуляют по кругу — очень
хорошо. Гуляют, толкуют между собой, а матери на них в щелочки посматривают —
очень хорошо. Нет ничего краше, чем матушка паренька школьного возраста за
забором. Никто не сумеет извлечь из него такую свеженькую, младенческую попочку
лучше, нежели матушка, надлежащим образом помещенная за забором.
— И все же они пока
недостаточно наивны, — кисло пожаловался педагог. — Не хотят быть молодыми
картофелинками. Наслали мы на них матушек, но дело двигается плохо. Мы все еще
не можем высечь из них младенческой свежести и наивности. Вы не поверите,
коллега, как они упорны и упрямы. Не хотят, и все тут.
— Падает у вас
педагогическое мастерство! — резко упрекнул его Пимко. — Что? Не хотят? Должны
хотеть. Я вот покажу сейчас, как стимулировать наивность. Давайте пари, что
через полчаса будет двойная порция наивности. План мой состоит в следующем: я
начну наблюдать за учениками и дам им по возможности наиболее наивным образом понять,
что считаю их наивными и невинными. Это, естественно, их взбесит, они пожелают
продемонстрировать, что не наивны, вот тут-то они и впадут в истинную наивность
и невинность, столь сладкую для нас, педагогов!
— Однако же, не
полагаете ли вы, — спросил педагог, — что внушать ученикам наивность —
педагогический прием несколько несовременный и анахроничный?
42
— Вот именно! —
ответил Пимко. — Побольше бы таких анахроничных приемов! Анахроничные — самые
лучшие! Нет ничего лучше истинно анахроничных педагогических приемов! Эта милая
мелюзга, воспитываемая нами в идеально нереальной атмосфере, более всего
тоскует по жизни, по действительности, и потому нет для нее ничего горше
собственной невинности. Ха-ха-ха, я им вмиг внушу невинность, запру их в этом
добродушном понятии, словно в коробочке, и вы посмотрите, какие же они станут
невинные!
И он спрятался за
ствол большого дуба, стоявшего неподалеку, а меня воспитатель взял за ручку, и
не успел я объясниться и запротестовать, как он ввел меня в ряды учеников. А введя,
отпустил мою руку и оставил в самой их гуще.
Школьники ходили.
Одни обменивались тумаками или щелчками, другие, уткнув носы в книги,
беспрерывно что-то зубрили, заткнув пальцами уши, третьи дразнили товарищей
либо подставляли им ножки, и их взгляды, безумные и затуманенные, скользили по
мне, не открывая во мне тридцатилетнего. Я
обратился к первому же попавшемуся мне под руку — был уверен, что циничный
фарс вот-вот кончится.
— Извините, коллега,
— начал я. — Как вы видите, я не...
Но тот заорал:
— Глядите! Новус
коллегус!
Меня обступили,
кто-то возопил:
— Каковым, сударь, злокозненным капризам натуры
обязаны мы тому, что персона ваша столь поздно в конуре сей объявилась?
А еще кто-то
запищал, кретинически смеясь:
— Неужли амуры с некоей дамой воздвигли преграды на
пути почтен-
43
ного
коллеги? Иль спесивый коллегус нерасторопен столь?
Слыша эту диковинную
речь, я смолк, будто кто мне язык прищемил, а они не унимались, словно не могли
остановиться, — и чем ужаснее были эти выражения, с тем большим сладострастием,
с маниакальным упрямством обмазывали они ими себя и все вокруг. И говорили — благоверная, девица, дама, цирюльник, Фебус,
любовный огнь, карапуз, профессорус, лекциус польскус, идеалус, в охотку.
Движения их были неуклюжи, лица изрыты и прыщавы, а главной темой им служили
или — малолеткам — половые органы, или — старшим — половые проблемы, что в
сочетании с архаизацией и латинскими окончаниями составляло невыразимо
омерзительный коктейль. Казалось, их плохо во что-то воткнули, куда-то небрежно
вставили, неверно разместили в пространстве и во времени, они беспрестанно
поглядывали на педагога или на матерей за забором, судорожно хватались за
попочки, а сознание, что за ними постоянно подсматривают, мешало им даже
поглощать завтрак.
Ошеломленный, я
торчал среди всего этого, не в силах решиться на объяснения и видя, что конца
фарсу не предвидится. Когда школяры заметили спрятавшегося за дубом незнакомого
господина, который пристально и изучающе наблюдал за ними, возбуждение их
достигло предела, пополз шепот, что в школу пришел инспектор, он за дубом и
подглядывает. — Инспектор! — говорили одни, хватались за книги и демонстративно
приближались к дубу. — Инспектор! — говорили другие, удаляясь от дуба, но и те,
и другие не могли оторвать глаз от Пимки, который, укрывшись за деревом, что-то
царапал карандашом на вырванном из записной книжки листочке. — Пишет что-то, —
пе-
44
решептывались тут и там. —
Заносит свои наблюдения. — Затем Пимко так ловко подкинул им листок, что,
казалось, это ветер вырвал бумажку из рук. На листочке было написано:
«На основании своих наблюдений, проведенных в школе
„X" во время большой перемены, я констатирую, что
молодежь мужского пола невинна! Таково мое глубочайшее убеждение.
Доказательством тому — внешний вид
учеников, их невинные разговоры, а также их невинные и премаленькие попочки.
Т. Пимко
29.IX. 193... Варшава».
Когда ученики
ознакомились с содержанием записки, школьный муравейник заклокотал. — Мы
невинны? Мы — сегодняшняя молодежь? Мы, которые уже ходим к женщинам? — Насмешки
и смех набирали силу бурно, хотя и исподтишка, и со всех сторон понесло
сарказмом. А, наивный дедушка! Какая наивность! Ха, ну и наивность! Вскоре,
однако, я уразумел, что смех продолжается слишком долго... что, вместо того
чтобы прекратиться, он крепчает и делается все самонадеяннее, а делаясь
самонадеяннее, становится сверх меры искусственным в своем негодовании. Что же
происходило? Отчего смех не утихал? И меня вдруг осенило, какую отраву впрыснул
им чертоподобный и макиавеллиобразный Пимко. Ибо правда состояла в том, что эти
щенята, запертые в школе и удаленные от жизни, — были невинны. Да, они были
невинны, хотя и не были невинны! Они были невинны в своей страсти не быть
невинными. Невинны в женских объятиях! Невинны в борьбе и драке. Невинны, когда
декламировали стихи, и невинны, когда играли в бильярд. Невинны, когда ели и
спали. Невинны, когда вели себя невинно. Угроза святой наивности неумолимо
тяготела над ними и даже
45
тогда, когда они проливали
кровь, истязали, насиловали или ругались — все это они делали, чтобы не впасть
в невинность!
Потому-то их смех,
вместо того чтобы стихать, набирал и набирал силу, одни покуда еще остерегались
грубой реакции, но другие сдержать себя не могли — и сперва потихоньку, потом
все скоропалительнее принялись выплевывать самую грязь и словечки, которых не
постыдился бы пьяный извозчик. И возбужденно, торопливо, исподтишка посыпали
они жуткими ругательствами, прозвищами и прочей мерзостью, а некоторые рисовали
все это мелом на заборе в виде геометрических фигур; и в осеннем прозрачном
воздухе зароилось от слов, стократ худших, чем те, которыми они меня угостили
ради встречи. Мне казалось, я сплю — ибо во сне случается, что мы попадаем в
ситуации, глупее которых и придумать нельзя. Я пробовал их образумить.
— Зачем вы говорите
ж...? — возбужденно спросил я одного. — Зачем вы говорите это?
— Заткнись, щенок! —
ответил какой-то хам, награждая меня тумаком. — Это восхитительное слово! Скажи
его сейчас же, — прошипел он и больно наступил мне на ногу. — Скажи его сейчас
же! Это единственная наша защита от попочки! Разве не видишь, что инспектор за
дубом и пристраивает нам попочку? Ты, дохлятины кусок, воображала, если сию же
минуту не скажешь самых паскудных слов, я тебе штопор сделаю. Эй, Мыздраль,
поди-ка сюда, пригляди, чтобы этот новенький вел себя прилично. А ты, Гопек,
запусти-ка анекдотец поперченнее. Господа, поднатужимся, а то он нам тут такую
популечку пристроит!
Отдав эти
распоряжения, вульгарный тип, которого все называли Ментусом, подобрался к
дереву и вырезал на нем четыре буковки таким образом, что они не
46
были видны ни Пимке, ни
мамашам за забором. Тихий смех, в котором отозвалось тайное удовлетворение,
зазвучал вокруг, матушки за забором и Пимко за дубом также принялись добродушно
посмеиваться, заслыша смех молодежи, — и воцарился смех двойной. Ибо молодые
задорно смеялись тому, что провели старших, а старшие дружески смеялись над
беззаботным весельем молодых, — и обе эти силы схватились друг с другом в тихом
осеннем воздухе, среди листьев, падающих с дуба, в шуме школьных голосов, а
старик швейцар сметал метлой мусор в мусорную яму, трава желтела, и небо было
белесым...
Но Пимко за деревом
в мгновение ока сделался таким наивным, сорванцы, захлебывающиеся от
удовольствия, — такими наивными, подлизы с носами, воткнутыми в книги, — такими
наивными, и вся вообще ситуация — такой отвратительно-наивной, что я со всеми
своими так и не высказанными протестами пошел ко дну. И не знал, кого мне
спасать — себя, коллег или Пимку? Я незаметно подкрался к дереву и прошептал:
— Господин
профессор...
— Что? — спросил
Пимко тоже шепотом.
— Господин
профессор, вы бы вышли оттуда. На другой стороне дуба они нехорошее слово
написали. Вот и смеются. Вы бы вышли оттуда.
И когда я шептал в
воздух эти глуповатые фразы, мне показалось, что я какой-то мистический
заклинатель глупости, и я поразился собственной позиции — прикрыв рукой рот,
подле дуба шепчу что-то Пимке, который стоит за дубом, да еще на школьном
дворе...
— Что? — спросил
профессор, сжавшийся в комочек за деревом. — Что они там написали?
Где-то далеко
заиграл клаксон автомобиля.
47
— Нехорошее слово!
Нехорошее слово они написали! Вы бы, профессор, вышли!
— Где написали?
— На дубе. С другой
стороны! Вы бы, профессор, вышли! Кончайте вы с этим, профессор! Не дайте им
провести вас, профессор! Вы хотели им внушить, что они невинны и наивны, а они
вам четыре буквы написали... Перестаньте же дразниться, профессор. Довольно. Не
могу я больше этого в воздух говорить. Я с
ума сойду. Профессор, да выходите же! Хватит! Хватит!
Лениво катило бабье
лето, пока я так шептал, и падали листья...
— Что, что? —
закричал Пимко. — И это мне усомниться в чистоте нашей молодежи? Да никогда! И
в жизни, и в педагогике я калач тертый!
Он вышел из-за
дерева, а ученики, завидя это совершенство, издали дикий вопль.
— Возлюбленная
молодежь! — заговорил Пимко, когда они немного угомонились. — Не думайте, будто
я не знаю, что вы употребляете в разговорах между собой непристойные и
нехорошие выражения. Я прекрасно знаю это. Но не бойтесь, никакие, даже самые
гадкие ваши выходки не в состоянии поколебать глубокого моего убеждения, что
вы, в сущности, скромны и невинны. Старый друг ваш всегда будет считать вас
чистыми, скромными и невинными, он всегда будет верить в вашу скромность,
чистоту и невинность. А что до нехороших словечек, то я знаю, что вы повторяете
их, не понимая, просто так, похвальбы ради, кто-нибудь, верно, выучился им у
служанки. Ну, ну, ничего в том дурного нет, напротив — это невиннее, чем вам
самим представляется.
Он чихнул и, удовлетворенно
вытерев нос, отправился в канцелярию потолковать с дир. Пюрковским
48
по моему делу. А матушки и
тетушки за забором пребывали в восторге и, бросаясь в объятия друг другу,
повторяли: — Какой он искусный педагог! У наших малышей попочки, попочки! — А
учеников речь Пимки привела в отчаяние. Онемев, провожали они глазами уходящего
Пимку, и только когда он скрылся из виду, градом посыпались ругательства. — Вы
слышали? — заревел Ментус. — Мы невинные! Невинные, черт бы его побрал, сука,
зараза! Он думает, мы невинные — невинными нас считает! Все мы ему невинные!
Невинные! — и никак не мог отцепиться от этого словечка, которое его опутывало,
вязало, убивало, делало наивным, невинным. И тут, однако, плотный, высокий
юноша, которого товарищи звали Сифоном, как бы тоже впал в наивность,
разлившуюся в воздухе, ибо сказал, будто обращаясь к самому себе, но так, что
слышали все, — в воздухе ясном, прозрачном, где голос звенел, словно
колокольчики на коровах в горах:
— Невинность? Зачем?
Именно невинность и есть достоинство... Надо быть невинным... Зачем?
Едва он кончил,
Ментус поймал его на слове:
— Что? Ты признаешь
невинность?
И отступил на шаг,
так это глупо прозвучало. Но взволнованный Сифон поймал его на слове.
— Признаю!
Интересно, с чего бы мне не признавать? Не такой уж я в самом деле мальчишка.
Ментус,
взволнованный, бросил насмешку в эхоносное пространство.
— Слышали? Сифон
невинный! Ха, ха, ха, невинный Сифон!
Раздались
восклицания:
— Сифон невиннус!
Неужли спесивый Сифон жены не отведал?
Посыпались фривольные
рецепты на ма-
49
нер Рея* и Кохановского**, и
мир вновь на миг сделался изгаженным. Сифона, однако, рецепты эти задели за
живое, и он разозлился.
— Да, я невинный!
Скажу больше, я не посвящен и не понимаю, с чего бы мне этого стыдиться.
Коллеги, пожалуй, никто из вас не станет всерьез утверждать, будто грязь лучше
чистоты.
И он отступил на
шаг, так это чудовищно прозвучало. Воцарилось молчание. Наконец послышался
шепот.
— Сифон, ты не
шутишь? Ты в самом деле не посвящен? Сифон, это неправда!
И каждый отступал на
шаг. А Ментус сплюнул.
— Господа, это
правда! Вы только посмотрите на него! Сразу видно! Тьфу! Тьфу!
Мыздраль закричал:
— Сифон, не может
этого быть, ты покрываешь всех нас позором, дай просветить себя!
СИФОН
Что? Я? Я должен
позволить просветить себя?
ГОПЕК
Сифон, Пресвятая
Богородица, Сифон, да подумай, не о тебе же только одном речь, ты нас
компрометируешь, нас всех — я не смогу глаз поднять ни на одну девушку.
СИФОН
Девушек нет, есть
только отроковицы.
МЕНТУС
Отр... слышали? Так,
может, и отроки, а? Может, отроки?
СИФОН
Да, коллега мысли
мои прочитал, отроки! Друзья, отчего нам стыдиться этого слова? Разве оно хуже
____________
* Миколай Рей (1505 — 1569) — первый из писателей, писавших только по-польски.
** Ян Кохановский (1530 — 1584) —выдающийся польский поэт.
50
других? С чего бы нам в
возрожденной отчизне стыдиться отроковиц наших? Напротив, лелеять их надо в
себе. Чего бы, спрашиваю я вас, искусственного цинизма ради надо стыдиться
чистых слов, таких как отрок, орел, рыцарь, сокол, дева — они ведь наверняка
ближе молодым сердцам нашим, нежели трактирный лексикон, коим коллега
Ментальский засоряет собственное свое воображение.
— Ладно говорит! —
поддакнуло несколько человек.
— Подлиза! — заорали
другие.
— Коллеги! —
воскликнул Сифон, уже ожесточившийся в собственной невинности, захваченный ею,
ею воспламененный. — Возвысим сердца наши! Предлагаю здесь и сейчас дать
клятву, что никогда не отречемся мы ни от отроковят, ни от орлят! Не отдадим
земли, откуда род наш! Род наш от отроков и отроковиц ведется! Земля наша— это
отроки и девы! Кто молод, кто благороден — за мной! Пароль — юношеский жар!
Отзыв — юношеская вера!
На этот призыв с
десяток сторонников Сифона, опаленных юношеским жаром, подняли руки и
поклялись, и лица их вдруг посерьезнели и засветились. Ментус кинулся на Сифона
в воздухе чистом, Сифон набычился, однако, к счастью, их развели, до драки не
дошло.
— Господа, —
попытался вырваться Ментус, — почему вы не дадите пинка этой орлятине,
отроковятине? Или уж кровь в вас совсем застыла? Самолюбия нет? Пинка, пинка
почему не дадите? Только пинок может спасти вас! Да будьте же мальчишками!
Покажите ему, что мы мальчишки и девчонки, а не какие-то отроковята да
отроковицы!
Он бушевал. Я смотрел на Ментуса — капельки пота
покрыли лоб его, бледность разлилась по щекам. У
51
меня теплилась надежда, что
после ухода Пимки я сумею как-нибудь прийти в себя и объясниться — ха, как тут
придешь в себя, когда в двух шагах в воздухе свежем и живительном все крепли и
крепли наивность и невинность. Попочка преобразилась в отрока и мальчика. Мир
словно распался и теперь опять срастался на началах отроковятины, мальчика. Я
отступил на шаг.
Взволнованный Сифон
в бледно-голубоватом пространстве, на твердой земле школьного двора,
испещренной нитками теней и пятнами света, воскликнул:
— Прошу прощения, но
Ментальский сеет смуту! Предлагаю не обращать на него внимания, поступим так,
как будто его и нет, отступимся от него, коллеги, это изменник, предатель
собственной молодости, он не признает никаких идеалов!
— Какие идеалы,
осел? Какие идеалы? Твои идеалы сродни тебе, какие бы распрекрасные ни были, —
барахтался Ментус в сетях собственных слов. — Неужели вы не чувствуете, не
видите, что его идеалы должны быть розовыми и жирными, с огромным носом? Скоты!
Скоро стыдно будет на улице показаться! Неужто не понимаете, что истинные
мальчишки, сыновья сторожей и мужиков, разные там подмастерья и ученики, парни
в нашем возрасте смеются над нами! Ни во что нас не ставят! Защитите мальчишку
от отроковятины! — просил он всех вокруг. — Мальчишку защищайте!
Возмущение росло.
Раскрасневшиеся ученики наскакивали друг на друга, Сифон стоял неподвижно,
сложив руки на груди, а Ментус сжимал кулаки. За забором матушки и тетушки тоже
пришли в сильное возбуждение, плохо понимая, что происходит. Но большинство
учеников пребывало в нерешительности и, набивая себе рты хлебом с маслом,
только и твердили:
52
— Неужли спесивец Ментус пакостник? Сифонус
идеалистус? Зубрите же, зубрите, не то пару схватим!
Другие, не желая во
все это вмешиваться, вели благопристойные беседы о спорте и прикидывались,
будто их страсть как интересует какой-то футбольный матч. Но то и дело
кто-нибудь, будучи, по-видимому, не в силах устоять перед жаркой и дразнящей
темой спора, прислушивался, раздумывал, заливался румянцем и присоединялся к
группе Сифона или же Ментуса. Преподаватель на скамейке вздремнул на солнышке и
сквозь сон издалека наслаждался юношеской наивностью. — Эй, попочка, попочка, —
бормотал он.
Лишь одного ученика
не захватило всеобщее идейное возбуждение. Он стоял в сторонке и преспокойно
грелся на солнышке в своей сетчатой майке и мягких фланелевых брюках, с золотой
цепочкой на запястье левой руки. — Копырда! — кричали ему обе партии. —
Копырда, иди к нам! — Казалось, он возбуждал всеобщую зависть, враждебные
лагери хотели его привлечь к себе, он, однако, не слушал ни тех, ни других.
Выдвинул вперед одну ногу и стал ею притоптывать.
— Мы презираем
мнения сторожей, подмастерьев и всяких уличных мальчишек! — крикнул Пызо, друг
Сифона. — Они не интеллигентны.
— А гимназистки? —
озабоченно отозвался Мыздраль. — Вы и мнения гимназисток презираете? Подумайте,
что подумают гимназистки?
Раздались крики:
— Гимназистки любят
чистых!
— Нет, нет, они
предпочитают грязных!
— Гимназистки?! —
презрительно оборвал Сифон. — Нас заботит лишь мнение благородных девиц, а они
с нами!
53
Ментус подошел к
нему и срывающимся голосом сказал:
— Сифон! Ты нам
этого не сделаешь! Отступи, и я отступлю! Давай отступим вместе, хочешь? Я
готов... извиниться перед тобой, готов все сделать... только ты отступись от
этих слов... и позволь просветить тебя. Отступись от отроковят. А я от
мальчишек отступлюсь. Это не только твое личное дело.
Пылашчкевич, прежде
чем ответить, смерил его ясным и мягким, но полным внутренней силы взглядом. А
с таким взглядом он не мог ответить иначе, как сильно. И он ответил, отступив
на шаг:
— За идеалы я готов
отдать жизнь!
Но Ментус уже несся
на него с кулаками.
— Айда! Айда! На
него, ребята! Бить отрока! Бей, убей, бейте, убивайте отрока!
— Ко мне, отроки, ко
мне! — крикнул Пылашчкевич. — Защищайте меня, я не просвещен, я отрок ваш,
защищайте меня! — пронзительно орал он. И, слыша этот призыв, многие
почувствовали в себе отрока, восстающего против мальчишки. Окружив Сифона
плотным кольцом, они оборонялись от приспешников Ментуса. Посыпались удары, а
Сифон вскочил на камень и вопил, вдохновляя своих сторонников, — но ментусовцы
стали брать верх, дружина же Сифона отступала и слабела. Уже казалось, что
отроку пришел конец. Но тут Сифон, почувствовав, что поражение близко, из
последних сил запел на мотив «Марша соколов»:
Эй, братья, ребятки, подбавьте-ка сил,
Чтоб отрок из мертвых восстал, чтобы жил!
Песнь, тотчас же
подхваченная, разумеется, крепла и вздымалась ввысь, ширилась и покатила
волной. Они пели, стоя недвижно, устремив по примеру Сифона взоры свои
одновременно к какой-то далеко
54
звезде и прямо в носы неприятеля. У неприятеля из-за этого опускались сжатые в кулаки руки. Нападавшие не знали, как подобраться к обороняющимся, как их зацепить и чем, а те пели — звезда против носа, — пели все мощнее, все жарче и все восторженнее. То один, то другой ментусовец вдруг еле слышно прошепчет что-то, покрутится на месте, сделает несколько бессмысленных движений и отойдет в сторонку, наконец, и сам Ментус вынужден был робко откашляться и отойти.
...Бывает,
нездоровый сон переносит нас в край, где все смущает, искажает и душит,
поскольку все из времен молодости —
молодое, а потому слишком уж старое для нас, отшумевшее и анахроничное, и
никакая мука не сравнится с мукой такого сна, такого края. Не может быть ничего
страшнее, чем возвращение к проблемам, из которых ты вырос, к проблемам таким
старым, юношеским, незрелым, давно уже заброшенным в угол и решенным ... как,
например, проблема невинности. О, трижды мудры те, кто живет единственно
сегодняшней проблематикой, проблематикой взрослой, зрелой, а старым тетушкам
оставляет проблемы, уже не актуальные. Ибо выбор тематики и проблематики
бесконечно важен для личности и целых народов, и мы нередко видим, как разумный
и доросший до взрослой темы человек в мгновение ока превращается в человека
горько незрелого, когда ему подсовывают тему чересчур старую или чересчур
молодую — не созвучную духу времени, ритму истории. Воистину, легче всего
заразить мир наивностью и опрокинуть его в детство, спровоцировав его на
решение подобных вопросов, и надо признать, что Пимко мастерски, как и подобает
самым превосходным и искусным учителишкам, с ходу спеленал меня и моих коллег
диалектикой и проблематикой, которые надежнее,
55
чем что-нибудь еще, способны
затолкнуть в детство. Казалось, я находился на самом дне сна, который меня без
устали умалял и дисквалифицировал.
Туча голубей
пронеслась в осеннем небе под осенним солнцем, повисла над крышей, присела на
дуб и опять ринулась дальше. Не в силах вынести триумфальной песни Сифона,
Ментус потащился вместе с Мыздралем и Гопеком в противоположный угол двора.
Спустя какое-то время он настолько овладел собою, что обрел дар речи. Тупо
уставился в землю. Взорвался:
— Ну и что теперь?
— Что теперь? —
откликнулся Мыздраль. — Нам не остается ничего иного, как еще энергичнее
употреблять самые мерзкие наши присловья! Четыре буквы, четыре буквы — вот наше
единственное оружие. Это оружие нашего мальчишки!
— Опять? — спросил
Ментус. — Опять? До тех пор, пока не обрыднет? Повторять и повторять одно и то
же? Петь и петь эту песенку потому, что тот поет иную песнь?
Он расклеился.
Вытянул руки, отступил на несколько шагов и огляделся по сторонам. Небо в
вышине висело легкое, побледневшее, холодное и язвительное, дерево, рослый дуб
посреди двора, повернулось задом, а старый швейцар неподалеку от ворот
улыбнулся под усами и ушел.
— Парень, —
прошептал Ментус. — Парень... Подумайте — если бы какой-нибудь парень услышал
этот наш интеллигентский выпендреж... — И вдруг, поразившись самому себе, он
бросился прочь, захотел — в воздухе прозрачном — дать стрекача. — Хватит,
хватит, не хочу ни отроков, ни мальчишек, хватит этого...
Друзья его
попридержали.
56
— Что с тобой,
Мента? — говорили они, крещенные воздухом. — Ты же вождь! Без тебя мы пропадем!
Ментус, которого они
держали за руки и не выпускали, уронил голову и горько произнес:
— Трудно...
Мыздраль и Гопек,
потрясенные, молчали. Мыздраль, разволновавшись, поднял кусок проволоки,
машинально просунул его в щель забора и ткнул им в глаз одной из матушек. Но
тотчас же отбросил проволоку прочь. Матушка застонала за забором. Наконец Гопек
робко спросил:
— И что же будет,
Мента?
Ментус поборол
минутное колебание.
— Делать нечего! —
сказал он. — Придется сражаться! Сражаться до победного конца!
— Браво! — закричали
они. — Вот таким мы и хотим видеть тебя! Теперь ты опять наш, наш старый
Ментус! Но вождь безнадежно махнул рукой:
— Ох уж эти ваши
восклицания! Они не лучше песни Сифона! Но куда денешься — раз надо, так надо.
Сражаться? Но сражаться нельзя. Ибо, допустим даже, мы отделаем его как
следует, и что? Ему только того и надо — превратим его в мученика, увидите
тогда, какую он преподнесет нам непоколебимую и угнетенную невинность. Да если
бы мы и хотели наброситься на них, вы же видели, — они нам такое геройство
выдадут, что и самый храбрый смоется. Нет, это ни к чему! И вообще все —
ругательства, проделки, грязь ни к чему, ни к чему! Говорю вам, это только вода
на его мельницу, это только молочко для его отроковятины. На это наверняка он и
рассчитывает! Нет, нет, но, к счастью, — в голосе Ментуса зазвучала странная
злоба, — к счастью, есть другой способ... более действенный... мы раз навсегда
отобьем у него охоту петь.
57
— Как? — С робкой
надеждой посмотрели они на Ментуса.
— Господа, —
проговорил Ментус сухо и деловито, — если Сифон не хочет сам, мы должны силой
просветить его. Надо будет его умыкнуть и связать. К счастью, есть еще уши, вот
через них и доберемся до него. Мы его свяжем и так просветим, что Сифона родная
матушка не узнает! Раз и навсегда испортим цацку! Но тихо! Приготовьте веревку!
Я следил за рождением этого заговора,
затаив дыхание, с сердцем, готовым вырваться из груди, но тут Пимко появился в
дверях школы и кивнул мне, чтобы я шел с ним к директору Пюрковскому. Снова
показались голуби. Шумя крыльями, они уселись на забор, за которым были
матушки. Идя по длинному школьному коридору, я лихорадочно обдумывал, как бы
мне объясниться и запротестовать, однако же придумать ничего не мог, ибо Пимко сплевывал
в каждую попадавшуюся по пути плевательницу и мне велел делать то же самое — в
общем я не мог... и так, плюясь, мы дошли до кабинета дир. Пюрковского.
Пюрковский, великан прямо-таки гигантских размеров, принял нас, сидя абсолютно
и мощно, но милостиво, не мешкая, по-отцовски он ущипнул меня за щеку, создал
сердечную атмосферу, взял меня рукой за подбородок, я поклонился, вместо того
чтобы протестовать, а директор басом обратился над моей головой к Пимке:
— Попочка, попочка,
попочка! Благодарствую за память, дорогой профессор! Бог вас не забудет,
коллега, за нового ученика! Если бы все умели так умалять, мы были бы еще вдвое
больше, чем сейчас! Попочка, попочка, попочка. Поверите ли, но взрослые,
которых мы искусственно заталкиваем в детство и умаляем, представляют собою
элемент еще лучший, чем дети в естественном состоянии? По-
58
почка, попочка, без учеников
не было бы школы, а без школы жизни бы не было! Я и впредь буду полагаться на
память, заведение мое, без сомнения, заслуживает поддержки, наши методы выделки
попочки не имеют себе равных, и члены педагогического коллектива подобраны с
этой точки зрения самым тщательным образом. Вы не хотели бы взглянуть на
членов?
— С величайшим
удовольствием, — ответил Пимко, — ибо известно, что ничто так не воздействует
на дух, как члены. — Директор приоткрыл дверь в канцелярию, и оба осторожно
заглянули туда, за ними и я. Неподдельный ужас охватил меня! В большой комнате
за столом сидели учителя и пили чай с булочками. Никогда не доводилось мне
видеть вместе стольких и таких безнадежных стариков. Большинство из них шумно
втягивало в себя чай, один чавкал, другой чмокал, третий сопел, четвертый
хлюпал, пятый был печален и лыс, а у преподавательницы французского слезились
глаза, и она вытирала их уголком платка.
— Да, господин
профессор, — с гордостью отозвался директор, — члены подобраны старательно, и
все они исключительно мерзки и отвратительны, тут ни одного приятного члена,
все сплошь педагогические, как видите, — а если необходимость побуждает меня
порой пригласить какого-нибудь преподавателя помоложе, я неизменно пекусь о
том, чтобы он обладал хотя бы одной отталкивающей чертой. Так, к примеру,
преподаватель истории, к сожалению, в самом соку, весьма, на первый взгляд,
сносен, но обратите внимание, как он косит. — Да, но преподавательница
французского выглядит премило, — фамильярно заметил Пимко. — Она заикается, и
глаза слезятся. — Ну, тогда другое дело! Верно, я и не за-
59
метил в первую минуту. Но не
очень ли увлекательно рассказывает она на уроке? — Да что вы, я и сам не могу
минуты проговорить с нею, дважды не зевнув. — Ну, тогда другое дело! Однако
достаточно ли они тактичны, достаточно ли подготовлены и понимают всю важность
миссии, дабы учить? — Это самые башковитые в столице, — ответил директор, — ни
у одного из них ни единой собственной мысли; а уж коли у кого и родится
собственная мысль, я прогоню либо мысль, либо мыслителя. В целом все они
безвредные недотепы, учат только тому, что в программах нет, в них своя
собственная мысль не удержится. — Попочка, попочка, — сказал Пимко, — вижу,
моего Юзека я отдаю в надежные руки. Ибо нет ничего хуже педагогов обаятельных,
особенно если у них случайно оказывается свое мнение. Лишь по-настоящему
неприятный педагог способен привить ученикам ту приятную незрелость, те
симпатичные беспомощность и никчемность, то неумение жить, которые должны
отличать молодежь, дабы она представляла собою объект для нас, истинных
педагогов по призванию. Только с помощью надлежащим образом подобранного
персонала мы сумеем вогнать в детство весь мир. — Тсс, тсс, тсс, — ответил
директор Пюрковский, потянув его за рукав, — конечно, попочка, но тише, не надо
об этом слишком громко. — В эту минуту один член повернулся к другому члену и
спросил: — Хе, хе, гм, ну, что там? Что там, коллега? — Что там? — ответил тот
член. — Подешевело. — Подешевело? — проговорил первый член. — Пожалуй,
подорожало? — Подорожало? — спросил второй член. — Кажется, что-то подешевело.
— Булки не хотят дешеветь, — пробормотал первый член и спрятал недоеденный кусок
булки в карман. — Я их держу на
диете, — шепнул
60
директор Пюрковский, — ибо
только при этом условии они достаточно анемичны. Лишь на анемичной почве вовсю
расцветают фурункулы age ingrat, сиречь неблагодарного возраста.
И тут
преподавательница чистописания, увидя в дверях директора с незнакомым
господином весьма важного вида, поперхнулась чаем и пронзительно запищала:
— Инспектор!
Заслышав это слово,
все члены задрожали, вскочили и сбились в кучку, словно стайка куропаток, а
директор, не желая пугать их еще больше, осторожно притворил дверь, после чего
Пимко поцеловал меня в лоб и торжественно произнес: — Ну, Юзя, ступай-ка в
класс, скоро уже урок, а я пока поищу тебе комнату и после занятий приду сюда,
чтобы отвести тебя домой. — Я хотел
было запротестовать, но жестокий учителишка так стремительно вышколил меня
своим абсолютным школярством, что я не смог и, поклонившись, отправился в
класс, унося с собой невысказанные протесты и грохот, в котором протесты
тонули. Класс тоже грохотал. Устроив всеобщую кутерьму, ученики рассаживались
за парты и орали так, словно через минуту им предстояло замолкнуть навеки.
И неведомо когда на
кафедре появился преподаватель. Это был тот самый член, поблекший и печальный,
который в канцелярии высказал веское мнение, что, дескать, подешевело. Усевшись
на стул, преподаватель раскрыл журнал, стряхнул пыль с жилетки, закатал рукава
пиджака, чтобы на локтях не потерлись, сжал губы, что-то заглушил в себе и
положил ногу на ногу. Затем вздохнул и попытался заговорить. Шум возобновился с
удвоенной силой. Кричали все, за исключением, кажется, одного Си-
61
фона, который положительно
раскладывал тетради и книги. Преподаватель посмотрел на класс, поправил манжет
на брючине, собрал губы в узелок, открыл рот и опять его закрыл. Ученики заорали.
Учитель поморщился, искривился, оглядел брючные манжеты, побарабанил пальцами,
подумал о чем-то своем — вытащил часы, положил их на стол, вздохнув, опять
что-то заглушил в себе или что-то проглотил, а может, зевнул, долго собирался с
силами, наконец треснул журналом по столу и крикнул:
— Довольно! Прошу
успокоиться! Урок начинается.
Тогда весь класс
(кроме Сифона и нескольких его сторонников) хором выразил желание
безотлагательно посетить уборную.
Преподаватель,
которого прозвали Бледачкой из-за очень нездорового и землистого цвета кожи,
кисло улыбнулся.
— Довольно! —
привычно выкрикнул он. — Отпустить вас? Душа в рай рвется? А почему меня никто
не отпускает? Почему я должен сидеть? Сесть, никого не отпущу, Ментальского и
Бобковского записываю в журнал, а если еще кто рот откроет, вызову отвечать! —
Тогда по меньшей мере семеро учеников представили справки, что по причине
таких-то и таких-то болезней они не смогли выучить урок. Кроме того, четверо
объявили, что у них болит голова, еще у одного оказалась сыпь, а кто-то
пожаловался на тик и судороги. — Так, — завистливо произнес Бледачка, — а
почему это мне никто не даст справку, что по независящим от меня причинам я не
приготовился к уроку? Почему мне нельзя иметь судорог? Почему, спрашиваю, я не
могу иметь судорог, а должен просиживать тут каждый день, кроме воскресенья?
Хватит, справки фальшивые,
62
болезни надуманные,
садитесь, нам это все знакомо! — Но трое учеников, наиболее приближенных и
языкастых, подошли к кафедре и принялись рассказывать увлекательную историю про
евреев и птичек. Бледачка заткнул уши. — Нет, нет, — стонал он, — не могу,
помилосердствуйте, не искушайте, урок же, а что будет, если нас директор
накроет.
Тут он весь
затрясся, робко оглянулся на дверь, и бледный страх разлился у него по щекам.
— А если бы нас
накрыл господин инспектор? Господа, предупреждаю, в школе инспектор! Вот
именно!.. Я вас предупреждаю... Не время на глупости! — испуганно простонал он.
— Надо немедля организоваться перед лицом высшей власти. Ну... гм... кто из вас
лучше всех знает предмет? Только без паясничества, сейчас не до шуток!
Поговорим совершенно серьезно. Что?! Никто ничего не знает? Вы меня погубите!
Ну, может, все же кто-нибудь, ну, друзья, смелей, смелей... А-а, Пылашчкевич,
говорите? Бог тебя отблагодарит, Пылашчкевич, я всегда считал тебя стоящим
человеком. Ну, а что ты лучше всего выучил? «Конрада Валленрода»? Или «Дзяды»?
А может, общие черты романтизма? Сознайся же, Пылашчкевич.
Сифон, уже
окончательно уверовавший в отрока, встал и сказал:
— Извините, господин
учитель. Если вы меня вызовете при господине инспекторе, я отвечу наилучшим
образом, но сейчас я не могу предать гласности то, что я выучил, ибо, предавая,
я предал бы самого себя.
— Сифон, ты нас
погубишь, — в ужасе отозвались остальные. — Сифон, скажи правду!
— Ну-ну,
Пылашчкевич, — примирительно заметил Бледачка. — Почему ты не хочешь сознаться?
Мы же разговариваем неофициально. Откройся мне. Ты, на-
63
деюсь, не собираешься
погубить меня, да и себя самого? Если не хочешь говорить прямо, тогда намекни.
— Извините, господин
учитель, — ответил Сифон, — я не могу идти ни на какие компромиссы, ибо я
бескомпромиссен и не могу ни отступать от данного себе слова, ни предавать
себя.
И сел.
— Тю-тю, —
забормотал преподаватель, — эти чувства делают тебе честь, Пылашчкевич. Но не
надо принимать этого слишком близко к сердцу, это я так, пошутил частным
образом. Конечно же, конечно, ломать себя не надо, что там у нас на сегодня? —
сурово проговорил он и заглянул в программу. — Ах да! Рассказать и объяснить
ученикам, почему Словацкий вызывает у нас любовь и восторг? Итак, господа, я
продекламирую вам свой урок, а затем вы продекламируете свой! Тихо! — крикнул
он, и все повалились на парты, подперев рукой головы, а Бледачка, незаметно
открыв надлежащий учебник, сжал губы, вздохнул, заглушил что-то в себе и начал
декламацию:
— Гм... гм... А
стало быть, почему Словацкий возбуждает в нас восторг и любовь? Почему мы
плачем вместе с поэтом, читая эту чудную, сладкозвучную поэму «В Швейцарии»? Почему, вслушиваясь в
героические, отлитые в бронзе строфы «Короля-Духа»,
нас охватывает порыв? И почему мы не можем оторваться от чудес и очарования
«Балладины», а когда зазвенят жалобы «Лиллы Венеды», наше сердце разрывается
на куски? И мы готовы лететь, кидаться на помощь несчастному королю? Гм...
почему? Потому, господа, что Словацкий великим был поэтом! Валкевич! Почему?
Повтори, Валкевич, почему? Почему восторг, любовь, мы плачем, порыв, сердце и
лететь, кидаться? Почему, Валкевич?
64
Казалось, снова я
слышу Пимку, но Пимку с более скромным жалованьем и более узким кругозором.
— Потому, что
великим был поэтом! — сказал Валкевич, ученики ковыряли перочинными ножами
парты или скатывали бумажные шарики, следя, чтобы они получались совсем
крошечными, и бросали их в чернильницу. Это вроде бы был пруд, и рыбы в пруду,
вот они и забрасывали леску из волоса, но дело шло плохо, бумага не хотела
клевать. Тогда волосом щекотали нос или расписывались в тетрадях, без конца,
кто с завитушкой, кто без, а кто-то на целую страницу вывел: — По-че-му,
по-че-му, по-че-му, Сло-вац-кий, Сло-вац-кий, Сло-вац-кий, вац-кий, вац-кий,
Ва-цек, Ва-цек-Сло-вац-кий-и-муш-ка-бло-ха. Лица у всех посерели. Улетучилось
недавнее возбуждение. Ни следа от прежних споров и дискуссий — лишь двум-трем
счастливчикам удалось позабыть обо всем на свете, погрузившись в Уоллеса*. Даже
Сифону пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы не поступиться своими
принципами самосовершенствования и самообразования, но он умел так устроиться,
что именно горечь становилась для него источником наслаждения, эдаким пробным
камнем силы характера. Остальные делали на ладошке холмики и ямки и разухабисто
дули в ямки — эх, эх, ямки, горки, ямки, горки. Преподаватель вздохнул,
заглушил, взглянул на часы и заговорил:
— Великим поэтом!
Запомните это, ибо важно! Почему любим? Ибо был великим поэтом. Великим поэтом
был! Лентяи, неучи, я ведь добром вам говорю, вбейте это хорошенько в свои
головы — итак, я еще раз повторю, господа: великий поэт Юлиуш Словацкий,
великий поэт, возлюбим Юлиуша Сло-
_________________
* Э. Р. Г. Уоллес (1875—1932) — английский писатель, автор популярных в
свое время детективных романов, рассказов.
65
вацкого и восхитимся его
стихами, ибо был он великим поэтом. Запишите тему домашнего сочинения: «Почему
в стихах великого поэта Юлиуша Словацкого живет бессмертная красота, которая
вызывает восторг?»
Тут один ученик
нервно завертелся и заныл:
— А если я вовсе не
восхищаюсь? Вовсе не восхищаюсь? Не интересно мне! Не могу прочесть больше двух
строф, да не интересно мне это. Господи, спаси, как это восхищает, когда меня
не восхищает? — Он вытаращил глаза и осел, словно погружаясь в какую-то
бездонную пропасть. Этим наивным признанием учитель чуть не подавился.
— Тише, Бога ради! —
цыкнул он. — Я ставлю Галкевичу кол.
Он меня хочет погубить! Галкевич, видимо, и сам не понимает, что он такое
сказал?
ГАЛКЕВИЧ
Но я не могу понять!
Не могу понять, как это восхищает, если не восхищает.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Как это может
Галкевича не восхищать, если я тысячу раз объяснял Галкевичу, что его восхищает.
ГАЛКЕВИЧ
А меня не восхищает.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Это твое личное
дело, Галкевич. По всему видно, ты не интеллигентен. Других восхищает.
ГАЛКЕВИЧ
Но, честное слово,
никого не восхищает. Как может восхищать, если никто не читает, кроме нас,
школьников, да и мы только потому читаем, что нас силой заставляют...
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Тише, Бога ради! Это
потому, что немного людей по-настоящему культурных и на высоте...
66
ГАЛКЕВИЧ
Да культурные тоже
не читают. Никто. Никто. Вообще никто.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Галкевич, у меня
жена и ребенок! Ты хоть ребенка пожалел бы! Не подлежит сомнению, Галкевич, что
великая поэзия должна нас восхищать, а ведь Словацкий был великим поэтом...
Может, Словацкий тебя и не трогает, но ведь ты, Галкевич, не скажешь, что душу
твою не пронзают насквозь Мицкевич, Байрон, Пушкин, Шелли, Гете...
ГАЛКЕВИЧ
Никого не пронзает.
Никому до этого дела никакого нет, на всех они скуку наводят. Никто не в
состоянии больше двух или трех строф прочитать. О Боже! Не могу…
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Галкевич, это
непозволительно. Великая поэзия, будучи великой и будучи поэзией, не может не
восхищать нас, а стало быть, она захватывает.
ГАЛКЕВИЧ
А я не могу. И никто
не может! О Боже!
Обильный пот оросил
лоб преподавателя, он вытащил из бумажника фотографию жены с ребенком и пытался
тронуть ими сердце Галкевича, но тот лишь твердил и твердил свое: «Не могу, не
могу». И это пронзительное «не могу» растекалось, росло, заражало, и уже из
разных углов пополз шепот: «Мы тоже не можем» — и нависла угроза всеобщей
несостоятельности. Преподаватель оказался в ужаснейшем тупике. В любую секунду
мог произойти взрыв — чего? — несостоятельности, в любой момент мог раздаться
дикий рев нежелания и достичь ушей директора и инспектора, в любой миг могло
обрушиться все здание, погребя под развалинами ребенка, а Галкевич как раз и не
мог, Галкевич все не мог и не мог.
67
Несчастный Бледачка
почувствовал, что ему тоже начинает угрожать несостоятельность.
— Пылашчкевич! —
крикнул он. — Ты должен немедленно доказать мне, Галкевичу и всем вообще красоту
какого-нибудь замечательного отрывка! Поторопись, ибо periculum in mora!* Всем слушать!
Если кто пикнет, устрою контрольную! Мы должны мочь, мы должны мочь, ибо иначе
с ребенком будет катастрофа!
Пылашчкевич встал и
начал читать отрывок из поэмы.
И он читал. Сифон ни в малейшей степени не поддался всеобщей и столь внезапной несостоятельности, напротив — он мог всегда, поскольку именно в несостоятельности черпал он свою состоятельность. Итак, он декламировал, и декламировал взволнованно, да еще с выражением и воодушевлением. Больше того, он декламировал красиво, и красота декламации, подкрепленная красотой поэмы и величием ее автора, а также царственностью искусства, незаметно преображалась в изваяние всех мыслимых красот и величий. Больше того, он декламировал загадочно и набожно; декламировал старательно, вдохновенно; и пел песнь поэта-пророка так именно, как песнь пророка и должна петься. О, какая же красота! Какое величие, какой гений и какая поэзия! Муха, стена, чернила, ногти, потолок, доска, окна, о, угроза несостоятельности была уже отброшена, ребенок спасен, и жена тоже, уже каждый соглашался, каждый мог и только просил — кончить. И тут я заметил, что сосед мажет мне руки чернилами — свои собственные уже намазал, а теперь подбирается к моим, ибо ботиночки снимать было трудно, а чужие руки тем ужасны, что, в сущности, такие же, как собственные, ну так что же с того? Ничего. А что с ногами? Болтать? И какой толк? Спустя
_______________
*Опасность в
промедлении (лат.).
68
четверть часа сам Галкевич
застонал: довольно, мол, он, дескать, уже признает, схватил, сдается,
соглашается, извиняется и может.
— Ну вот видишь,
Галкевич?! Что сравнится со школой, когда речь идет о внедрении поклонения
великим гениям!
А со слушателями
происходило что-то несообразное. Различия исчезли, все, сторонники ли Сифона,
приверженцы ли Ментуса, одинаково извивались под бременем пророка, поэта,
Бледачки и ребенка, а также отупения. Голые стены и голые черные школьные парты
с чернильницами уже потеряли для них всякий интерес, в окно была видна часть
стены с одним выступающим кирпичом и выбитой на нем надписью: «Вылетел». Выбор
был только один — либо тело учительское, либо свое собственное. И потому те,
кто не затруднял себя подсчетом волос на черепе Бледачки и исследованием спутанных
шнурков на его ботинках, старались пересчитать свои волосы или вывихнуть шею.
Мыздраль елозил, Гопек машинально барабанил по парте, Ментус раскачивался,
словно в болезненной прострации, кто-то погрузился в мечты, кто-то никак не мог
отделаться от рокового желания шептать себе под нос, кто-то обрывал пуговицы,
дырявил одежду, и то тут, то там зацветали джунгли и пустыни неестественных
жестов и диковинных поступков. Один-единственный коварный Сифон благоденствовал
тем больше, чем кошмарнее была всеобщая недоля, ибо он обладал особым
внутренним устройством, с помощью которого умел наживаться даже на нищете. А
преподаватель, помнящий о жене и ребенке, не закрывал рта: — Товяньский*,
Товяньский, Товяньский, мессиа-
______________
* Анджей Товяньский (1799 — 1878) — представитель одного из течений польского мессианизма, оказал большое влияние на А. Мицкевича.
69
низм, Христос Народов,
могильная лампада, жертва, сорок и четыре, вдохновение, страдание, искупление,
герой и символ. — Слова влетали в уши и истязали мозг, а лица все чудовищнее
искривлялись, переставая быть лицами, и, скомканные, искаженные скукой и
истерзанные, готовы были принять любое выражение, — из этих лиц можно было
сделать все что заблагорассудится — о, какая же тренировка воображения! А действительность,
тоже истерзанная, тоже иссушенная скукой, смятая, ободранная, незаметно,
потихоньку преображалась в мир идеала, дай мне теперь помечтать, дай!
Бледачка: — Пророком
был! Пророчествовал! Господа, заклинаю вас, повторим-ка еще раз: мы восхищаемся,
ибо он был великим поэтом, а почитаем, ибо пророком был! Насущное слово.
Чимкевич, повтори! — Чимкевич повторил: — Пророком был!
Я понял, что мне
надо удирать. Пимко, Бледачка, пророк, школа, коллеги — все пережитое с утра
вдруг завертелось у меня в голове, и выпало — как в лотерее — удирать. Куда? В
какие края? Я и сам точно не знал, но
знал, что удирать должен, если не хочу стать жертвой странностей, которые
напирали на меня со всех сторон. Но вместо того чтобы удирать, я принялся
шевелить пальцем в ботинке, а шевеление это обладало парализующим свойством и
гасило намерение удрать, ибо как удерешь, когда шевелишь пальцем ноги? Удирать
— удирать! Удрать от Бледачки, от фикции, от скуки — но в голове у меня сидел
пророк — поэт, которого мне впихнул туда Бледачка, на ноге шевелился палец, я
не мог удирать, а несостоятельность моя была большей, нежели недавняя
несостоятельность Галкевича. Теоретически говоря, нет ничего легче, надо просто
выйти из школы и не вернуться, Пимко не стал бы разыскивать меня с полицией,
щу-
70
пальца полочной педагогики
не были, пожалуй, так уж беспредельно длинны. Достаточно было одного — хотеть.
Но хотеть я не мог. Ибо для побега необходима воля к побегу, а откуда взять
волю, если шевелишь пальцем и лицо стирается гримасой скуки. И я вдруг понял,
почему никто из них не мог убежать из этой школы, — это их лица и весь их облик
убивали в них возможность побега, каждый был пленником собственной гримасы, и
хотя они обязаны были удирать, они этого не делали, поскольку уже не были теми,
кем должны были быть. Удирать — значило удирать не только из школы, но прежде
всего от самого себя, ох, удрать от самого себя, от сопляка, каковым сделал
меня Пимко, покинуть его, опять стать мужчиной, которым я был! Как же, однако,
удирать от чего-то, чем ты есть, где
отыскать точку опоры, источник сопротивления? Форма наша пронизывает нас, она
сковывает нашу душу так же, как и тело. Я был убежден, что, если хотя бы на миг
реальность вновь обрела свои права, неправдоподобная гротесковость моего
положения бросилась бы в глаза с такой очевидностью, что все воскликнули бы:
«Что делает тут этот мужчина?!» Но во всеобщей диковинности растворялась
частная диковинность моего конкретного случая. О, дайте мне хотя бы одно не
искаженное гримасой лицо, рядом с которым я смог бы почувствовать гримасу
своего собственного, — но вокруг были одни только лица вывихнутые, расплющенные
и вывернутые наизнанку, в которых мое лицо отражалось, словно в кривом зеркале,
— и цепко держала меня зеркальная действительность! Сон? Явь? И тут Копырда,
тот, загорелый, во фланелевых брюках, который на школьном дворе снисходительно
усмехнулся, когда прозвучало слово «гимназистка», попал в поле моего зрения.
Одинаково равнодушный и к Бледачке, и к спору между Менту-
71
сом и Сифоном, он сидел,
небрежно развалившись, и выглядел хорошо, выглядел нормально — руки в карманах,
чистенький, бодрый, простой, рассудительный и пристойный, сидел довольно-таки
пренебрежительно, нога на ногу и смотрел на ногу. Словно ногами заслонялся от
школы. Сон? Явь? «Неужели? — подумал я. — Неужели наконец обычный мальчик. Не
отрок, не мальчишка, а обыкновенный мальчик? С ним, возможно, вернулась бы
утраченная состоятельность...»
ГЛАВА III
ПОИМКА С ПОЛИЧНЫМ
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УМИНАНИЕ
Преподаватель все
чаще поглядывал на часы, ученики тоже повытаскивали свои часы и смотрели на
них. Наконец прозвенел спасительный звонок, Бледачка смолк на полуслове и
исчез, аудитория очнулась, и поднялся страшный гам — один только Сифон
оставался тихим и спокойным, погруженным в себя. Едва, однако, Бледачка ушел,
проблема невинности, придавленная во время урока скукой великого поэта,
поднялась вновь. Ученики прямо из официальных грез плюхнулись лицами в отрока и
мальчишку, а действительность потихоньку преображалась в мир идеалов, дай мне теперь
помечтать, дай! Сам Сифон не принимал участия в диспуте, а только сидел и себя
пестовал — сотоварищами его предводительствовал Пызо, а Ментусу помогал Гопек.
И вот опять в воздухе душном и сгустившемся запылал румянец, спор разгорался —
имена множества доктринеров, разнообразные теории вылетали, словно выпущенные
из рогатки, кидались в схватку, над разгоряченными головами сошлись в бою
мировоззрения, и тут же дружина дам, просвещенных и просвещающих, с жаром
сексуальных неофиток атаковала реакционность консервативной прессы. «Эн-
73
деки! — Большевизм! —
Фашизм! — Католическая молодежь! — Рыцари меча! — Ляхичи! — Соколы! — Харцеры!
— Бодрись! — Привет! — Бди!» — слышались слова все более заковыристые.
Оказалось, каждая политическая партия нафаршировала слова эти своим
специфическим идеалом мальчика, а кроме того, отдельные мыслители фаршировали
их на свой страх и риск собственными вкусами и идеалами, да к тому же они были
еще нафаршированы кино, романом, газетой. И вот всевозможные типы отрока, мальчишки,
комсомольца, спортсмена, подростка, юноши, прощелыги, эстета, философа,
скептика носились над полем брани и оплевывали друг друга, необычайно
возбужденные и раскрасневшиеся, а снизу доносились только стенания и крики: «Ты
наивный!», «Нет, это ты наивный!» Ибо идеалы эти, все без исключения, были
беспредельно мелки, тесны, неудобны, несуразны; в горячке спора ученики метали
эти слова, будто из катапульты, и отскакивали назад, ужаснувшись тому, что
метнули, бессильные забрать назад уже вылетевшие из них незрелые выражения.
Утерявшие какие бы то ни было связи с жизнью, с действительностью, уминаемые
всеми фракциями, направлениями и течениями, трактуемые всеми, как школяры,
окруженные фальшью, они давали концерт фальши! И куда ни кинь, все глупо!
Фальшивые в своем пафосе, ужасные в лиризме, кошмарные в сентиментализме,
беспомощные в иронии, шутке и остроте, претенциозные во взлетах, омерзительные
в своих падениях. Так и катился мир. Так он катился и разбухал. Раз их не
считали естественными, могли ли они не быть неестественными? А будучи
неестественными, разве могли они не говорить языком, позорящим их? Вот и
расцветала в душном воздухе страшная несостоятель-
74
ность, действительность
потихоньку преображалась в мир идеала, и только один Копырда не поддавался,
равнодушно подбрасывая пилочку для ногтей и глядя на ноги...
Тем временем Ментус
и Мыздраль в сторонке возились с какими-то веревками, а Мыздраль даже подтяжки
снял. У меня мороз по спине пробежал. Если Ментус осуществит свой план
просвещения Сифона через уши, то воистину — действительность...
действительность превратится в кошмар, диковинность разрастется так, что о
побеге нечего будет и думать. Надо было любой ценой помешать. Мог ли я, однако,
действовать в одиночку против всех, да вдобавок еще с пальцем в ботинке? Нет,
не мог. О, дайте мне хотя бы одно невывернутое лицо! Я подошел к Копырде. Он стоял у окна, глядя во двор, и насвистывал
сквозь зубы, во фланелевых брюках, и, казалось, он-то уж не носится ни с какими
идеалами. Как начать?
— Они хотят изнасиловать
Сифона, — прямо сказал я. — Может, было бы лучше отсоветовать им это. Если
Ментус изнасилует Сифона, атмосфера в школе станет совершенно невыносимой.
Весь в тревоге, ждал
я, как зазвучит, как зазвенит, каким голосом отзовется Копырда... Но Копырда не
произнес в ответ ни слова, только стремительно выпрыгнул в окно на школьный
двор. И продолжал во дворе насвистывать сквозь зубы.
А я остался, так
ничего и не поняв. Что это было? Он уклонился. Почему выпрыгнул, а не ответил?
Странно все это. И почему ноги — почему ноги выпирали в нем на первый план,
лезли на лоб? Ноги у него были на лбу. Я потер
рукою лоб. Сон? Явь? Но времени на размышления не оставалось. Ментус подскочил
ко мне. Я теперь только сообразил —
75
Ментус стоял
неподалеку, подслушал, что я сказал Копырде.
— Ты чего
вмешиваешься? — крикнул он.— Кто тебе разрешил болтать о наших делах с
Копырдой? Его это совершенно не касается! Не вздумай говорить с ним обо мне!
Я отступил на шаг.
Он разразился самыми грязными ругательствами.
Я стал молить его
шепотом:
— Ментус, не делайте
этого с Сифоном. Не успел я кончить, как он заорал:
— Знаешь, кто он для
меня, да и ты с ним вместе? Вы — го...лубчики мои милые!
— Не делайте этого,
— упрашивал я. — Не влипайте в это! Ты что, не видишь себя при всем при этом?
Послушай, а ты себе это представил? Ты это увидел? Тут Сифон на земле,
связанный, а тут ты его просвещаешь — насильно, через уши! Неужели ты не видишь
себя при всем при этом?
Он еще гаже
скривился.
— Я вижу только, что
и из тебя неплохой отрок! И тебя Сифон облапошил! А знаешь, кто он для меня,
весь ваш этот отрок? Он — го...лубчик мой милый!
И двинул меня носком
ботинка по щиколотке. Я искал слов, которых, как всегда, не было.
— Ментус,— прошептал
я.— Брось это... Перестань делать из себя... Разве оттого, что Сифон невинный,
тебе надо быть развратным? Брось это.
Он взглянул на меня.
— Чего тебе от меня
надо?
— Перестань дурить!
— Перестань дурить?
— пробурчал он. — Глаза его затуманились. — Перестань дурить, — произнес он
тоскливо. — Есть мальчики, которые не дурят.
76
Есть мальчики —
сыновья сторожей, подмастерья и парни — воду возят или мостовую подметают...
Им-то и смеяться над Сифоном и надо мною, над нашими выкрутасами! — Он на миг
погрузился в горестную задумчивость, временами нападавшую на него, отбросил
было вульгарность и поддельное хамство, лицо его разгладилось. А потом
подскочил словно ужаленный. — Попочка! Попочка! — крикнул он. — Нет, не хочу
допустить, чтобы учеников считали невинными. Сифонову душу изнасилую через уши!
Ж...ж...ж...! — Он опять поуродовел до отвращения и изверг из себя поток
гнусностей, я даже отступил на шаг.
— Ментус, — бездумно
прошептал я в отчаянии. — Бежим! Бежим отсюда!
— Бежать?
Он навострил уши.
Перестал извергать и вопросительно взглянул на меня. Сделался понормальнее — я
ухватился за это, как утопающий за соломинку.
— Бежим, бежим,
Ментус, — шептал я. — Брось это и бежим!
Он заколебался. Лицо
его как бы в нерешительности обвисло. А я, заметя, что мысль о побеге действует
на него благотворно, дрожа от страха, что он опять ударится в безобразие,
судорожно искал, чем бы его прельстить.
— Удрать! На
свободу! Ментус, к парням!
Зная о его тоске по
истинной жизни подмастерьев, я думал, что он клюнет на парня. Ах, мне все равно
было, что я говорю, только бы удержать его от гротеска, только бы он вдруг не
скривился! Глаза у него заблестели, и он по-братски дал мне под ребра.
— Ты бы хотел? —
спросил он тихо, доверчиво. Рассмеялся тихо и чисто. Я тоже рассмеялся тихим
смехом.
77
— Бежать, —
пробормотал он, — бежать... К парням... К тем настоящим парням, которые пасут
лошадей над рекой и купаются...
И тут я заметил вещь
страшную — на лице его явилось что-то новое, тоска какая-то, какая-то особая
красота школьника, удирающего к парням. От грубости он шарахнулся к
мелодичности. Приняв меня за своего, он перестал прикидываться и извлек из себя
тоску и лиризм.
— Гей, гей, —
проговорил он певуче, тихо. — Гей, вместе с парнями есть черный хлеб, на
неоседланных лошадях скакать по лугу...
Губы его расползлись
в горькой и странной улыбке, тело стало гибче и стройнее, а в шее и в плечах
появилась какая-то преданность. Он был теперь школьником, размечтавшимся о
вольности парней, — и уже открыто, отбросив прочь всякую осторожность,
улыбнулся мне. Я отступил на шаг. Я попал
в положение жуткое. Надо ли и мне улыбнуться? Если я не улыбнусь, он снова
разразится ругательствами, но если улыбнусь... не была ли улыбка еще хуже, не
была ли скрытная красота, которую он мне тут демонстрировав, еще более
гротескной, чем его уродство? К черту, к черту, зачем же я поманил его в
мечтательность этим парнем? В конце концов, я не улыбнулся, только сложил губы
и тихо присвистнул, и так стояли мы друг против друга, улыбаясь и насвистывая
либо тихо смеясь, а мир будто разрушился и стал строиться заново на началах
мальчика, улыбающегося и удирающего, как вдруг издевательский рев раздался в
двух шагах от нас, навалился со всех сторон! Я отступил на шаг. Сифон, Пызо и
еще с полдюжины сифонистов, держась за невинные животики, хохотали и ревели, и
выражение лиц их было снисходительным и язвительным.
78
— Чего?! — заорал
Ментус, пойманный с поличным. Но было уже слишком поздно.
Пызо рявкнул:
— Ха, ха, ха!
А Сифон заголосил:
— Поздравляю,
Ментальский! Наконец-то мы знаем, что в вас сидит! Поймали тебя, приятель! О
парне мечтает! По лужку захотелось поскакать с парнем! Прикидываетесь
реалистом, знающим жизнь, жестоким, изничтожаете чужой идеализм, а сами в
глубине души сентиментальны. Парнишечка слюнявый!
Мыздраль как мог
грубее завопил: — Молчи! Сволочь! Холера! Зараза! — Но было уже слишком поздно.
Никакие, даже самые грязные ругательства не могли спасти Ментуса, схваченного «in flagranti»* с его тайными
грезами. Он покрылся кровавым румянцем, а Сифон торжествующе и ехидно добавил:
— С чужим идеализмом борется, а сам к парням подлизывается. Теперь по крайней
мере известно, почему чистота ему мешает!
Казалось, Ментус
кинется на Сифона — но он не кинулся. Казалось, размозжит архиграндиозным
ругательством, но он не размозжил. Пойманный «in flagranti», он не мог — и
окаменел в холодной, ядовитой вежливости.
— Ах, Сифон, — начал
он, на первый взгляд небрежно, чтобы выиграть время, — так ты полагаешь, будто
я мины строю? А ты мин не строишь?
— Я? — отозвался
Сифон, застигнутый врасплох. — Я их не строю парням.
— Только идеалам? А
мне, значит, нельзя парням, а тебе можно, ибо ты их строишь идеалам? Не
соблаговолишь ли взглянуть на меня? Мне хотелось бы, если тебе это не доставит
неудовольствия, окинуть взглядом твой лик с фасада.
_______________
* С поличным (лат.).
79
— Зачем? — тревожно
спросил Сифон и вытащил носовой платок, а Ментус неожиданно вырвал у него этот
платок и швырнул его на землю: — Зачем? Затем, что терпеть не могу твоего лица!
Простись с этой благородной чистой миной! Ах, так тебе можно?.. Перестань,
говорю, не то я так скривлюсь, что тебе расхочется... уж я тебе покажу... я
тебе покажу...
— Что ты мне
покажешь? — отозвался Сифон. Но Ментус вопил как в бреду: — Покажу! Покажу!
Покажи мне, я тебе тоже покажу! Хватит болтать, ну-ка покажи нам этого твоего
отрока, вместо того чтобы языком о нем чесать, а я тоже покажу, вот и увидим,
кто от кого убежит! Покажи! Покажи! Довольно красивых фраз, довольно этих
половинчатых, застенчивых мин, миночек, минят деликатных, девичьих, когда
человек сам от себя с ними прячется, — черт, черт, — я вызываю тебя на великие,
истинные минищи, на мины всей рожей и увидишь, я тебе такие покажу, что отрок
твой даст тягу туда, куда Макар телят не гонял! Хватит болтовни! Покажи,
покажи, я тебе тоже покажу!
Сумасшедшая идея!
Ментус вызвал Сифона на мины. Все стихли и смотрели на него как на безумца, а
Сифон готовился к язвительной инвективе. Но на лице Ментальского гуляла такая
дьявольская насмешка, что постепенно все осознали страшный реализм его
предложения. Мины! Мины — оружие, а с тем вместе и пытка! На сей раз бой должен
был вестись всерьез! Кое-кто испугался, видя, что Ментальский вытаскивает на
свет Божий то страшное оружие, которым до того каждый пользовался с величайшей
осмотрительностью, а свободно и открыто, пожалуй, лишь за запертой дверью и
перед зеркалом. А я отступил на шаг, ибо понял, что, доведенный до точки,
разбушевавшийся, он хочет ис-
80
поганить минами не только
отрока и Сифона, но также парня, мальчика, себя, меня и все окрест!
— Труса празднуешь?
— спросил он Сифона.
— Мне стыдиться
своих идеалов? — ответил тот, не сумев, однако, скрыть легкого замешательства.
— Мне бояться? — Но голос его слегка подрагивал.
— Ну вот и хорошо,
Сифон! Время — сегодня после уроков! Место — тут, в классе! Выбери своих судей,
я своими назначаю Мыздраля и Гопека, а главным судьей (дьявольские нотки в
голосе Ментуса зазвучали отчетливее), главным судьей я предлагаю... этого
новенького, который сегодня прибыл в школу. Он будет объективен. — Что? Меня?
Меня он предлагал в главные судьи? Сон? Явь? Но я же не могу! Не могу ведь! Не
хочу видеть этого! Не могу на это смотреть! Я бросился протестовать, но
всеобщий страх уступил место великому возбуждению, все завопили: «Хорошо!
Дальше! Быстрей!» — и тут же зазвенел звонок, в класс вошел маленький человечек
с бородкой и уселся на кафедре.
Это был тот самый
член, который в канцелярии выразил в свое время мнение, что подорожало,
старичок необычайно дружелюбный, седой голубок с крохотным дождевиком на носу.
Мертвая тишина установилась в классе, когда он открыл журнал — бросил свой
просветлевший взор на верхнюю часть списка, и все, кто на «А», затряслись,
бросил взгляд вниз, и все, кто на «Z», замерли от страха.
Поскольку никто ничего не знал, — из-за дискуссии все забыли списать латинский
перевод, — и кроме Сифона, который еще дома приготовил урок и мог всегда, по
каждому требованию, никто больше не мог. А старичок, вовсе не догадываясь о
страхе, который он наводил, благодушно озирал столбик фамилий, не решался,
раздумывал и препирался сам с собою, наконец, уверенно изрек:
81
— Мыдлаковский!
Но тотчас же
выяснилось, что Мыдлаковский не способен перевести заданного на сегодня Цезаря,
хуже того, не знает, что animis oblatis — это ablativus absolutus*.
— О, господин
Мыдлаковский, — сказал милый старик с искренним укором, — вы не знаете, что
значит animis oblatis и какая это форма? Почему вы не знаете?
И поставил ему
единицу, ужасно расстроенный, затем просветлел и опять, подхваченный приливом
доверия, вызвал на «К» Коперского, полагая, что этим отличием он осчастливливает,
и взором и жестами, пронизанными глубочайшим доверием, пригласил к благородному
соперничеству. Но ни Коперский, ни Котецкий, ни Капущинский, ни Колек и понятия
не имели, что такое animis oblatis, они выходили к доске и молчали
неприязненно, каменно, а старик выражал мимолетное свое разочарование четким
колом и снова, будто он вчера прибыл с Луны, будто он не от мира сего, впадая в
еще более сильную доверчивость, вызывал, каждый раз ожидая, что отличенный и
осчастливленный достойно ответит на брошенный вызов. Никто не отвечал. И уже
около десятка колов поставил он в журнал, а все никак не мог понять, что
доверие его отторгается мертвым и холодным ужасом, что никому не по вкусу это
доверие — беспредельно доверчивый старикашка! От этого доверия ничем нельзя
было отвертеться! Тщетно прибегали к различным способам убеждения, напрасно
предъявляли справки, объяснения, болезни, преподаватель сочувственно и
понимающе парировал.
_____________
* Здесь и далее речь идет о различных грамматических формах латинского языка.
82
— Что, господин
Бобковский! Вы по причинам, от вас не зависящим, не смогли приготовить урок? Не
волнуйтесь, я спрошу вас из прошлых текстов. Что? И головка болит? Ну, это
прекрасно, у меня тут как раз есть любопытная максима de malis capitis*, прямо специально
для вас. Что — и вы чувствуете необходимость немедленно отправиться в уборную?
О, господин Бобковский! И зачем же это? Ведь это тоже есть у древних! Я сейчас
покажу вам известный passus из книги пятой, где все войско Цезаря,
съевши несвежей моркови, обрекло себя на ту же судьбу. Все войско! Все войско,
Бобковский! И зачем же самому делать кое-как, если под рукой такое гениальное и
классическое описание? Эти книги, господа, сама жизнь, сама жизнь!
Все забыли о Сифоне
и Ментусе, оставили споры — старались не быть, старались не существовать,
ученики съеживались, серели и никли, втягивали в себя животы, руки и ноги, но
никто не скучал, о скуке не могло быть и речи, ибо все мрачно боялись, и каждый
с болезненным страхом ожидал, когда его настигнет вызов детской веры, возросшей
на текстах. А лица — как это бывает с лицами — под бременем тревоги
превращались в тень, в иллюзию лиц, и неизвестно, что, в конце концов, было
более безумно, безжизненно, химерично — лица, непонятные accusativi cum infinitivo, либо же
дьявольская доверчивость помешавшегося старца, и действительность потихоньку
преображалась в мир идеала, дай мне теперь помечтать, дай!
А преподаватель,
выставив кол Бобковскому и окончательно исчерпав animis oblatis, придумал себе
другую проблему— как будет passivum futurum conditionalis в третьем лице
множественного числа от
______________
* О головной боли (лат.).
83
возвратного глагола colleo, colleavi, colleatum, colleare, и идея эта
захватила его без остатка.
— Неслыханно
интересная вещь! — воскликнул он, потирая руки. — Вещь любопытная и
поучительная! Ну, господа! Проблема чрезвычайно изысканная! Вот прекрасное
поле, дабы выказать интеллектуальные способности! Ибо если от olleare будет ollandus sim, то ... ну, ну,
ну... господа...— господа готовы были провалиться от страха. — О, вот именно!
Ну, ну? Collan... collan...
Никто не отозвался.
Старик, еще не потеряв надежды, повторял свое «ну, ну» и «collan, collan», весь светился,
интриговал загадкой, приглашал, побуждал и — как умел — взывал к знанию, к
ответу, к счастью и удовлетворению. И тут увидел, что никто не хочет, что все
как о стенку горох. Он как-то сник и глухо сказал:
— Collandus sim! Collandus sim! — Он повторил еще
раз, омраченный и оскорбленный всеобщим молчанием, и добавил: — Как же так,
господа? Неужели вы действительно недооцениваете! Неужели не видите, что collandus sim оттачивает
интеллигентность, развивает интеллект, вырабатывает характер, всесторонне
совершенствует и роднит с мыслью древних? Ибо рассудите, если от olleare будет ollandus, то ведь от colleare должно быть collandus, ибо passivum futurum третьего спряжения
кончается на dus, dus, us за исключением единственно исключений. Us, us, us, господа! Не может
быть ничего более логичного, чем язык, в котором все, что нелогично, относится
к исключениям! Us, us, us, господа, — закончил он не без сомнения. — Какой же
это фактор развития!
И тут вскочил
Галкевич и застонал:
— Тра-ля-ля, мама,
тетя! Как это развивает, когда не развивает? Как это совершенствует, когда не
со-
84
вершенствует? Как это
вырабатывает, когда не вырабатывает? О, Боже, Боже — Боже, Боже!
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Что, господин
Галкевич? Us не совершенствует? Вы говорите, что это окончание
не совершенствует? Что это окончание passivi futuri третьего спряжения
не обогащает? Как же так, Галкевич?
ГАЛКЕВИЧ
Этот хвостик меня не
обогащает! Этот хвостик меня не совершенствует! Совсем! Тра-ля-ля. О, Боже!
Мама!
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Как это не
обогащает? Господин Галкевич, если я говорю, что обогащает, значит, обогащает!
Ведь я говорю, что обогащает. Вы, Галкевич, мне поверьте! Заурядный ум не
поймет этой великой выгоды! Дабы понять, надо самому после многолетнего
обучения стать совсем незаурядным умом! Господи Иисусе, ведь в прошлом году мы
прошли семьдесят три строки Цезаря, в каковых строках Цезарь описывает, как он
расставил свои когорты на холме. Неужели эти семьдесят три строки, а также
вокабулы не стали для вас, Галкевич, мистическим откровением всех богатств
античного мира? Неужели они вас не научили стилю, ясности мысли, точности
выражения и военному искусству?
ГАЛКЕВИЧ
Ничему! Ничему!
Никакому искусству. Я только кола боюсь. Я только кола боюсь! О, не могу, не
могу!
Нависла угроза
всеобщей несостоятельности. Преподаватель заметил, что нависла она и над ним,
хуже того, если удвоенной верой он не переборет вдруг нахлынувшее на него
самого недоверие, несостоятельность, он погиб. — Пылашчкевич! — в отчаянии
закричал покинутый всеми отшельник. — Немедлен-
85
но кратко перескажите все
то, чем мы обогатились за последние три месяца, продемонстрируйте всю глубину
мысли и приводящие в восторг красоты стиля — и я полагаюсь на вас, полагаюсь,
Иисусе, Мария, полагаюсь!
Сифон, который, как
уже было сказано, мог всегда по каждому требованию, встал и гладко, с
необыкновенною свободою начал:
— На следующий день Цезарь, созвав собрание и
укорив солдат за несдержанность и алчность, поскольку ему казалось, что они
сами, по собственным представлениям, установили, куда им идти и что делать, и
что они после сигнала к отступлению решили, что не могут быть сдерживаемы
войсковыми трибунами и легатами, объяснял, как много значит неудобство
местности, что относилось к Аварику, когда, захватив врага без вождя и без
конницы, он упустил верную победу, и немалый даже ущерб случился в сражении
из-за неудобства местности. Какое же восхищение вызывает величие души тех,
которых не может сразить грабеж обоза, высота гор или стены города, равным
образом надлежит искоренять чрезмерное самовольство и храбрость тех, которые
полагают, что более вождя знают о победе и результатах дела, и не меньше
следует ценить у солдата скромность и умеренность, чем мужество и великодушие.
И потом, идя вперед, он решил и приказал, чтобы затрубили к отступлению, дабы
десять легионов тотчас же воздержались от сражения, что было исполнено, но
солдаты из остальных легионов не услышали звука труб, поскольку отделяла их от
оставленной местности довольно большая долина. Потому с помощью войсковых
трибунов и легатов, ибо так приказал Цезарь, они были остановлены, но были
возбуждены надеждой на победу, превозможение врагов
86
и их
бегство в ходе успешного сражения до такой степени, что не казалось им трудным
то, чего они могли добиться мужеством без бегства, и они остановились не
раньше, чем дошли до стен города и ворот, тогда же во всех частях города можно
было услышать шум, вследствие чего те, которые были испуганы внезапным криком,
сочли, что враг был уже в воротах, и стали выбегать из города. — Collandus sim, — господа! Collandus sim! Какая
прозрачность, какой язык! Какая глубина, какая мысль! Collandus sim, какая сокровищница
мудрости! Ах, я дышу, дышу! Collandus sim и впредь, и всегда, и до самого конца collandus sim, collandus sim, collandus sim, collandus sim, collandus sim, — но тут зазвенел
звонок, и ученики издали дикий рев, а старик удивился и вышел.
И в эту же секунду
все рухнули с официальных фантазий лицом в фантазии частные об отроках,
мальчике, закипели дискуссии, а действительность менялась в мир тихонько
идеала, дай мне теперь помечтать, дай! Он нарочно это сделал! Нарочно назначил
меня главным судьей. Чтобы мне пришлось смотреть, чтобы я видел. Он завелся —
поганя себя, и меня тоже хотел испоганить, не мог перенести, что я довел его до
минутной слабости с парнем. Вправе ли я рисковать своим лицом, предлагая ему
такую картину? Я знал, если проглочу это обезьянничанье, лицо мое никогда не
вернется к норме, бегство навсегда станет невозможным, нет, нет, пусть они
выделывают что им вздумается, но не при мне, не при мне! Нервно пошевеливая
пальцем в ботинке, я схватил Ментуса за рукав, посмотрел с мольбою и прошептал:
— Ментус...
Он меня оттолкнул.
— О нет, мой
мальчиш! Не отвертишься! Ты главный судья, и точка!
87
Мальчишем меня
назвал! Какое омерзительное слово! Это была жестокость с его стороны, я понял,
что все потеряно и что мы на всех парах мчим к тому, чего я опасался больше
всего, к совершеннейшему уродству, к гротеску. А тем временем дикое, нездоровое
любопытство овладело даже теми, которые до последнего момента равнодушно
повторяли: — Неужли Сифонус... — Послышалось сопенье, буйно зацвел румянец, и
стало ясно, что поединок на мины станет настоящей схваткой, не на жизнь, а на
смерть, не на пустые словеса! Окружили обоих плотным кольцом и кричали в
воздухе тяжком:
— Начинать! Бери
его! Куси! Дальше!
Один лишь Копырда
преспокойненько потянулся, взял тетрадь и пошел ногами своими...
Сифон сидел на своем
отроке осовевший и нахохлившийся, как наседка на яйцах, — видно было, что он,
однако, чуток струхнул и не прочь бы увильнуть! Зато Пызо с ходу оценил
беспредельные шансы, которыми наградили Сифона его высшего полета убеждения и
взгляды. — Он у нас в руках! — шептал Пызо на ухо Сифону, подбадривая его. — Не
тушуйся! Подумай о своих принципах! У тебя принципы, и, полагаясь на принципы,
ты сможешь скорчить сколько хочешь каких угодно мин, а у него принципов нет, и
ему придется корчить мины, полагаясь на самого себя, — не на принципы
полагаясь. — Под влиянием такого нашептывания мина Пылашчкевича стала
выправляться и вскоре засияла совершенным покоем, ибо действительно принципы
наделяли его таким могуществом, что он мог всегда в любом количестве. Видя это,
Мыз-драль и Гопек оттянули Ментуса в сторону и молили его не идти на заведомое
поражение.
— Не губи себя и
нас, лучше сразу же сдайся — он гораздо минястее тебя. Ментус, притворись, что
забо-
88
лел, упади в обморок, а уж
потом все как-нибудь образуется, выгородим тебя! Он только и ответил:
— Не могу, кости уже
брошены! Прочь! Прочь! Хотите, чтоб я труса отпраздновал? Выбросьте этих зевак!
Это меня нервирует! Чтобы никто сбоку ко мне не приглядывался, кроме судей и
главного судьи. — Но мина его посерела, а решимость смешалась на ней с
очевидным волнением, и это так бросалось в глаза на фоне спокойной уверенности
в себе Сифона, что Мыздраль шепнул: — Паршиво с ним, — и всем сделалось страшно,
и все бочком повыходили, молча, старательно прикрывая за собою двери. И вот в
опустевшем и запертом классе мы оказались всемером, т. е. кроме Пылашчкевича и
Ментуса — Мыздраль, Гопек, Пызо, некий Гузек, второй судья Сифона, ну и я
посередке как главный судья, онемевший главный судья судей. И послышался
ироничный, хотя и угрозой дышавший голос Пызо, который, несколько побледнев,
читал по бумажке условия встречи:
— Противники встанут друг против друга и
выпустят серию мин, одна за другой, причем на каждую вдохновляющую и красивую
мину Пылашчкевича Ментальский ответит разрушительной и грязной контрминой. Мины
— самые интимные, своеобразные и
уникальные, самые разящие и изничтожающие — должны применяться без глушителя — до результата.
Он умолк, — а Сифон
и Ментус заняли предназначенные для них места. Сифон потер щеки, Ментус
подвигал челюстью, — и Мыздраль, позванивая зубами, произнес:
— Можете начинать!
И в тот именно миг,
когда он это говорил, дескать, «могут начинать», в тот именно миг, когда он
сказал,
89
мол, «начинать могут»,
реальность окончательно переступила свои границы, ничтожность возвысилась до
кошмара, а неподлинность обернулась совершеннейшим сном, — ну, а я торчал в
самой середке, пойманный словно муха в сетку, и не мог шевельнуться. Впечатление
было такое, будто в результате долгих тренировок они достигли наконец того, что
лицо исчезает. Фраза преобразилась в гримасу, а гримаса — пустая,
бессодержательная, полая, бесплодная — сцапала и не отпускала. Не было бы
ничего удивительного, если бы Ментус и Сифон взяли лица в руки и швырнули бы их
друг другу — нет, ничто уже не могло удивить. Я забормотал: — Сжальтесь над
своими лицами, сжальтесь хотя бы над моим, лицо не объект, лицо — это субъект,
субъект, субъект! — Но Сифон уже выставил лицо и завернул первую мину так
круто, что мое лицо сжалось, словно гуттаперчевое. А именно — он заморгал, как
человек, выходящий на свет из темноты, осмотрелся по сторонам с благочестивым
изумлением, начал ворочать глазами, стрельнул глазами вверх, выкатил глаза, раскрыл
рот, тихо вскрикнул, будто что-то увидел там, на потолке, изобразил восхищение
и так застыл упоенно, вдохновенно, после чего приложил руку к сердцу и
вздохнул.
Ментальский
скорчился, съежился и ударил в него снизу следующей, передразнивающей,
разрушительной контрминой: так же ворочал, так же поднимал, таращил, так же
раззявил в телячьем восторге и вертел подобным манером сварганенным лицом, пока
в пасть ему не влетела муха; он тут же съел ее.
Сифон не обращал на
это внимания, словно бы пантомимы Ментуса и вовсе не существовало (ибо у него
было то перед ним преимущество, что действовал он ради принципов, не себя
ради), но разразился горючими, страстными слезами и рыдал, достигая таким об-
90
разом вершин покаяния,
откровения и волнения. Ментус тоже зарыдал, и рыдал долго и обильно, пока на
носу у него не появилась капелька, — тогда он стряхнул ее в плевательницу,
достигнув таким образом вершины гадливости. Это дерзкое кощунство над самыми
святыми чувствами вывело, однако Сифона из равновесия — он не выдержал,
невольно взглянул и, движимый возмущением, как бы на полях этих рыданий,
испепелил смельчака сердитым взором! Неосторожный! Ментус того только и ждал!
Когда он почувствовал, что ему удалось приманить к себе с вершин взгляд Сифона,
он мгновенно ощерился и такую поганую состроил рожу, что тот, задетый за живое,
зашипел. Казалось, Ментус выиграл! Мыздраль и Гопек издали еле слышный вздох!
Рановато! Рановато издали!
Ибо Сифон, вовремя
спохватившись, что зря он вперился в лицо Ментуса и что, поддавшись возмущению,
он теряет власть над своим собственным лицом, — стремительно отступил, привел в
порядок свои черты, опять стрельнул взглядом вверх, да больше того, еще
выдвинул вперед одну ногу, слегка взъерошил волосы, челочку чуть приспустил на
лоб и так замер, опираясь на собственные только свои силы, с принципами и
идеалами; после чего поднял руку и неожиданно вытянул палец, указуя ввысь! Удар
был очень мощный!
Ментус моментально
вытянул тот же самый палец и поплевал на него, поковырял им в носу, поскребся
им, стал очернительствовать в меру сил своих и уменья, он защищался, нападая,
нападал, защищаясь, но палец Сифона продолжал, неодолимый, торчать высоко. И не
помогало, что Ментус свой палец грыз, ковырял им в зубах, чесал им пятку и
делал все, что в человеческих возможностях, дабы его испакостить, — увы, увы —
неумолимый, неодолимый
91
палец Пылашчкевича торчал,
нацеленный ввысь, и не сдавался Положение Ментальского делалось страшным, ибо
он исчерпал уже все свои пакости, а палец Сифона все указывал и указывал ввысь.
Ужас поверг в трепет судей и главного судью. Последним судорожным усилием
Ментус смочил свой палец в плевательнице и — отвратительный, потный, красный —
потряс им отчаянно перед Сифоном, но Сифон не только не обратил внимания, не
только даже пальцем не пошевелил, но вдобавок ко всему лицо у него расцвело,
словно радуга после грозы, и запечатлелся на нем в семи красках чудный Орлик —
Сокол, а также чистый, невинный, непросвещенный Отрок!
— Победа! — крикнул
Пызо.
Ментус выглядел
кошмарно. Отступил к самой стене и дышал хрипло, и сипел, и пену изо рта
выпускал, схватился за палец и тянул его, тянул, желая вырвать, вырвать с
корнем, отбросить, изничтожить эту общность свою с Сифоном, обрести
независимость! Не мог, хотя и тянул изо всех сил, не обращая внимания на боль!
Несостоятельность снова дала о себе знать! А Сифон мог всегда, мог без устали,
спокойный, как Небеса, с пальцем, вытянутым ввысь не благодаря Ментусу,
естественно, и не благодаря себе, но принципам благодаря! О, какая же
чудовищность! Вот один исковерканный, ощерившийся в одну сторону, вот другой —
в другую сторону! А между ними я, главный судья, навеки, наверное, заточенный
узник чужой гримасы, чужого лика. Лицо мое, словно зеркало их лиц, тоже
одичало, страх, отвращение, ужас выдавливали на нем свое несмываемое клеймо.
Паяц меж двух паяцев, как же мог я решиться на что-нибудь, что не было бы
гримасой? Мой палец на ноге трагично повторял движения их
92
пальцев, а я гримасничал,
гримасничал и знал, что теряю себя в этой гримасе. Пожалуй, я уже никогда не
убегу от Пимки. Не вернусь к себе. О, какая чудовищность! И какая страшная
тишина! Ибо тишина порой бывала абсолютной, никакого бряцания оружием, только
мины и немые движения.
И вдруг тишину
разорвал пронзительный вопль Ментуса:
— Держи! Хватай!
Бей! Убей!
Что это? Неужели
опять что-то новенькое? Неужели еще что-то? Не довольно ли? Ментус опустил
палец, бросился на Сифона и треснул его по роже — Мыздраль и Гопек кинулись на
Пызо, Гузека и треснули их по роже! Закипело. Куча мала на полу, над ней
неподвижно возвышался я как главный судья. Не прошло и минуты, а Пызо и Гузек
лежали как колоды, связанные подтяжками, Ментус же сел верхом на грудь Сифона и
принялся ужасно выкобениваться:
— Ну, что, червячок,
ты, Отрок невинный, думал, что одолел меня? Пальчик вверх и счастлив, а? Так
ты, цыпочка (он употребил самые чудовищные выражения), строил надежды, что
Ментус не сумеет? Позволит обвести себя вокруг твоего пальчика? А я тебе скажу,
что, если нельзя иначе, пальчик пригибают книзу силой!
— Пусти... —
просипел Сифон.
— Пустить! Сейчас я
тебя выпущу! Сейчас выпущу, вот не знаю только, совсем ли таким, каков ты
теперь. Давай поболтаем! Подставь ушко! К счастью, до тебя еще можно
добраться... силком... через уши. Я уж доберусь до твоего нутра! Подставь, говорю,
ушко! Подожди, мой невинный, я тебе кое-что скажу...
Склонился над ним и
пошептал — Сифон позеленел, взвизгнул, как поросенок, которого режут, и
заметался, словно вытянутая из воды рыба. Ментус
93
придушил его! И началась
погоня на полу, ибо он стал ловить ртом то одно, то другое ухо Сифона, который,
вертя головой, удирал вместе с ушами, — и зарычал, видя, что не может удрать,
зарычал, дабы заглушить убийственное, просвещающее слово, и рычал мрачно,
ужасно, голос его густел, он забылся в отчаянном и первобытном реве, просто
верить не хотелось, чтобы идеалы могли издать рев, подобно буйволу в пуще.
Мучитель тоже зарычал:
— Кляп! Кляп! Кляп
всаживай! Раззява! Чего раззявился? Кляп! Носовой платок всаживай!
Это на меня он так
орал. Это я должен был платок всаживать! Ибо Мыздраль и Гопек сидели, каждый на
своем судье верхом, и двинуться не могли! Я не хотел! Я не мог! Я замер, и
отвращение отняло у меня способность к движению, к слову и ко всякому вообще
выражению.
О, главный судья!
Тридцать лет, тридцать лет, где мои тридцать лет, где мои тридцать лет? Нет
тридцати лет! А тут вдруг Пимко появляется в дверях класса и стоит — в желтых
штиблетах, шевровых, в коричневом плаще и с палкой в руке — стоит... стоит. И
так абсолютно, будто бы он сидел.
ГЛАВА IV
ПРЕДИСЛОВИЕ К ФИЛИДОРУ,
ПРИПРАВЛЕННОМУ РЕБЯЧЕСТВОМ
Прежде чем
продолжить эти правдивые воспоминания, я хочу — в качестве отступления —
поместить в следующей главе рассказ под названием «Филидор, приправленный ребячеством». Вы видели, как дидактичный
Пимко каверзно меня уконтропопил; видели идеалистические тайники
интеллигентской нашей молодежи, несостоятельность жизни, отчаяние диспропорции,
ничтожность искусственности, мрачность скуки, смехотворность выдумки, муку
анахронизма, безумство попочки, и лица и других частей тела. Вы слышали слова,
слова, слова низкие, сражающиеся со словами высокими, и другие слова, столь же
мелкие, произносимые на уроках преподавателями, и вы были немыми свидетелями
того, как вещь, составленная из слов мелких, обернулась пошло диковинной
гримасой. Так уже на заре юности своей человек впитывает фразу и гримасу. В
такой кузнице выковывается зрелость наша. Сейчас вы увидите иную
действительность, иной поединок — смертный бой профессоров Г. Л. Филидора из
Лейдена и Момсена из Коломбо (с дворянской частицей «анти-Филидор»). Там тоже
действуют слова, а равно и отдельные части тела, не следует, однако, доис-
95
киваться тесной связи между
двумя этими частями представленного здесь целого; и тот, кто подумал бы, что,
включая в свое сочинение рассказ «Филидор, приправленный ребячеством», я не
руководствовался целью всего лишь как-то заполнить место на бумаге,
незначительно уменьшить стопку чистых листков перед собою, тот впал бы в
ошибку.
Но если
первостатейные знатоки и исследователи, профессионально обученные Пимкой
специалисты по конструированию попочки посредством указания на композиционные
недостатки в художественном произведении, предъявят мне обвинение, что, по их
мнению, стремление к заполнению места — причина частного свойства и несерьезная,
что не положено в художественное произведение впихивать все, что некогда было
написано, я отвечу: по моему скромному убеждению, отдельные части тела, а также
слова представляют собой достаточный эстетическо-художественный связующий
элемент композиции. И я докажу, что моя конструкция по точности и логике не
уступает наиточнейшим и наилогичнейшим конструкциям. Смотрите — основная часть
тела, добрая, привычная попочка составляет основу, ведь именно с попочки
начинается действие. От попочки, как от главного ствола, ответвляются и тянутся
во все стороны отдельные части тела, скажем, палец ноги, руки, глаза, зубы,
уши, причем одни части плавно переходят в другие благодаря тонким и искусным
превращениям. А лицо человеческое, каковое в Малой Польше* зовется «папа», она
же морда, — это крона, лиственный покров дерева, которое отдельными своими
частями вырастает из ствола попочки; так, «папа», стало быть морда, завершает
________________
* Историческая область Польши в бассейне верхнего и среднего течений Вислы, ее центр — Краков.
96
цикл, начатый попой. И что
же мне еще остается, добравшись до «папы», т. е. до морды, как только
обратиться к отдельным частям, дабы по ним снова вернуться к попочке? — и как
раз этому призвана помочь новелла «Филидор».
«Филидор» — это композиционное возвращение, пассаж, а лучше сказать — кода,
это трель, а точнее, поворот, заворот кишок, без которого я никогда не добрался
бы до левой коленки. Разве это не железный композиционный скелет? Разве этого
недостаточно, чтобы удовлетворить самым тонким профессиональным требованиям? А
что вы скажете, когда доберетесь до более глубоких связей между отдельными
частями, до различных переходов от пальца к зубам, до мистических значений
некоторых любимых частей, до смысла — далее — отдельных суставов, до целого
части, равно как и до всех частей части? Уверяю вас, это конструкция бесценная
с точки зрения заполнения места, обстоятельным ее исследованием можно заполнить
триста томов, заполняя все больше места и занимая все более высокое место и усаживаясь
все удобнее и вольготнее на своем месте. А вы любите пускать мыльные пузыри над
озером в закатный час, когда карпы плещутся в воде и рыбак молча сидит,
всматриваясь в зеркальную гладь?
И я рекомендую вам
свою методу усиления посредством повторения, благодаря которой, последовательно
повторяя некоторые слова, выражения, ситуации и части, я усиливаю их,
одновременно доводя впечатление о монолитности стиля чуть ли не до границ
нелепости. Посредством повторения, посредством повторения всего проще творится
всякая мифология! Обратите, однако, внимание на то, что такая конструкция из
частей не только конструкция, это, в сущности, целая философия, которую
97
я излагаю здесь в
щеголеватой и прозрачной манере беззаботного фельетона. Скажите мне, как вы
полагаете — не усваивает ли читатель, по вашему мнению, части только и только
частично? Он читает часть или отрывок, затем бросает, чтобы спустя какое-то
время прочитать следующий отрывок, а нередко случается и так, что он начинает с
середины или с конца, двигаясь назад, к началу. Частенько прочтет он несколько
отрывков и отложит, не потому даже, что это ему наскучило, а просто что-то
другое его увлекло. Да хоть бы он вдруг и прочитал целиком — неужели же вы
думаете, что он охватит взором целое и разберется в пропорциях и гармонии
отдельных частей, если не обратится к специалисту? И для того, стало быть,
автор годами мучается, кроит, подгоняет, распарывает, латает, в поту купается,
дабы специалист объявил читателю, что конструкция хороша? Но пойдем дальше, дальше,
обратимся к сфере повседневного личного опыта! Разве какой-нибудь телефонный
звонок или какая-нибудь муха не оторвет его от чтения как раз в том самом
месте, где все разрозненные части сходятся в целостность драматической
развязки? Ну, а если в этот именно момент его брат (допустим) войдет в комнату
и скажет что-нибудь? Благородный труд писателя пойдет насмарку из-за брата,
мухи или телефонного звонка — фи, гадкие мушки, зачем вы кусаете людей, которые
уже лишились хвостов, и нечем им вас отгонять? Но и еще одно обстоятельство
надо нам взять в расчет — не есть ли это ваше произведение, единственное,
исключительное и доведенное до совершенства, всего лишь частичка тридцати тысяч
иных произведений, тоже единственных в своем роде, являющихся на свет по принципу:
что ни год, то пророк? Ужасные части! Неужто того ради мы кон-
98
струируем целое, дабы
частичка части читателя проглотила частичку части произведения, да и то лишь
частично?
Трудно не поиграть
шуточкой на эту тему. Шуточка сама просится на язык. Ибо давно уже мы научились
отделываться шуточкой от того, что само чересчур язвительно шутит над нами.
Родится ли когда-нибудь гений серьезности, который взглянет в глаза реальным
жизненным мелочам и не разразится глуповатым смешком? Чье же величие в конце концов
окажется под стать мелочам? Эх ты, тон мой, тон легкого фельетона! Но заметим
далее (дабы до дна испить чашу частички), что эти правила и принципы
композиции, которым мы рабски подчиняемся, и сами-то порождение всего лишь
части, да к тому же и крошечной. Ничтожная часть мира, малюсенькая группа
специалистов и эстетов, мирок не больше мизинца, который целиком мог бы
расположиться в одном кафе, беспрестанно ведет междоусобную войну, выдавливая
из себя все более и более рафинированные правила. Но, что еще хуже, вкусы эти,
в сущности, и не вкусы вовсе — нет, ваша конструкция нравится им лишь отчасти,
куда как в большей части нравится им собственное их знание предмета
конструкции. Так это затем, стало быть, художник старается выказать свои
способности в композиции, дабы знаток мог выказать свои знания в этом предмете?
Тихо, цыц, мистерия, вот пятидесятилетний художник творит, преклонив колена
перед алтарем, с мыслью о шедевре, гармонии, точности, красоте, духе и
преодолении, вот знаток знает, углубляя творение художника в процессе
углубленного исследования, после чего произведение идет в мир к читателю — и
то, что было зачато в величайших и абсолютных муках, воспринимается не более
как от-
99
части, между телефоном и
котлетой. Тут писатель душой, сердцем, искусством, трудом, муками угощает — а
тут читатель и не хочет вовсе, а коли захочет, то от нечего делать, так просто,
пока не зазвонит телефон. Мелкие жизненные реалии губят вас. Вы напоминаете
человека, который вызвал на бой дракона, но которого крохотная комнатная
собачонка загонит под стол.
И дальше спрошу я
вас (дабы еще один глоток отпить из чаши части): разве — по вашему мнению —
произведение, сконструированное по всем правилам, выражает целое, а не часть
только? Ба! Разве любая форма не отбрасывание лишнего, разве композиция не
ограничение, разве слово может передать что-нибудь кроме части
действительности? Остальное — молчание. Наконец, мы создаем форму или она нас
создает? Нам кажется, что это мы конструируем, — иллюзия, в равной мере
конструкция конструирует нас. То, что ты написал, диктует тебе дальнейшее,
произведение родится не в тебе, ты хотел написать одно, а написалось нечто
совершенно иное. Части тяготеют к целому, каждая часть пробирается к целому
тайком, стремится к законченности, ищет дополнения, требует недостающего ей по
образу и подобию своему. Мысль наша вылавливает из бурного океана явлений
какую-то часть, скажем ухо или ногу, и сразу же в начале сочинения нам лезет
под перо ухо или нога, и потом уж мы не можем выпутаться из части, дописываем к
ней продолжение, она нам навязывает все остальные члены. Мы вьемся вокруг
части, словно плющ вокруг дуба, начало предопределяет конец, а конец — начало,
середина же возникает между началом и концом. Абсолютная несостоятельность
целого — вот отличие души человеческой. Что же нам тогда делать с такой частью,
100
которая родилась не похожей
на нас, словно тысяча страстных, огненных коней обрушились на ложе матери
ребенка нашего, — ха, пожалуй, единственно ради спасения видимости отцовства мы
должны, призвав на помощь все нравственные силы, уподобиться нашему творению,
если оно не хочет уподобиться нам. Да, да, помню, знал некогда писателя, у
которого в начале его литературной карьеры написалась героическая книга.
Совершенно случайно на первой же строчке он ударил по героической клавише, хотя
с тем же успехом мог взять скептическую или лирическую ноту, но первые фразы
получились героические, вот и пришлось ему, заботясь о гармоничности
конструкции, все усиливать и наращивать героизм до самой последней точки. И он
до тех пор оттачивал, отглаживал, отделывал, перекраивал и приспосабливал
начало к концу, конец к началу, пока не вышло из всего этого произведение живое
и глубоко убедительное. Что же ему было делать со своим глубочайшим убеждением?
Можно ли отпереться от глубочайшего убеждения? Разве серьезно относящийся к
своему слову художник может признаться, что это просто написалось у него так,
героически, вышло героически, и все тут, что его глубочайшее убеждение никак не
его глубочайшее убеждение, а откуда-то извне налезло, залезло, прилезло,
влезло? Исключено! Ибо такие мелочи, как налезло, написалось, вышло, залезло —
чужды высшему культурному стилю, — самое большее, они могут стать суррогатом
игриво легкомысленного и щеголеватого фельетона. Тщетно несчастный певец
героизма стыдился и таился, пробовал отбояриться от части, часть, уцепившись за
него, не хотела отпускать, пришлось ему прилаживаться к своей части. И до тех
пор уподобливался он части, пока в
101
конце литературной карьеры
не уподобился совсем, и стал героем — заложником своего героизма. И только, как
огня, избегал он своих приятелей времен возмужания, ибо те не могли надивиться
целому, которое так хорошо сидело на части. И они ему кричали: — Эй, Болек! А
помнишь этот ноготь... этот ноготь... Болек, Болек, Боленька, ноготь на зеленом
лужку помнишь? Ноготь? Ноготь, Боленька, где?
Таковы
принципиальные, основополагающие и философские причины, которые склонили меня к
постройке сочинения на фундаменте отдельных частей, — я рассматриваю при этом
сочинение, как часть сочинения, а человека как союз частей, тогда как все
человечество я считаю мешаниной частей и кусков. Но если бы кто-нибудь сделал
мне упрек: эта частичная концепция, по совести говоря, не представляет собой
никакой концепции, а всего лишь вздор, издевка, насмешка над частями, а я
вместо того, чтобы подчиниться жестким правилам и канонам искусства, пытаюсь
поиздеваться над ними с помощью такой издевки, — я ответил бы, что да, именно,
таковы как раз мои намерения. И, ей-Богу, я не поколеблюсь признать: я хочу
уклониться столько же от вашего Искусства, господа, которого не могу вынести,
сколько от вас самих... поскольку я не могу вынести и вас со всеми вашими
концепциями, со всей вашей художественной позицией и со всем вашим
художественным мирком.
Господа, существуют
на земле профессиональные группы более или менее смешные, менее или более
позорные, постыдные и оскорбительные — да и количество глупости не везде одно и
то же. Так, к примеру, парикмахеры на первый взгляд более податливы глупости,
чем сапожники. Но то, что творится в художественной среде мира, бьет все рекор-
102
ды глупости и позора —
причем до такой степени, что человек относительно порядочный и уравновешенный
не может не склонить стыдом горящего чела перед этой ребяческой и претенциозной
оргией. Ох, уж эти вдохновенные песнопения, которых никто не слушает! Ох, уж
эти мудрствования знатоков и энтузиазм на концертах и поэтических вечерах, и
обряды посвящения, оценки, дискуссии, и лица этих особ, когда они декламируют
или слушают, вкупе торжественно разыгрывая мистерию красоты! В силу какого же
болезненного противоречия все, что вы делаете или говорите, в этой именно сфере
становится смешным? Когда в течение веков какую-нибудь профессиональную среду
то и дело сводят судороги глупости, можно со всей определенностью сделать
вывод, что концепции ее не соответствуют реальности, что она попросту пичкает
себя фальшивыми концепциями. И ваши художественные концепции, вне всякого
сомнения, достигли вершин концептуальной наивности; и если вы хотите знать, как
и в каком смысле следовало бы их пересмотреть, так я вам могу это сказать без
проволочек — надо, однако, чтобы вы навострили ушки.
О чем, собственно,
страстно мечтает тот, кто в наше время почувствовал призвание к перу, кисти или
кларнету? Он прежде всего жаждет быть художником. Жаждет творить Искусство.
Грезит, что Красотой, Добром и Правдой будет насыщать себя и сограждан, хочет
быть жрецом и пророком, жертвуя сокровищницу своего таланта страждущему
человечеству. А также, возможно, он мечтает поставить талант свой на службу
Идее и Народу. Какие возвышенные цели! Какие восхитительные намерения! Разве не
такова была роль Шекспиров, Шопенов? Но рассудите, и тут вся загвоздка, вы же
еще не Шопе-
103
ны и не Шекспиры — вы еще не
реализовались полностью как художники и жрецы искусства — вы на нынешней
ступени вашего развития в лучшем случае только полушекспиры и четвертьшопены
(о, проклятые части!) — а потому ваша претенциозность обнажает лишь вашу убогую
незначительность — и это похоже на то, как если бы вы захотели одним прыжком
вскочить на пьедестал памятника, подвергая опасности свои драгоценные и
чувствительные части тела.
Поверьте мне:
существует разница между художником, который уже состоялся, и стаей
полухудожников и четвертьпророков, которые еще только хотели бы состояться. И
то, что к лицу художнику, уже обладающему собственным лицом, на вас смотрится
по-иному. Но вы вместо того, чтобы создать для себя концепцию по росту, по
мерке вашей действительности, рядитесь в чужие перья — вот потому вы и
становитесь кандидатами, вечными неумехами, вечными троечниками, вы, слуги и
эпигоны, почитатели и поклонники Искусства, которое не пускает вас дальше
передней. Воистину, страшно смотреть, как вы стараетесь и как вам не удается,
как всякий раз вам говорят, что еще не совсем, а вы снова лезете с новым
произведением, как пытаетесь навязывать эти произведения, как спасаетесь
кошмарно второсортными успехами, расточаете друг другу комплименты, устраиваете
художественные вечерочки, водите за нос себя и окружающих все новыми и новыми
поделками вашего неумения. Вы даже лишены радости сознавать, что то, что вы
пишете и варганите, имеет хоть какое-то значение. Ибо все это, повторяю, только
подражательство, все подсмотрено у мастеров — одна лишь скороспелая иллюзия,
будто это уже чего-то стоит, будто это уже
104
ценность. Положение ваше
ложно, и, будучи ложным, оно неизбежно приносит горькие плоды — и в вашей среде
уже расцветают взаимная неприязнь, пренебрежение, злословие, всякий презирает
других и себя в придачу, вы братство самопрезрения — так что в конце концов
ваше самопренебрежение убьет вас. Ибо на чем еще, в сущности, зиждется
положение второсортного писателя, если не на всеохватном великом отпоре? Первый
и безжалостный отпор дает ему рядовой читатель, который решительно не желает
наслаждаться его произведениями. Второй и позорный отпор дает ему собственная
его действительность, которую он не сумел выразить. А третий отпор и пинок,
самые позорные изо всех, он получает от искусства, в которое он укрылся, но
которое презирает его, как неумеху и недоросля. И это переполняет чашу позора.
Тут уже начинается полная бездомность. Это доводит до того, что второстепенный
становится объектом всеобщих насмешек, ибо попадает под перекрестный огонь
отторжений. Воистину, чего ждать от человека, трижды получившего отпор, причем
один другого позорнее? Разве отторгнутый таким образом человек не должен
уехать, забиться в какой-нибудь угол, убраться с глаз долой? Разве ничтожество,
выставляющее себя на всеобщее обозрение, жадное до почестей, может быть
здоровым, и разве не должно оно вызывать у природы икоту?
Но сначала ответьте
мне — разве, по вашему мнению, Бере лучше и сочнее Ананасовки, или, скорее,
склонны ли вы отдать предпочтение одному сорту груш перед другим? И любите ли
вы есть их, удобно расположившись в плетеном кресле на веранде? Позор, позор,
господа, позор и позор! Я не философ и не теоретик — я о вас говорю, о вашей
105
жизни думаю, так поймите же,
меня мучит лишь ваше личное положение. Нельзя оторваться. О, эта невозможность
перерезать пуповину, соединяющую тебя с людским неприятием! Отторгнутая душа —
не вынюханный цветок — конфетки, которым хотелось понравиться, а они не
понравились, — отвергнутая женщина — все это неизменно вызывало у меня
прямо-таки физическую боль, я не могу вынести этого неудовлетворения — и когда
я встречаю в городе кого-нибудь из художников и вижу, как заурядный отпор лежит
в основании его существования, как каждое движение, слово, вера, энтузиазм,
запятая, обида, гордость, жалость, горечь отдают заурядным, обидным отпором,
мне делается стыдно. И стыдно не потому, что я ему сочувствую, но потому, что я
с ним сосуществую, что призрачность его задевает меня и так же точно задевает
каждого, в чье сознание она проникает. Верьте, самое время разработать и
утвердить позицию второсортного писателя, ибо иначе всем людям станет плохо. Не
странно ли, что особы, посвящающие себя ex professo* форме и, можно
было бы полагать, чувствительные к стилю, покорно мирятся с таким положением,
ложным и претенциозным? Неужели вы не понимаете, что именно с точки зрения
формы, стиля нет ничего более рокового по своим последствиям, — ибо тот, кто
находится в ложном положении, в положении во всех отношениях пошлом, не может и
слова сказать, которое не было бы пошлостью?
Какова же тогда,
спросите вы, должна быть наша концепция, дабы мы сумели высказаться в согласии
с нашей реальностью, а стало быть, более суверенно? Господа, не в ваших силах
превратиться, вот
__________________
* По призванию (лат.).
106
так, в ночь со вторника на
среду, в зрелых мастеров, но вы, однако, могли бы в известной мере спасти свое
достоинство, отдалившись от Искусства, которое пристраивает вам столь
докучливую попочку. Первым делом порвите раз и навсегда с этим словом —
искусство, а заодно и с другим — художник. Перестаньте купаться в этих словах,
которые вы талдычите с нудным постоянством. Разве не правда, что каждый
немножечко художник? И разве не правда, что человечество создает искусство не
только на бумаге или холсте, но делает это ежеминутно в своей повседневной
жизни: и когда девушка вставляет цветок в волосы, когда в беседе с языка вашего
сорвется шутка, когда мы растворяемся в сумеречной гамме светотени — что же это
такое, если не сотворение искусства? Так зачем же это странное и вздорное
разделение на «художников» и остальное человечество? И разве не честнее было
бы, если бы вместо того, чтобы гордо именовать себя художниками, вы просто
сказали бы: «Я, может, чуть больше других занимаюсь искусством»? И еще, зачем
вам весь этот культ искусства, которое содержится в так называемых
«произведениях», — как это вам в голову взбрело и с чего это пригрезилось,
будто человек так уж восхищается произведениями искусства и что мы млеем от
неземного наслаждения, слушая фугу Баха? Неужели вас никогда не посещала мысль,
как засорена, мутна, незрела эта художественная сфера культуры — сфера, которую
вы стремитесь заточить в вашу незатейливую фразеологию? Ошибка, которую
бесцеремонно и постоянно вы совершаете, состоит в том, что вы сводите общение человека
с искусством исключительно к художественной эмоции, понимая к тому же такое
общение как акт крайнего индивидуализма, словно бы каждый из нас наслаж-
107
дался искусством
собственноручно, собственноножно, отгородившись непроницаемой стеной от других людей.
В действительности, однако, тут мы имеем дело со смесью, составленной из
множества эмоций, да еще и множества людей, которые, воздействуя друг на друга,
творят коллективное переживание.
Так, скажем, когда
на эстраде пианист бренчит Шопена, вы утверждаете, что очарование шопеновской
музыки в конгениальной интерпретации гениального пианиста очаровало слушателей.
Но, быть может, на самом-то деле ни один слушатель очарован не был. Не
исключено, если бы им не было известно, что Шопен — великий гений, а пианист —
тоже, они выслушали бы эту музыку с меньшим энтузиазмом. Возможно, также, что,
если каждый из них, побледнев от возбуждения, рукоплещет, кричит и вскакивает,
это следует приписать тому, что точно так же кричат и вскакивают все вокруг;
ибо каждый думает, что другие испытывают страшное наслаждение, неземное
восхищение, а потому и его собственное восхищение начинает подниматься на чужих
дрожжах; и потому легко может статься, что в зале никто сам по себе восторга не
испытал, но все выказывают восторг — ибо каждый приспосабливается к своим
соседям. И тогда только, когда все вместе они в должной степени
взаимовозбудятся, тогда только, говорю я, эти внешние проявления вызовут у них
волнение — ибо мы обязаны приспосабливаться к нашим внешним проявлениям. Но верно
и то, что, принимая участие в этом концерте, мы совершаем нечто вроде
религиозного акта (совсем так, как если бы мы прислуживали во время обедни),
благоговейно опускаясь на колена перед Божеством мастерства; в этом случае наше
восхищение было бы все же только актом поклонения и исполнения об-
108
ряда. Кто же тем не менее
скажет, сколько в этой Красоте истинной красоты, а сколько
историко-социологических процессов? Да, да, хорошо известно, человечество
нуждается в мифах — оно выбирает себе кого-нибудь из множества своих творцов
(кто, однако же, способен исследовать и описать пути, ведущие к такому выбору?)
и возносит его над остальными, начинает заучивать его наизусть, открывает в нем
собственные тайны, ему подчиняет свои чувства — но если бы мы с тем же самым
упорством взялись за вознесение другого художника, он стал бы нашим Гомером.
Так неужели же вы не видите, из какого множества разнообразнейших и нередко
внеэстетических элементов (перечень каковых я могу бесстрастно продолжать до
бесконечности) складывается величие художника и произведения? И это
сомнительное, противоречивое и трудное сожительство наше с искусством вы хотите
заточить в наивную фразочку, что «вдохновенный поэт поет, а восторженный
слушатель слушает»?
Да бросьте вы
цацкаться с искусством, бросьте — Бога ради! — всю эту систему его раздувания,
его превознесения; не упивайтесь легендой, а позвольте фактам творить вас. И
уже одно это должно было бы принести вам немалое облегчение, открывая вас
Действительности, — но вместе с тем избавьтесь от страха, будто это приведет к
оскудению и умалению вашего духа, — ибо Действительность всегда богаче наивных
иллюзий и лживых выдумок. И я покажу вам сейчас, какое богатство поджидает вас
на новом пути.
Это верно, что
искусство есть совершенствование формы. Но вы — и тут обнаруживается вторая
ваша кардинальная ошибка, — вы воображаете, будто искусство есть творение
произведений, со-
109
вершенных с точки зрения
формы; беспредельный и всечеловеческий процесс создания формы вы сводите к
производству поэм и симфоний; вы никогда не умели ни почувствовать сами, ни
растолковать другим, какую гигантскую роль играет форма в нашей жизни. Вы даже
в психологии не смогли обеспечить форме должное место. Вам все еще кажется, что
чувства, инстинкты, идеи руководят нашим поведением, а форму вы склонны считать
внешним дополнением и обычным украшением. И когда вдова, идя за гробом мужа,
безудержно рыдает, вы полагаете, что она рыдает, ибо тяжело переносит свою
утрату. Когда какой-нибудь инженер, врач или адвокат убьет свою жену, детей или
друга, вы считаете, что он не смог обуздать свои кровавые инстинкты. Когда же
политик скажет какую-нибудь глупость, вы подумаете, что он глуп, поскольку
говорит сплошные глупости. Но в Действительности дело выглядит следующим
образом: человеческое существо не выражает себя непосредственно и в согласии со
своей природой, но всегда в какой-нибудь определенной форме, и эта форма, этот
стиль, образ жизни не нами только порождены, они навязаны нам извне — вот
почему один и тот же человек может выказать себя окружающим умным и глупым,
злодеем и ангелом, зрелым или незрелым, в зависимости от того, какой стиль ему
выпадет и насколько он зависим от других людей. И если черви, насекомые день
напролет гоняются за пищей, мы без устали гоняемся за формой, мы грыземся с
другими людьми за стиль, за собственный наш образ жизни, и, сидя в трамвае,
сидя за обеденным столом, читая, играя, отдыхая или делая свои дела, — мы
всегда, непрерывно ищем форму и наслаждаемся ею либо страдаем из-за нее, мы
при-
110
спосабливаемся к ней, либо
корежим и разрушаем ее, либо позволяем, чтобы она творила нас, аминь.
О, могущество Формы!
Из-за нее умирают народы. Она вызывает войны. Она виновница того, что в нас
возникает нечто, что не от нас. Пренебрежительно к ней относясь, вы никогда не
сумеете понять глупости, зла, преступлений. Она управляет самыми ничтожными
нашими поступками. Она в основе коллективного бытия. Однако для вас Форма и
Стиль все еще понятия из сферы чисто эстетической, для вас стиль всего только
стиль на бумаге, стиль ваших рассказов. Господа, кто же даст пощечину попочке,
которую вы осмеливаетесь обращать к людям, преклоняя колена перед алтарем
искусства? Форма для вас — не что-то живое и Человеческое, не что-то, я бы
сказал, практическое и повседневное, а только некий праздничный атрибут.
Склоняясь над листом бумаги, вы забываете о собственной личности, и вас не
заботит совершенствование вашего личного и конкретного стиля, вы лишь
занимаетесь некоей абстрактной стилизацией в пустоте. Не искусство служит вам,
вы служите искусству и с бараньей покорностью позволяете, чтобы оно мешало
вашему развитию и сталкивало вас в пекло неумения.
Посмотрите теперь,
сколь отличной была бы позиция человека, который вместо того, чтобы насыщаться
фразеологией всевозможных концептуалистов, свежим взглядом окинул бы мир,
осознавая безмерное значение формы в нашей жизни. Если бы он взялся за перо, то
уж не затем, дабы стать Художником, но затем — скажем так, — дабы лучше
выразить собственное своеобразие и разъяснить его другим; либо же, чтобы
упорядочить свой внутренний мир, а также, быть может, углубить, отшлифо-
111
вать свои отношения с
другими людьми, имея в виду безграничное и творческое влияние других душ на
нашу душу; либо, к примеру, он бы старался отвоевать себе такой мир, который
ему по вкусу и который ему насущно необходим для жизни. Совершенно ясно, он не
будет жалеть усилий для того, чтобы произведение своим художественным
притяжением приманивало и пленяло других, — но главной его целью будет не
искусство, а собственная его персона. И я говорю «собственная», а не «чужая»,
ибо самое время, чтобы вы бросили почитать себя высшими существами, которые
могут кого-то поучать, просвещать, вести, поднимать и очищать. Кто же это
гарантировал вам такое превосходство? Где сказано, что вы уже принадлежите к
высшим сферам? Кто это назначил вас аристократией? Кто вам дал патент на
Зрелость? О, тот писатель, о котором я говорю, не отдается писанию по той
причине, что считает себя зрелым, но потому именно, что ощущает свою незрелость
и знает, что не овладел формой и что он тот, кто взбирается, но еще не
взобрался, тот, кто рождается, но еще не родился. И если случится ему написать
произведение никчемное и глуповатое, он скажет: — Превосходно! Я написал глупо,
но я ни с кем не подписывал контракт на поставку одних только мудрых,
совершенных сочинений. Я выразил свою глупость и радуюсь этому, поскольку
неприязнь и суровость людей, каковые я вызвал против себя, формируют меня и
лепят, как бы создают заново, и вот я еще раз рожден заново. Из чего ясно:
пророк, наделенный здоровой философией, так крепко верит в себя, что даже
глупость и незрелость его не устрашают и не в состоянии ему навредить — с
высоко поднятой головой может он самовыражаться и объявлять о
112
своей никчемности, тогда как
вы уже почти ничего не способны выразить, поскольку страх лишает вас голоса.
А стало быть, в этом
смысле реформа, которую я вам предлагаю, доставила бы вам немалое облегчение.
Надо, однако, добавить, что только сладкопевец, подобным образом подходящий к
делу, был бы способен совладать с проблемой, которая пристраивала вам самую
гадкую из гадких попочек, — и проблема, которую я тут затрагиваю, быть может,
самая фундаментальная, самая гениальная (я не боюсь употребить это слово) из
всех проблем стиля и культуры. Я бы так в живописной манере ее изложил:
представьте себе, что взрослый и зрелый бард, склонившись над листом бумаги,
творит... но на загривке у него поместился юноша или какой-нибудь
полуинтеллигент-полупросвещенный, либо девица, либо какая-нибудь особа со
среднебезликой и размазанной душой, либо какое-то молоденькое существо, более
низкое и темное, — и вот существо это, юноша, девица, полуинтеллигент или,
наконец, иной какой-нибудь понурый сын темной четверть-культуры, кидается на
его душу и вытягивает ее, сжимает, уминает лапами и, обхватив ее, вбирая,
всасывая, омолаживает ее своей молодостью, заправляет своей незрелостью и
прилаживает ее себе по своей мерке, низводя до своего уровня, — ах, заключает в
свои объятия! Но художник вместо того, чтобы схватиться с агрессором,
прикидывается, будто его не замечает и — какое безумие! — полагает, что избежит
насилия, делая вид, словно никто его и не насилует. Разве не то же случается с
вами — и с великими гениями, и с посредственными бардами из второго ряда? Разве
неправда, что всякое более высокое и зрелое существо, более старое,
113
тысячью различных нитей
привязано к существу, находящемуся на низшей ступени развития, и разве такая
зависимость не пронизывает нас насквозь, добираясь до самой сути, так глубоко,
что можно сказать: старший создан младшим? Разве, когда мы пишем, не приходится
нам приспосабливаться к читателю? Разве, говоря, мы не попадаем в зависимость
от того, к кому обращаемся? Разве мы не влюблены смертельно в молодость? Разве
нам не нужно всякую минуту искать милости существ низших, подстраиваться к ним,
поддаваться то их превосходству, то их очарованию — и разве болезненное это
насилие, совершенное над нашей личностью полутемной низостью, не самое
плодотворное насилие? Вы, однако, — пока что и вопреки всей вашей риторике —
решились лишь на то, чтобы спрятать голову в песок, и ваш
школярско-дидактический ум, набитый гордынею, не в состоянии осознать этого.
Тогда как в действительности вас без устали насилуют, а вы делаете вид, будто
ничего не произошло, ибо вы, взрослые, общаетесь только со взрослыми, и
зрелость ваша такая зрелая, что только со зрелостью и может знаться!
Если бы вы, однако,
меньше были озабочены Искусством или же обучением и шлифовкой других, а больше
собственными жалкими особами, вы никогда бы не прошли мимо столь ужасного
насилия над личностью — и поэт не создавал бы поэм для другого поэта, а
почувствовал бы себя пронизанным и творимым снизу силами, которых до сих пор не
замечал. Он понял бы, что, только познав их, он способен от них освободиться; и
приложил бы все старание, чтобы в его стиле, позиции и форме — и художественной
и житейской — отчетливо обозначилась бы связь с низким. Он уже не чувствовал бы
114
себя лишь Отцом, но Отцом и
одновременно Сыном; и не писал бы только как мудрый, изысканный, зрелый, но,
скорее, как Мудрый, все еще оглупляемый. Утонченный, неутомимо огрубляемый, и
Взрослый, неустанно омолаживаемый. И если бы, отходя от письменного стола, он
встретил бы ненароком юношу или полуинтеллигента, он уже не хлопнул бы их
покровительственно, назидательно и учительски по плечу, но, скорее, в святом
страхе застонал бы, зарычал, а может, даже и пал бы на колени! Вместо того
чтобы бежать от незрелости, замыкаясь в высоких сферах, он понял бы, что
универсальный стиль тот, который сумеет любовно обнять недоразвитость. И это
привело бы вас в конце концов к форме, так дышащей творчеством и наполненной
поэзией, что все бы вы разом превратились в могучих гениев.
Посмотрите, какими
надеждами одаривает вас эта лично-личностная моя концепция — какие открывает
перед вами перспективы! Но чтобы она стала концепцией стопроцентно творческой и
четкой, вы должны сделать вперед еще один шаг — и шаг этот такой смелый и
решительный, такой безграничный по своим возможностям и разрушительный по своим
последствиям, что только еле слышно и в самых общих чертах намекнут вам о нем
мои уста. Вот — уже пришло время, уже пробил час на часах истории — старайтесь
побороть форму, освободиться от формы. Бросьте отождествлять себя с тем, что
вас определяет. Вы, художники, попробуйте уклониться от любого своего способа
выражения. Не доверяйте собственным словам. Остерегайтесь веры вашей и не
поддавайтесь чувствам. Откажитесь от того, чем вы кажетесь другим, и пусть
поразит вас страх перед всяким самовыраже-
115
нием, такой страх, какой
побуждает птицу дрожать при виде змеи.
Ибо — но не знаю, по
правде говоря, могут ли уже сегодня уста мои произнести это, — ложен постулат,
будто человек обязан быть определенным, то есть непоколебимым в своих идеях,
категоричным в своих заявлениях, не сомневающимся в своей идеологии, твердым в
своих вкусах, ответственным за слова и поступки, раз и навсегда закованным в
свой образ жизни. Всмотритесь попристальнее в нелепость этого постулата. Наша
стихия — вечная незрелость. То, что мы думаем, чувствуем сегодня, для правнуков
неизбежно будет глупостью. Тогда уж лучше для нас сегодня признать в этом долю
глупости, которую принесет время... и та сила, каковая побуждает вас к
скороспелым определениям, это не целиком человеческая сила, как полагаете вы.
Скоро мы уразумеем, что уже не это самое важное: умирать за идеи, стили,
тезисы, лозунги, веры; и не это тоже: утверждаться в них и замыкаться; но
совсем иное, но это: отступить на шаг и оказаться на некотором расстоянии от
всего, что непрерывно с нами происходит.
Отступление. Я
предчувствую (но не знаю, могут ли уже признаться в этом мои уста), что
близится время Генерального отступления. Поймет сын земли, что он не выражает
себя в согласии со своей истинной сущностью, но только и всегда в форме
искусственной и болезненно навязанной извне — людьми ли, обстоятельствами ли. И
станет он страшиться этой своей формы и стыдиться ее, как до того чтил ее и
гордился ею. Вскоре мы начнем пугаться наших фигур и личностей, ибо ясно станет
нам, что они никак не наши полностью. И вместо того, чтобы реветь: «Я в это
верю — я это чувст-
116
вую — я такой — я это
защищаю», мы скажем смиренно: «Мне в это верится — мне это чувствуется — мне
это сказалось, сделалось, подумалось». Поэт-пророк запрезирает песнь свою.
Вождь убоится приказа Своего. Жрец испугается алтаря, а мать будет внушать сыну
не только принципы, но и умение увертываться от них, дабы они его не придушили.
Долгая и тяжкая
будет это дорога. Ибо сегодня и личности, и целые народы совсем неплохо умеют
управлять своей психической жизнью и не чуждо им искусство создания стилей,
вер, принципов, идеалов, чувств по собственной их прихоти, а также в согласии с
их собственными сиюминутными интересами; но они не умеют жить без стиля; и мы
не знаем еще, как защищать нашу глубинную свежесть от дьявола порядка. Великие
открытия неизбежны — мощные удары, нанесенные мягкой человеческой ладонью по
стальному панцирю Формы, — неслыханная хитрость, и великая честность мысли, и
необыкновенное обострение ума, — дабы человек избавился от своей жестокости и
сумел согласить в себе форму с бесформенностью; закон с анархией, зрелость с
вечной и святой незрелостью. Но покуда это не наступит, скажите мне: лучше ли,
по вашему мнению, Бе-ре Ананасовки? И любите ли вы поедать ее, сидя удобно в
плетеном кресле на веранде, либо же предпочитаете предаваться этому в тени
деревьев, тогда как ваши части тела охлаждает ласковый и свежий ветерок? И я
спрашиваю вас об этом со всею серьезностью и со всею ответственностью за слово,
равно как и с глубочайшим почтением ко всем вашим частям без исключения,
поскольку знаю, что вы представляете собой часть Человечества, которого частью
являюсь и я, а также, что вы частично
117
участвуете в части части
чего-то, что также является частью и чего я также являюсь частью в части вместе
со всеми частичками и частями части части части части части части части части
части части части... Спасите! О, проклятые части! О, кровожадные, омерзительные
части, так, значит, вы опять за меня уцепились, неужели не убежать мне от вас,
ха, куда же мне укрыться, что делать, о, хватит; хватит, хватит, кончим эту
часть книги, перейдем поскорее к другой части, и, клянусь, в следующей главе
уже не будет частичек, ибо я отряхнусь от них, и сброшу их, и выброшу их
наружу, оставаясь снаружи (частично по крайней мере) без части.
ГЛАВА V
ФИЛИДОР, ПРИПРАВЛЕННЫЙ РЕБЯЧЕСТВОМ
Князем наиболее
чтимых во все времена синтетиков, вне всякого сомнения, был д-р проф.
Синтетологии Лейденского университета, верховный синтетик Филидор, родом из
южных околиц Аннама. Он творил в патетическом духе Высшего Синтеза, главным
образом с помощью прибавления + бесконечности, а в экстренных случаях также и с
помощью умножения на + бесконечность. Это был мужчина достойного роста,
довольно крупный, с развевающейся бородой и лицом пророка в очках. Духовное
явление такого масштаба не могло, разумеется, не вызвать в природе
контръявления, в соответствии с ньютоновским принципом действия и
противодействия, и, потому столь же знаменитый Аналитик скоренько родился в
Коломбо и, получив докторскую степень, а также звание профессора Высшего
Анализа в Колумбийском университете, быстро поднялся по лестнице научной
карьеры на верхнюю ее ступень. Это был мужчина сухонький, маленький, гладко
выбритый, с лицом скептика в очках и единственной страстью, состоявшей в
преследовании и посрамлении знаменитого Филидора.
Он творил
разделительно, а специальностью его было разделение особы на части с помощью
счета, в особенности же с помощью щелчков. Так, с помощью щелчка в нос он
побуждал нос к самостоятельному бытию, при-
119
чем нос, к ужасу своего
хозяина, ни с того ни с сего начинал вертеться во все стороны. Искусство это он
часто пускал в дело в трамвае, если ему было скучно. Прислушавшись к голосу
своего истинного призвания, он бросился в догоню за Филидором, а в одном
маленьком городке Испании ему даже удалось получить дворянскую частичку к имени
— анти-Филидор, чем он безумно гордился. Филидор, узнав, что тот преследует
его, естественно, также пустился в погоню, и долгое время ученые гонялись друг
за другом безрезультатно, ибо гордость ни одному из них не позволяла признать,
что он не только преследователь, но и преследуемый. А потому, когда, к примеру,
Филидор был в Бремене, анти-Филидор мчался из Гааги в Бремен, не желая или не
будучи в состоянии принять во внимание, что Филидор в то же самое время и с той
же самой целью скорым поездом отправляется из Бремена в Гаагу. Столкновение
двух разогнавшихся ученых— катастрофа, сравнимая по масштабам с крупнейшими
железнодорожными катастрофами, — произошла совершенно случайно в зале
первоклассного ресторана, гостиницы «Бристоль» в Варшаве. Филидор,
сопутствуемый профессоршей Филидор, держа в руках расписание поездов, был
поглощен выбором лучшего маршрута, когда прямо с поезда, в ресторан ворвался
запыхавшийся анти-Филидор под руку со своей аналитической спутницей Флорой
Дженте из Мессины. Мы, т. е. при сем присутствовавшие ассистенты, доктора
Теофил Поклевский, Теодор Роклевский и я, оценив серьезность положения, тотчас
же принялись за составление заметок.
Анти-Филидор подошел
к столику и, не произнося ни слова, взглядом атаковал профессора, который
встал. Они попытались одолеть друг друга духовно. Аналитик напирал
хладнокровно, снизу, Синтетик отвечал сверху, взглядом, полным твердого
достоинства. Когда поеди-
120
нок глазами не дал
решительных результатов, оба врага по духу начали поединок на словах. Доктор и
мастер Анализа произнес:
— Клецки!
Синтетолог ответил:
— Клецка!
Анти-Филидор
заревел:
— Клецки, клецки,
или комбинация муки, яиц и воды!
Филидор парировал
мгновенно:
— Клецка, или высшее
существо Клецки, сама наивысшая Клецка!
Глаза его метали
молнии, борода развевалась, было ясно, он одержал победу. Профессор Высшего
Анализа в бессильной ярости отступил на несколько шагов, но тут же в мозгу его
выстроилась страшная концепция, а именно, тщедушный слабак в сравнения с
Филидором как таковым, он взялся за его жену, которую старый заслуженный
профессор любил без памяти. Вот дальнейший ход событий, согласно Протоколу:
1. Госпожа
профессорша Филидор, дама весьма упитанная, толстая, достаточно величественная,
сидит, ничего не говорит, сосредоточивается.
2. Профессор д-р
анти-Филидор встал против профессорши со своим мозговым объективом и начал
смотреть на нее взором, каковой раздевал ее догола. Госпожа Филидор затряслась
от холода и стыда. Д-р проф. Филидор молча накрыл ее дорожным пледом и поразил
нахала взором, полным беспредельного презрения. При сем, однако, проявил
признаки беспокойства.
3. Тогда
анти-Филидор тихо проговорил: — Ухо, ухо! — и разразился ехидным смехом. Под
воздействием этих слов ухо тотчас же обнаружило себя и сделалось неприличным.
Филидор велел жене натянуть шляпу на уши, это, однако, мало помогло, ибо тут же
анти-Филидор буркнул как бы себе под нос: — Две дырки в
121
носу, — обнажив дырки носа
почтенной Профессорши манером равно беспардонным, как и аналитическим.
Положение становилось угрожающим, тем более что о закрытии дырочек не могло
быть и речи.
4. Профессор из
Лейдена пригрозил вызвать полицию. Чаша весов явно стала склоняться в пользу
Коломбо. Мастер Анализа умственно сказал:
— Пальцы, пальцы
руки, пять пальцев.
К сожалению, туша
профессорши была не такова, дабы затушевать факт, который вдруг предстал перед
собравшимися во всей своей бросающейся в глаза очевидности, то есть факт
пальцев на руке. Пальцы были, по пять с каждой стороны. Госпожа Филидор,
обесчещенная дотла, из последних сил пыталась натянуть перчатки, но — в это
просто трудно поверить — доктор из Коломбо накоротке сделал ей анализ мочи и, зашедшись
в плаче, победоносно прокричал:
— Н2ОС4,
TPS,
немного лейкоцитов и белка!
Все встали. Д-р
проф. анти-Филидор, удалился со своей любовницей, которая вульгарно
расхохоталась, а профессор Филидор с помощью нижеподписавшихся немедленно отвез
жену в больницу. Подписались — Т. Поклевский, Т. Роклевский и Антоний Свистак,
ассистенты.
На следующее утро мы
собрались — Роклевский, Поклевский и я вместе с Профессором — у одра больной
госпожи Филидор. Ее разложение шло чересчур последовательно. Надкусанная аналитическим
зубом анти-Филидора, она постепенно утрачивала свои внутренние связи. Время от
времени она только глухо стонала: — Я нога, я ухо, нога, мое ухо, палец,
голова, нога, — словно прощаясь с частями тела, которые уже начинали двигаться
автономно. Индивидуальность ее пребывала в состоянии агонии. Все мы
сосредоточились на поисках
122
средств срочного спасения.
Средств таких не было. После совещания, в котором принял участие и доцент С.
Лопаткин, прилетевший в 7.40 из Москвы на самолете, мы еще раз признали
необходимость самых сильных синтетических, научных методов. Методов таких не
было. Но тогда Филидор собрал в кулак все свои умственные способности и так их
сконцентрировал, что мы отступили на шаг, и произнес:
— Пощечина!
Пощечина, причем звонкая, — щека, это единственная из всех частей тела,
способная вернуть честь моей жене и синтезировать разбежавшиеся элементы в
некий высший почетный смысл хлопка и шлепка. Так за дело!
Но всемирно
прославленного Аналитика не так легко было сыскать в городе. Только вечером его
удалось поймать в первоклассном баре. Пребывая в состоянии трезвого пьянства,
он пил бутылку за бутылкой, и чем больше он пил, тем больше трезвел, то же
самое происходило и с его аналитической любовницей. В сущности говоря, они
больше упивались трезвостью, нежели алкоголем. Когда мы вошли, официанты,
бледные как полотно, трусливо сидели под стойкой, а они молча предавались
каким-то не совсем понятным оргиям хладнокровного свойства. Мы составили план
действий. Профессор сначала должен был предпринять ложную атаку правой рукой на
левую щеку, после чего левой ударить по правой, а мы — т. е. доктора-ассистенты
Варшавского университета — Поклевский, Роклевский и я, а также доцент С.
Лопаткин — незамедлительно приступить к составлению протокола. План был прост,
действия несложны. Но у профессора опустилась поднятая рука. А мы, свидетели,
обалдели. Не было щеки! Не было, повторяю, щеки, были только две розочки и
нечто подобное виньетке из голубков!
123
Анти-Филидор,
проявив дьявольскую смекалку, предугадал план Филидора и упредил его. Этот
трезвый Бахус вытатуировал себе на щеках по две розочки на каждой и нечто
подобное виньетке из голубков! Вследствие этого щеки, а в свою очередь и
задуманная Филидором пощечина потеряли всякий смысл, тем более высший. В
сущности говоря, пощечина розам и голубкам не была пощечиной — она была скорее
чем-то вроде удара по обоям. Не считая возможным допустить, дабы всеми
уважаемый педагог и воспитатель молодежи попал в смешное положение, колошматя
по обоям того ради, что жена его больна, мы решительно возражали против
действий, о которых он мог бы впоследствии пожалеть.
— Пес ты! — проревел
старец. — Ты подлый, ах, подлый, подлый пес!
— Куча ты! — ответил
Аналитик, полыхая страшной аналитической спесью. — Я тоже куча. Хочешь — пни
меня в живот. Не пнешь меня в живот, пнешь живот — и ничего больше. Хотел
зацепить пощечиной щеку? Щеку можешь зацепить, но не меня — не меня. Меня нет
вообще! Нет меня!
— Я еще зацеплю! Бог
даст, зацеплю!
— Пока что они в
иной субстанции! — засмеялся анти-Филидор. Флора Дженте, сидевшая рядом,
расхохоталась, космический доктор обоих анализов бросил на нее чувственный
взгляд и вышел. А вот Флора Дженте осталась. Она сидела на высокой табуретке и
поглядывала на нас вылинявшими глазами до основания проанализированного попугая
и коровы. Сразу же, с 8.40, мы начали — проф. Филидор, два медика, доцент
Лопаткин и я — общую конференцию; перо в руках, как обычно, держал доцент
Лопаткин. Конференция протекала следующим образом.
124
ВСЕ ТРИ ДОКТОРА
ПРАВА
Ввиду
вышепроисшедшего мы не видим возможности урегулирования конфликта достойным
путем и советуем Многоуважаемому Господину Профессору игнорировать оскорбления,
как исходящие от особы, не способной дать достойного удовлетворения.
ПРОФ. Д-Р ФИЛИДОР
Я буду игнорировать, а там жена умирает.
ДОЦ. С. ЛОПАТКИН
Жену не спасти.
Д-Р ФИЛИДОР
Не говорите так, не
говорите так! О, пощечина, единственное лекарство. Но пощечины нет. Нет щек.
Нет средства божественного синтеза. Нет чести! Нет Бога! Да, но есть щеки! Есть
пощечина! Есть Бог! Честь! Синтез!
Я
Вижу, профессора
подводит логика мышления. Либо, щеки есть, либо их нет.
ФИЛИДОР
Господа, вы
забываете, что остаются еще две мои щеки. Его щек нет, но мои щеки есть. Мы еще
можем поставить на карту две мои нетронутые щеки. Господа, только постарайтесь
понять мою мысль — я не могу дать ему пощечину, а он мне может, — но что я ему,
что он мне, это все равно, так и так будет Пощечина и будет Синтез!
— Ба! Но как же
сделать так, чтобы он Профессору дал пощечину?! Как его заставить Профессору
дать пощечину?! Как его заставить Профессору дать пощечину?!!
— Господа, —
сосредоточенно проговорил гениальный мыслитель, — у него есть щеки, но у меня
тоже есть щеки. Принцип здесь — определенная аналогия, и я поэтому буду
действовать не столько логично, сколько
125
аналогично. Per analogiam* куда вернее, ибо
природой управляет некая аналогия. Если он король Анализа, то я же как-никак
король Синтеза. Если у него щеки, то и у меня щеки. Если у меня жена, то у него
любовница. Если он проанализировал мою жену, то я синтезирую его любовницу и
таким образом выдеру из него пощечину, которую он боится мне дать! Одним
словом, я его заставлю и спровоцирую дать мне пощечину — если уж я не могу дать
пощечину ему. — И он, не мешкая, кивнул Флоре Дженте.
Мы примолкли. Она
подошла, двигая всеми частями тела; одним глазом кося на меня, другим на
Профессора, оскалив зубы на Степана Лопаткина, выпятив грудь на Роклевского, а
задом вертя по адресу Поклевского. Впечатление было такое, что доцент
вполголоса заметил:
— Вы в самом деле
хотите кинуться со своим высшим синтезом на эти пятьдесят отдельных кусков? На
эту бездушную, платную комбинацию элементов (ЖП+ПЖ) могущества?
Но универсальный
Синтетолог обладал свойством никогда не терять надежды. Он пригласил ее к столику,
угостил рюмочкой «Чинзано» и для начала, чтобы исследовать, синтетически
сказал:
— Душа, душа.
Она ответила чем-то
похожим, но не тем же самым, ответила чем-то, что было частью.
— Я! — произнес
Профессор, изучающе и с нажимом, стремясь пробудить в ней куда-то
запропастившееся «я». —Я!
Она ответила:
— А, вы, очень
хорошо, пять злотых!
— Единство! — резко
закричал Филидор. — Высшее Единство! Единство!
______________
* По аналогии (лат.).
126
— Мне все едино, —
сказала она равнодушно, — старик или ребенок.
Затаив дыхание,
смотрели мы на эту чертову аналитичку ночи, которую анти-Филидор превосходно
вышколил по-своему, а может, даже и воспитал для себя с малых лет.
Однако же Творец
Синтетических Наук не унимался. Настал период тяжкого противоборства и напряжения
сил. Он прочитал ей две первые песни «Короля-Духа», она потребовала за это
десять злотых. Он провел с нею долгую и вдохновенную беседу о высшей Любви,
Любви, которая захватывает и объединяет все, за что она взяла одиннадцать
злотых. Он прочитал ей два отвлеченных романа наиболее известных романисток на
тему о возрождении посредством Любви, за что она запросила сто пятьдесят злотых
и не хотела уступить ни гроша. Когда же он вознамерился пробудить в ней
гордость, она выставила счет на пятьдесят два злотых — ни больше, ни меньше.
— За чудачества
платят, старый хрыч, — сказала она, — на это таксы, нет.
И заворочала своими
тупыми совиными глазами, не поддаваясь, расходы росли, а анти-Филидор в городе
смеялся в кулак над безнадежностью стараний, штучек...
На конференции с
участием д-ра Лопаткина и трех доцентов знаменитый исследователь признал
поражение в следующих словах:
— В общей сложности
мне обошлось это в несколько сот злотых, я действительно не вижу возможности
синтезирования, напрасно я прибег к помощи наивысших Единений, как то —
Человечество, она все переводит на деньги и выдает сдачу. Человечество,
оцененное в сорок два злотых, перестает быть Единением. В самом деле, неясно,
что делать. А жена там теряет последние остатки
127
внутренних связей. Нога уже
отправляется гулять по комнате, как только она вздремнет — естественно, жена,
не нога, — приходится держать ее руками; но руки тоже не хотят, анархия
страшная, страшная разболтанность.
Д-Р МЕД. Т.
ПОКЛЕВСКИЙ
А анти-Филидор
распространяет слухи, будто профессор — противный маньяк.
ДОЦЕНТ ЛОПАТКИН
А нельзя ли
добраться до нее как раз с помощью денег? Если она все переводит на деньги, то
можно подъехать как раз со стороны денег? Простите, я плохо вижу, что у меня за
мысль, но есть нечто такое в природе — к примеру, была у меня пациентка, болела
робостью, смелостью я ее лечить не мог, ибо смелость она не ассимилировала, но
я дал ей такую дозу робости, что она не могла больше выдержать, и оттого, что
не могла, ей пришлось осмелеть, и она тотчас же стала безумно храброй.
Наилучший метод — per se*, то есть вывернуть рукав наизнанку, подкладкой
наружу, это значит само в себе. Само в себе. Надо бы ее синтезировать деньгами,
только, признаюсь, не вижу, как...
ФИЛИДОР
Деньги, деньги... Но
деньги всегда цифра, сумма, это не имеет ничего общего с Единением, собственно,
только грош неделим, но грош-то не оказывает никакого воздействия. Пожалуй...
пожалуй... господа, а если ей дать такую большую сумму, чтобы она одурела? —
одурела? Господа... чтобы она одурела?
Мы примолкли,
Филидор вскочил с места, а его черная борода развевалась. Он впал в одно из
таких гиперманиакальных состояний, в которые гений регулярно впадает раз в семь
лет. Он продал два каменных дома и виллу за городом, а вырученную сумму, 850
000 злотых, разменял на злотые. Поклев-
_______________
* Само по себе, в чистом виде (лат.).
128
ский наблюдал за ним с
удивлением, этот недалекий уездный доктор никогда не умел понять гения, не умел
понять и потому-то, собственно, совсем не понимал. А тем временем философ, уже
уверовав в себя, направил ироничное приглашение анти-Филидору, который, отвечая
на иронию иронией, пунктуально в половине десятого появился в кабинете
ресторана «Алказар», где предстояло свершиться решающему эксперименту. Ученые
не подали друг другу руки, только мастер Анализа сухо и ядовито засмеялся:
— Ну, наслаждайтесь,
наслаждайтесь сколько влезет! Моя девушка не так скора на сложение, как ваша
жена на разложение, в этом отношении я спокоен.
И он тоже стал
постепенно впадать в гиперманиакальное состояние. Перо держал д-р Поклевский,
Лопаткин держал бумагу.
Начал Филидор с
того, что выложил на стол один-единственный злотый. Дженте и бровью не повела;
Выложил второй — ничего, третий — тоже ничего, но когда появился четвертый, она
сказала:
— Ого, четыре
злотых.
При пяти — зевнула,
а при шести равнодушно произнесла:
— Это что,
старикашка, опять возбуждение?
И лишь при девяноста
семи мы отметили первые признаки удивления, а при ста пятнадцати взгляд, до сих
пор бегавший между д-ром Поклевским, доцентом и мною, стал понемногу
синтезироваться на деньгах.
При ста тысячах
Филидор уже тяжело дышал, анти-Филидор слегка забеспокоился, а гетерогенная
доселе куртизанка обрела некоторую сосредоточенность. Словно прикованная,
смотрела она на растущую кучу, которая, в сущности, переставала быть кучей,
пыталась считать, но счет у нее уже не получался. Сумма переставала
129
быть суммой, она становилась
чем-то необъятным, чем-то высшим, нежели сумма, она взрывала мозг своей
беспредельностью, сравнимой с беспредельностью Небес. Аналитик бросился на
помощь, но оба доктора изо всех сил удерживали его — тщетно советовал он
шепотом, чтобы она разбила целое на сотни, либо на пятидесятизлотовки, целое не
позволяло себя разбить. Когда торжествующий жрец интегральной науки выложил
все, что у него было, и припечатал кучу, а вернее беспредельность, гору,
финансовую гору Синай одним-единственным неделимым грошем, словно некий Бог
вошел в куртизанку, она встала и выказала все синтетические симптомы, плач,
вздохи, улыбку и задумчивость — и проговорила:
— Государство — это
я. Я. Нечто высшее.
Филидор испустил
победоносный крик, и тогда анти-Филидор, угрожающе вопя, вырвался из рук
докторов и ударил Филидора по лицу.
Выстрел этот был
громом — был молнией синтеза, выдранного из аналитического нутра, разверзлась
тьма. Доцент и медики растроганно поздравляли тяжко опозоренного Профессора, а
заклятый враг его корчился у стены и выл в муках. Но никакой вой уже не мог
остановить раз начатого честолюбивого бега, ибо дело, до сих пор бесчестное,
вошло в обычное русло дела чести.
Проф. д-р Г. Л.
Филидор из Лейдена выбрал двух секундантов в лице доц. Лопаткина и моем — проф.
П. М. Момсен с дворянской приставкой анти-Филидор назвал двух секундантов в
лице обоих ассистентов — секунданты Филидора с почетом подцепили секундантов
Филидора. И с каждым этим почетным шагом креп синтез. Колумбиец вился, как на
раскаленных угольях. Лейденец же, улыбаясь, молча разглаживал свою длинную
бороду. А в городской больнице больная Профессорша стала объединять части,
слабым голосом попро-
130
сила молока, и в докторов
вселилась надежда. Честь выглянула из-за туч и сладко улыбнулась людям.
Последний бой должен был состояться во вторник, точно в семь утра.
Перо предстояло
держать д-ру Роклевскому, пистолеты — доц. Лопаткину, Поклевскому выпало
держать бумагу, а мне — пальто. Стойкий боец, рожденный под знаком Синтеза, не
испытывал ни малейших сомнений. Я помню,
что он говорил мне накануне утром.
— Сын мой, — сказал
он, — равным образом может пасть он, могу — я, однако, кто бы ни пал, дух мой
победит непременно, ибо речь идет не о смерти самой по себе, но о качестве
смерти, а качество смерти будет синтетическим. Если падет он, то смертью своею
почтит Синтез, — если он убьет меня, то убьет способом синтетическим. Таким
образом и за гробом победа будет на моей стороне.
Пребывая в
приподнятом настроении, он, желая тем достойнее отметить момент славы,
пригласил обеих дам, т. е. жену и Флору, присутствовать в качестве рядовых
ассистенток. Меня, однако, точили дурные предчувствия. Я опасался — чего это я опасался? Сам не знал чего, всю ночь не
отпускала меня тревога неведения, и только на площади я понял, что меня
тревожит. Утро было сухое и ясное, как на картинке. Духовные противники стали
друг против друга, Филидор поклонился анти-Филидору, а анти-Филидор поклонился
Филидору. И тогда я понял, чего опасаюсь. Это была симметрия — ситуация была
симметрична, и в том состояла ее сила, но и ее слабость также.
Ибо ситуация
отличалась той особенностью, что каждому движению Филидора должно было
соответствовать аналогичное движение анти-Филидора, а инициатива была за
Филидором. Ежели Филидор кланялся, то
131
должен был кланяться и
анти-Филидор. Ежели Филидор стрелял, то должен был выстрелить и анти-Филидор. А
все, подчеркиваю, должно было проходить по оси, проведенной через обоих
дерущихся, по оси, которая была осью ситуации. Ба! Что же, однако, будет, если
тот двинет в сторону? Ежели отпрыгнет? Если выкинет коленце и каким-нибудь
манером увильнет от железных законов симметрии и аналогии? Ба, какие же безумия
и предательства могли скрываться в мозговитой голове анти-Филидора? Я бился с мыслями, когда нежданно
Профессор Филидор поднял руку, сосредоточенно нацелился прямо в сердце
противника и выстрелил. Выстрелил и промахнулся. Промахнулся. И тогда аналитик,
в свою очередь, поднял руку и нацелился в сердце противника. Вот оно, вот оно,
мы готовились к крику победы. Вот, вот, казалось нам, ежели тот выстрелил
синтетически в сердце, то этот также должен выстрелить в сердце. Казалось, что
просто нет иного выхода, что нет никакой боковой интеллектуальной калитки. Но
вдруг в мгновение ока Аналитик с неимоверным трудом как-то взвизгнул, тихонько
заскулил, немного скосил, сполз стволом пистолета с оси и неожиданно выпалил в
бок, и куда — в мизинец Профессорши Филидор, которая вместе с Флорой Дженте
стояла неподалеку. Выстрел был верхом мастерства! Палец отвалился. Госпожа
Филидор, огорошенная, поднесла руку ко рту. А мы, секунданты, на миг потеряли
самообладание и издали возглас восхищения.
И тогда случилась
вещь страшная. Главный Профессор Синтеза не выдержал. Очарованный легкостью,
мастерством, симметрией, ошеломленный нашим возгласом восхищения, он тоже
скосил и тоже выстрелил в мизинец Флоры Дженте и засмеялся коротеньким, сухим,
гортанным смешком. Дженте подняла руку ко рту, мы издали возглас восхищения.
132
Тогда Аналитик
выстрелил опять, оторвав второй мизинец Профессорши, которая поднесла другую
руку ко рту — мы издали возглас восхищения, а спустя четверть секунды выстрел
Синтетика, произведенный с безошибочной твердостью с расстояния в семнадцать
метров, оторвал у Флоры Дженте аналогичный палец. Дженте поднесла руку ко рту,
мы издали возглас восхищения. И пошло, и пошло. Пальба не утихала, страстная,
бурная и великолепная, как само великолепие, а пальцы, уши, носы, зубы
сыпались, словно листья с дерева, раскачиваемого вихрем, а мы, секунданты, едва
поспевали с воплями, которые исторгала из нас молниеносная точность. У обеих
дам уже были отбиты все естественные отростки и выступы, и они не падали
замертво просто потому, что тоже не могли поспеть, а, кстати, думаю и потому,
что испытывали от этого своеобразное наслаждение — подставляясь под такую
меткость. Но в конце концов кончились патроны. Мастер из Коломбо последним
выстрелом пробуравил Профессорше Филидор самую верхушку правого легкого, мастер
из Лейдена в ответ моментально продырявил верхушку правого легкого Флоре
Дженте, мы еще раз издали возглас восхищения, и воцарилась тишина. Оба туловища
умерли и повалились на землю — оба стрелка взглянули друг на друга.
И что же? Оба
смотрели друг на друга, и оба не знали совершенно — что? Что собственно?
Патронов больше не было. Да и трупы уже лежали на земле. В сущности, делать
было нечего. Время приближалось к десяти. Анализ, по сути, победил, но что из
того? Совершенно ничего. С тем же успехом мог победить Синтез, и тоже ничего с
того бы не было. Филидор взял камень и бросил его в воробья, но промахнулся, и
воробей улетел. Солнце начинало припекать, анти-Филидор взял большой ком и
швырнул его в ствол дерева — попал. Тут под руку Филидора подвернулась курица,
бросил, попал, курица уд-
133
рала и спряталась в кустах.
Ученые покинули свои позиции и пошли — каждый в свою сторону.
Под вечер
анти-Филидор был в Езерне, а Филидор — в Вавже*. Один под стрехой охотился на
ворон, а другой присмотрел себе какой-то одинокий фонарь и целился в него с
расстояния в пятьдесят шагов.
Так они и шатались
по свету, целясь чем попало во что попало. Распевали песенки и с особым
удовольствием били стекла, любили также постоять на балконе и поплевать
прохожим на шляпы, а что уж тут говорить, когда им удавалось попасть в
толстосумов, ехавших в пролетке. Филидор до того навострился, что мог с улицы
оплевать человека, стоящего на балконе. А анти-Филидор тушил свечи, бросая в пламя
коробкой спичек. Больше всего им нравилось охотиться на лягушек с
малокалиберкой или стрелять по воробьям из лука, а еще с моста они кидали в
воду бумажки и травинки. Но самым большим наслаждением было для них купить
детский воздушный шарик и мчаться за ним по полям и лесам — эй, ай! — поджидая,
когда он с треском лопнет, будто в него попала невидимая пуля.
А когда кто-нибудь
из научного мира вспоминал ушедшее милое прошлое, духовные бои, Анализ, Синтез
и всю бесповоротно утерянную славу, они только мечтательно говорили:
— Да, да, помню этот
поединок... хорошо пукалось!
— Но, Профессор, —
воскликнул я, а за мной вслед и Роклевский, который за это время успел жениться
и на улице Кручей основать семью, — но Профессор, вы выражаетесь, как ребенок!
И на это впавший в
ребячество старец ответил:
— Ребячеством
приправлено все.
_______________
* Окраины Варшавы на противоположных ее концах.
134
ГЛАВА VI
СОВРАЩЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ПОНУЖДЕНИЕ К МОЛОДОСТИ
В тот самый миг,
когда акт страшного психофизического насилия, совершавшегося Ментусом над
Сифоном, достиг кульминации, двери растворились и в класс вошел Deus ex machina*, Пимко, неизменно
и беспредельно надежный с головы до пят.
— Восхитительно, в
мячик играете, дети! — воскликнул он, хотя мы вовсе не играли в мячик, да и
вообще никакого мячика не было. — В мячик, в мячик играете, в мячик, вот как ты
ловко бросаешь мячик, а ты вот как ловко его ловишь! — И, заметя румянец на
бледном моем лице, стянутом судорогой страха, прибавил: — О, какой чудесный
румянец! Школа тебе на пользу, Юзя, и мячик тоже. Пошли, — сказал он, — я
отведу тебя к госпоже Млодзяк**, ты там будешь жить, я с нею уже обо всем
договорился по телефону. Я нашел тебе пристанище у господ Млодзяков. В твоем
возрасте предосудительно иметь в городе отдельную квартиру. С сегодняшнего дня
— твое место у госпожи Млодзяк.
И он потащил меня за
собой, а по дороге, желая приободрить, стал рассказывать о Млодзяке, который
____________
* Бог из машины (лот.).
** Mlodziak— по-польски «юнец», «молокосос».
135
был инженером-конструктором,
и о Млодзяк, которая была инженершей. — Это современный дом, — предупредил он,
— современно-натуралистический, отдающий дань новым течениям и чуждый моей
идеологии. Но я углядел в тебе какую-то искусственность, позу, ты все еще изображаешь
взрослого — так вот, Млодзяки излечат тебя от этого огорчительного недостатка,
научат тебя естественности. Запамятовал, однако, сообщить тебе, что там есть
еще и дочурка, Млодзяк Зутка, гимназистка, — добавил он небрежно, сжимая мою
руку и искоса из-под пенсне поглядывая на меня педагогическим взглядом. —
Гимназистка, — сказал он, — тоже современная. Гм, не лучшая компания, опасность
велика... но с другой стороны, ничто так не втягивает в молодость, как
современная гимназистка... она-то уж заразит тебя юношеским патриотизмом.
Трамваи ходили.
Горшочки с цветами стояли в окнах домов. Какой-то тип с верхнего этажа бросил в
Пимку сливовой косточкой, но промахнулся.
Что? Что?
Гимназистка? Я вмиг схватил план Пимки — гимназисткой он хотел навечно заточить
меня в молодость. Рассчитывал на то, что, когда я влюблюсь в молодую
гимназистку, мне расхочется быть взрослым. Дома, как и в школе, ни минуты
свободной, чтобы я случаем не улизнул через щелку. Нельзя было терять ни
секунды, я второпях укусил его за палец и бросился наутек. На перекрестке
увидел какую-то взрослую женщину и погнал к ней с испуганным, очумелым,
скривившимся лицом, лишь бы подальше от Пимки и его страшной гимназистки. Но
великий Умалитель стремглав, в несколько шагов настиг меня и схватил за воротник.
— К гимназистке! —
закричал он. — К гимназистке! К молодости! К Млодзякам!
136
Он втолкнул меня в
пролетку и рысью помчал к гимназистке по шумным улицам, до краев заполненным
экипажами, людьми, пением птичек.
— Едем, едем,
оглядываться незачем, позади тебя нет ничего, только я с тобой.
И, сжимая мою руку,
весь светясь, бормотал:
— К гимназистке, к
современной гимназистке! Там-то гимназистка уж сумеет влюбить его в молодость!
Там-то Млодзяки уж сумеют его умалить! Там-то уж попочку пристроят ему преотличнейшую!
Цо, цо, цо! — заорал он, даже лошадь задергалась, а обращенная к Пимке спина
извозчика на козлах выражала безграничное народное презрение. Пимко, однако,
сидел совершенно абсолютно.
Но на пороге
дешевого интеллигентского дома в районе то ли Сташица, то ли Любецкого* он
вроде как заколебался, обмяк и — о чудо! — потерял часть своего абсолютизма.
— Юзя, — прошептал
он, трясясь и вертя головой, — я ради тебя иду на огромную жертву. Только ради
твоей молодости это и делаю. Только ее ради отваживаюсь на риск встречи с
современной гимназисткой. Ха, гимназистка, современная гимназистка!
И поцеловал меня,
будто в страхе хотел умаслить меня, а одновременно вроде как и на прощание. И
затем, придя в крайнее возбуждение, принялся, постукивая палкой, декламировать
и цитировать, читать наизусть, высказывать мысли, афоризмы, суждения и
концепции, все отменного свойства, все классически отточенное, но вид у него
был учите-лишки больного и опасающегося утерять собственную свою суть. Он
вспоминал неведомые мне имена каких-то своих литературных друзей, и я слышал,
как он тихо повторял их похвальные отзывы о нем, в
_______________
* Районы Варшавы.
137
свою очередь похвально
отзываясь о них. Он также трижды расписался карандашом на стене — «Т. Пимко», —
словно Антей, черпающий силы в собственной подписи. Я изумленно смотрел на
учителя. Что это? Неужто и он страшится современной гимназистки? Или только
прикидывается? С какой стати столь искусному учителишке бояться гимназистки? Но
служанка уже открыла нам дверь, и мы оба вошли — профессор как-то скромно, без
свойственного ему высокомерия, а я с лицом, похожим на тряпку, скомканным,
бледным, обалделым и отрешенным. Пимко постучал палкой, спросил: — Господа
дома? — в тот же миг распахнулись двери в глубине, и нам навстречу вышла
гимназистка. Современная.
Лет шестнадцати,
свитер, юбка, резиновые спортивные тапочки, спортивная, раскованная, складная,
ловкая, гибкая и нахальная! При виде ее я перетрусил душой и лицом. Понял с
первого же взгляда, что это — явление могучее, более, пожалуй, могучее, нежели
Пимко, и столь же в своем роде абсолютное, ни в какое сравнение не идущее с
Сифоном. Кого-то она мне напомнила — кого? кого? — ах, напоминала она мне
Копырду! Вы помните Копырду? Она была такая же, но мощнее, родственного ему
типа, но более интенсивная, совершенная в своей гимназичности гимназистка и
абсолютно современная в своей современности. И вдвойне молодая — во-первых,
возрастом, а во-вторых, современностью, — то была молодость молодости. Вот я и
испугался, как человек, который сталкивается с явлением его превосходящим, и
страх еще усилился, когда я увидел, что не она учителишку, а учителишка ее
боится и совсем неуверенно кланяется современной гимназистке.
138
— Целую ручки, —
воскликнул он якобы весело и нажимая на элегантность. — Вы, барышня, не на
пляже? Не на Висле? Мамочка дома? Как там вода в бассейне, а? Холодная?
Холодная лучше всего! Я сам в свое время купался в холодной!
Что это? В голосе
Пимки я услышал старость, льстящую молодости спортом, старость униженную — я
отступил на шаг. Гимназистка Пимке не отвечала — только смотрела на него — и,
взяв в рот английский ключик, который держала в правой руке, подала ему левую с
такой равнодушной бесцеремонностью, будто то был вовсе и не Пимко... Профессор
смешался, не знал, что делать с этой, протянутой ему молоденькой левой, наконец
схватил ее обеими руками. Я поклонился. Она вытащила ключ изо рта и проговорила
деловито:
— Мамы нет, но она
сейчас придет. Пожалуйста... И проводила нас в современный холл, где встала у
окна, а мы расположились на диване.
— Мамочка, верно, на
сессии комитета? — начал Пимко светскую беседу.
Современная сказала:
— Не знаю.
Стены были выкрашены
светло-голубой краской, занавески кремовые, на полочке радиоприемник,
обстановка современная, строгая, чистая, гладкая, простая, два встроенных в
стену шкафа и столик. Гимназистка стояла у окна, словно в комнате никого не
было, и отшелушивала кожу, которая облезала у нее с плеч — следствие загара.
Нас для нее как бы и не было — на Пимку же ни малейшего внимания — и поплыли
минуты. Пимко сидел, нога на ногу, сплел руки, пальцами крутил, словно гость,
которым никто не занимается. Поерзал, хмыкнул раз, другой, откашлялся, желая
поддержать разговор, но современ-
139
ная повернулась к окну
передом, к нам задом и продолжала отшелушивать кожу. Так что он ни слова не
произнес, только сидел — но его сидение без разговора было незавершенным,
неполным. Я протер глаза. Что происходит? Ибо то, что что-то происходило, факт
— но что, собственно? Властное сидение Пимки — незавершенное? Брошенный
учителишка? Учителишка? Незавершенность требовала дополнения — знаете эти
мучительные пустоты, когда одно кончается, а другое еще не начинается? В голове
образуется пустота. Я вдруг увидел, что из учителишки лезет старость. До того я
и не замечал, что профессору уже за пятьдесят, мне это как-то никогда прежде не
приходило на ум, будто абсолютный учителишка был существом вечным и
вневременным. Старый или профессор? Как это — старый или профессор? Почему бы
ему не быть старым профессором? Нет, речь не о том, но против меня что-то
замышляют (ибо то, что они были в сговоре, несомненно). Боже, отчего он сидит?
Зачем он пришел сюда, неужели, чтобы сидеть подле меня с гимназисткой? Сидение
его для меня было тем мучительнее, что я сидел с ним вместе. Если бы я стоял, это не было бы так страшно. Но
вставание сопряжено с ужасными трудностями, точнее говоря, встать повода не
было. Нет, речь не о том, но почему он сидит с гимназисткой, почему сидит
по-стариковски с молодой гимназисткой? Сжальтесь! Но нет жалости. Почему он
сидит с гимназисткой? Почему его старость это не обычная старость, а
гимназическая? Как это — старость гимназическая? Мне вдруг сделалось страшно,
но бежать не мог. Гимназическая старость — старость молодо-старая — вот какие
незавершенные, неполные, омерзительные формы скакали в моей голове. И неждан-
140
но раздалось в комнате
пение. Я не верил своим ушам. Учителишка пел арию гимназистке. От удивления я
пришел в себя. Нет, не пел, напевал — Пимко, оскорбленный равнодушием гимназистки,
промычал несколько тактов из оперетки, подчеркивая тем самым всю несуразность,
дурное воспитание, бестактность молодой Млодзяк. Так, стало быть, он пел?
Заставила дедушку запеть! Разве это тот грозный, абсолютный, искусный Пимко,
сей дедушка, брошенный на диван, принужденно поющий для гимназистки?
Я совсем обессилел.
После стольких злоключений с утра, с того момента, когда прилетел ко мне дух,
мышцам моего лица не дано было ни разу расслабиться, щеки мои горели, будто
после бессонной ночи, проведенной в поезде. Но сейчас поезд вроде бы
останавливался. Пимко пел. Стыдно мне сделалось, что я так долго подчинялся
безобидному старикашке, на которого рядовая гимназистка не обращала никакого
внимания. Лицо мое понемногу начало входить в норму, я уселся поудобнее и
спустя мгновенье обрел полное равновесие, а также — о радость! — утерянные
тридцать лет. Я решил самым обычным образом уйти, даже без протестов, но тут
профессор схватил меня за руку, он был теперь совершенно иным. Постарел,
помягчел, выглядел серо и нелепо, возбуждал жалость.
— Юзя, — шепнул он
мне на ухо, — не бери пример с этой современной девушки нового, послевоенного
типа, эпохи спорта и джаз-бандов! Послевоенное одичание нравов! Отсутствие
культуры! Отсутствие уважения к старшим! Голод желаний нового поколения! Я
начинаю опасаться, что атмосфера для тебя не будет здесь хороша. Дай мне слово,
что не подпадешь под влияние этой разнуздан-
141
ной девушки. Вы похожи, — он
говорил как в жару, — есть у вас нечто общее, знаю, знаю, знаю, ты, в сущности,
тоже современный мальчик, зря я привел тебя сюда к современной девушке!
Я взглянул на него
как на сумасшедшего. Что, это я-то, с моими тридцатью годами, похож на
современную гимназистку? Пимко показался мне глупым. Но он продолжал пугать
меня гимназисткой.
— Новые времена! —
говорил он. — Вы, молодые, сегодняшнее поколение. Вы пренебрежительно
относитесь к старшим, а друг с другом сразу же переходите на ты. Нет уважения,
нет культа прошлого, дансинг, байдарка, Америка, инстинкт минуты, carpe diem*, вы молодые!
И принялся страшно
льстить моей якобы молодости и современности, и что мы — современная молодежь,
и что для нас только ноги, и то да се, а молодая Млодзяк все это время стояла
равнодушно и отшелушивала кожу, не ведая даже, что варится за ее спиной.
Я, наконец, понял, к
чему он гнет, — ему просто хотелось подобным образом влюбить меня в
гимназистку. Расчет его был таков: он хотел сразу же вовлечь меня в
гимназистку, передать меня из ручек в ручки, дабы я не удрал. Прививал мне
идеал, будучи уверен, что раз я, по примеру Сифона и Ментуса, получу идеал
молодости, я буду заточен на веки вечные. Профессору, в сущности, было все
равно, каким я стану мальчиком, лишь бы я из мальчишества не вылезал, Если бы
ему удалось с ходу влюбить меня и вдохновить современным идеалом мальчика, он
мог бы преспокойно удалиться, предаться многочисленным своим побочным занятиям,
которые не позволяли ему лично удерживать меня в умалении. И парадокс: Пимко,
который — казалось
_______________
* Лови мгновенье (лат.).
142
бы — превыше всего ценил
собственное превосходство, согласился сыграть унизительную роль старомодного
добряка, возмущенного современным поколением господина, лишь бы приманить меня
к гимназистке. Стариковским и дядюшкиным возмущением он толкал нас на союз против
себя, старостью и старомодностью желал влюбить меня в молодость и
современность, Но была тут у Пимки и еще одна цель, не менее важная. Ему мало
было одной влюбленности — он стремился сверх того связать меня с нею,
непременно, по возможности, наиболее незрелым образом, ему не надо было, чтобы
я полюбил ее обычной любовью, нет, он жаждал, дабы я втюрился в ту именно
особенно пошлую и отвратную младо-старую, современно-старомодную поэзию,
каковая рождается из комбинации довоенного старика с послевоенной гимназисткой.
Учителишка очень хотел, видно, косвенно участвовать в процессе моего
очарования. Все это было довольно ловко придумано, но чересчур глупо, и,
предвкушая полное освобождение от Пимки, я спокойно выслушивал бездарную лесть
старого дядюшки. Глупец! Я не знал,
что только глупая поэзия по-настоящему и притягательна!
И вот из ничего
возникло чудовищное построение, страшный поэтический коллектив — там у окна
современная гимназистка ко всему равнодушная, тут на диване старик-профессор,
льющий слезы над послевоенным одичанием, а я между ними, обложенный
младо-старой поэзией. Боже! Но мои-то тридцать! Уйти, уйти, как можно скорее!
Но мир как будто бы распался и воссоздался на новых началах, мои тридцать опять
поблекли и стали неактуальными, современная у окна приобретала все больше
привлекательности. А проклятый Пимко не унимался.
143
— Ноги, — разжигал
он современностью, — ноги, знаю я вас, знаю я ваш спорт, обычай нового
американизированного поколения, вы предпочитаете ноги рукам, для вас ноги самое
важное, коленки! Культура духа для вас ничто, только коленки. Спорт! Коленки,
коленки — он страшно мне льстил, — коленки, коленки, коленки!
Как тогда, на
большой перемене, он подсунул школярам проблему невинности, которая их взбесила
и стократ умножила незрелость, так и теперь он подсовывал мне современные
коленки. А я с удовольствием слушаю, как он соединяет мои коленки с коленками
поколения, и уже испытываю молодую жестокость к старым коленкам! И было в этом
какое-то содружество коленок с гимназисткой, плюс тайное услаждающее коленочное
согласие, плюс патриотизм ноги, плюс дерзость молодой коленки, плюс поэзия
ноги, плюс юношеская коленчатая гордость и культ коленки. Чертова часть тела!
Мне незачем добавлять, что все происходило тихо, в тылах гимназистки, которая
стояла у окна со своими одного с нею возраста коленками и отшелушивала кожу, не
догадываясь ни о чем.
Я бы в конце концов
выпутался из коленок и ушел, если бы не то, что вдруг распахнулась дверь и
новое лицо явилось в комнате; приход нового и незнакомого мне лица совсем меня
доконал. То была Млодзяк, женщина довольно-таки полная, но интеллигентка и
общественница, с живым и бдительным выражением лица, член комитета по спасению
младенцев или по изничтожению язвы детской нищеты в столице. Пимко сорвался с дивана
— как ни в чем не бывало, изысканный, радушный, пожилой профессор из довоенной
еще Галиции.
— А, милая госпожа
Млодзяк! Вы, дорогая, все в хлопотах, все в делах, наверное, с сессии комитета.
144
А я вот привел моего
Юзю, которого вы любезно согласились взять под свое покровительство, вот он,
Юзя, вот этот молодой человек, Юзя, деточка, поклонись тете.
Что такое? Пимко
опять изменил тон на снисходительный и покровительственный. Кланяться старой,
мне, молодому? Уважительно кланяться? Пришлось — а Млодзяк подала мне
маленькую, но пухлую руку и посмотрела с мимолетным удивлением на мое лицо,
раскачивавшееся между тридцатью и семнадцатью годами.
— Сколько лет
мальчику? — услышал я, как она спросила Пимку, отходя с ним в сторону, а
профессор добродушно ответил:
— Семнадцать,
семнадцать, дорогая, в апреле семнадцать исполнилось, он выглядит не по годам
серьезным, может, чуть-чуть подделывается под взрослого, но сердце у него
золотое, тю-тю!
— А, подделывается,
— проговорила Млодзяк.
Вместо того чтобы
протестовать, я сел и сидел на диване как прикованный. Неслыханная глупость
этой инсинуации делала невозможными никакие объяснения. И я стал ужасно
мучаться. Ибо Пимко увел инженершу Млодзяк к окну, туда как раз, где стояла
гимназистка, и они принялись за доверительную беседу, время от времени
поглядывая на меня. Однако ничтожный учителишка нарочно, хотя как будто бы и
случайно, порой повышал голос. И мука! Ибо я услышал, что он единит меня с
собою против Млодзяк — как недавно он единил меня с гимназисткой против себя,
так теперь единит меня с собой. Мало того, что он представил меня позером,
который изображает взрослого и пресыщенного, но еще и растроганно говорил о
моей к нему привязанности, восхищался достоинствами моего ума и сердца (один
145
только недостаток, что
немного позер, — но это пройдет), а поскольку все это он излагал как-то
по-старчески прочувствованно и тоном старомодного типичного учителишки, то
выходило, что и я тоже старомодный и несовременный! И он соорудил такую вот
дьявольскую ситуацию — тут я сижу на диване и принужден изображать, что не
слышу, там гимназистка у окна стоит и не знаю, слышит ли она, а там Пимко в
углу головой трясет, покашливает и умиляется мною, издеваясь над вкусами и
склонностями прогрессивной инженерши. О, тот, кто в полной мере понимает, что
такое налаживание отношений с незнакомым, первый раз встреченным человеком,
каким неправдоподобным риском отличается этот процесс, щедрый на предательства
и ловушки, тот поймет, сколь беспомощен я был в компании Пимки и инженерши
Млодзяк. Пимко обманом втаскивал меня в дом Млодзяков, мало того, нарочно
повышал голос, дабы я слышал, что он обманом меня втаскивает, — предательски
втаскивал меня в Млодзяков, а Млодзяков в меня!
Вот почему инженерша
Млодзяк посмотрела в мою сторону с жалостью и досадой. Ее не могло не вывести
из себя слащавое Пимкино пустословие, а кроме того, эти нынешние предприимчивые
инженерши, страстные поклонницы коллектива и эмансипации, ненавидят всякую
искусственность и неестественность у молодежи, в особенности же не выносят ее
подделки под взрослых. Как прогрессивные и целиком устремленные в будущее, они
чтят культ молодости жарче, нежели это делалось в свое время, и нет ничего, что
могло бы привести их в большее бешенство, чем мальчик, который поганит свои
молодые годы позой. Хуже того, они не только не любят этого, но к тому же еще
любят эту свою
146
нелюбовь, что рождает у них
сознание собственной прогрессивности и современности — и они всегда готовы дать
волю своей нелюбви. Инженерше не нужно было повторять дважды, эта в общем-то
толстая женщина могла построить свои отношения со мной на каком-нибудь ином
основании, не обязательно на формуле «современность — старомодность», все
зависело от первого аккорда, ибо первый аккорд мы выбираем сами, а все
остальное лишь следствие такого выбора. Однако Пимко смычком старого наставника
коснулся ее современной струны, и она вмиг взяла нужную ноту.
— А, не люблю, —
поморщилась она, — не люблю! Молодой старик, пресыщенный и наверняка
неспортивный! Терпеть не могу неестественности. Да, вы, профессор, сравните-ка
его с моей Зутой, — искренняя, раскованная, естественная — вот к чему ведут
ваши анахроничные методы.
Услышав это, я
утратил остатки веры в действенность протестов, она бы не поверила мне, что я
взрослый, ибо полюбила себя и свою дочурку в сочетании со мною — старомодным
мальчиком, воспитанным на вчерашний манер. А уж коли мать полюбит свою дочку с
тобой, все пропало, ты должен быть такой, какой ты нужен ее дочке. Я,
разумеется, мог протестовать, кто же спорит, что не мог, — я мог в любую минуту
встать, подойти и, несмотря на все сложности, вбить им в головы, что мне не
семнадцать, а тридцать лет. Мог, однако не мог, ибо мне не хотелось, мне уже
только хотелось доказать, что я не старомодный мальчик! Этого мне хотелось, ничего
больше! Я обозлился, что гимназистка слышит болтовню Пимки и готова составить
обо мне отрицательное мнение. Это заслонило проблему моего тридцатилетия. То
поблекло! Это разгорелось, это
147
раскалилось, это
разболелось! Я сидел на диване и не мог закричать, что он нарочно лжет — ну, я
поерзал на чем сидел, вытягиваю ноги, пытаюсь принять вид раскованный и смелый,
сидеть современно и закричать безгласно, что неправда, что я не такой, я
другой, коленки, коленки, коленки! Я наклоняюсь вперед, оживляю взгляд, сижу
естественно и безгласно всей своей фигурой опровергаю — если гимназистка
обернется, пусть увидит — и тут слышу, как инженерша Млодзяк тихонько говорит
Пимке:
— Действительно,
болезненно-манерный, вы только посмотрите — все время принимает какие-то позы.
Я не мог
пошевелиться. Если бы переменил позу, оказалось бы, что я услышал, и опять
вышла бы манерность, что бы я теперь ни сделал — все будет манерой. Меж тем
гимназистка отворачивается от окна, обнимает меня взглядом, отмечает, как я
сижу, не умея высвободиться из своей позы под естественного, и замечаю на лице
ее неприязненное выражение. А высвободиться я еще больше не могу. И вижу, как в
девушке поднимается резкая молодая недоброжелательность ко мне,
недоброжелательность кристально-чистая. Даже инженерша Млодзяк прервала беседу
и спросила дочь en camarade, по-приятельски:
— Ты что так
смотришь, Зута?
Гимназистка, не
отводя глаз, лояльнеет — делается лояльная-лояльная, открытая, искренняя — и
сквозь надутые губки выбрасывает из себя:
— Он все время подслушивал.
Все слышал.
О! Сказано это было
сурово!.. Я хотел было запротестовать, но не мог, а инженерша Млодзяк, понизив
голос, сообщила профессору, с наслаждением смакуя порыв девушки.
148
— Они сейчас
чрезмерно щепетильны в вопросах лояльности и естественности — совсем помешались
на этих вопросах. Новое поколение. Это мораль Великой Войны. Все мы дети
Великой Войны, мы и дети наши, — инженерша явно наслаждалась. — Новое
поколение, — повторила она.
— Как глазки-то у
нее потемнели, — добродушно заметил старик.
— Глазки? У моей
дочери нет «глазок», профессор, у нее — глаза. У нас — глаза. Зута, поспокойней
с глазами.
Но девушка потушила
лицо и пожала плечами, осаживая мать. Пимко вмиг огорчился и вполголоса сказал
инженерше Млодзяк:
— Если вы считаете,
что это хорошо... В мои времена молодая особа никогда не осмелилась бы пожать
плечами... Матери!
И вот тут Млодзяк с
удовольствием, с готовностью, ей только того надо:
— Эпоха, профессор,
эпоха! Вы не знаете современного поколения. Глубокие перемены. Великая
революция нравов, этот ветер, который рушит, подземные толчки, а мы на них.
Эпоха! Все надо перестроить заново! Разрушить в отчизне все старые места,
оставить только молодые места, разрушить Краков!
— Краков! —
воскликнул Пимко.
А тем временем
гимназистка, которая довольно-таки пренебрежительно слушала этот диспут старых,
выбрала удобный момент и пнула меня сбоку, резко, сильно, в ногу, исподтишка,
ненавистно и по-хулигански, не меняя ни позиции тела, ни выражения лица. Пнув,
убрала ногу и продолжала стоять, опять равнодушная, чуждая всему, о чем
говорили Пимко и инженерша Млодзяк. И если мать постоянно прямо-таки лезла на
дочь, та столь же упорно из-
149
бегала матери — словно была
она более гордой, ибо более молодой.
— Она его пнула! —
закричал профессор. — Вы видели? Пнула. Мы тут толкуем, а она его пинает. А
ведь это же дикость, смелость, самоуверенность распоясавшегося послевоенного
поколения. Ногой пнула!
— Зута, поспокойней
с ногами! А вы, профессор, не волнуйтесь так, ничего особенного, — рассмеялась
она. — Ничего с вашим Юзеком не случится. На фронте во время Великой Войны и не
такие вещи случались. Сама я, как санитарка, не раз в окопах бывала пинаема
простыми солдатами.
Она закурила.
— В мои времена, —
сказал Пимко, — молодые барышни... А что бы на это сказал Норвид?*
— Кто такой Норвид?
— спросила гимназистка.
И спросила
великолепно, со спортивным невежеством молодого поколения и с удивлением Эпохи,
деловито и не очень-то ввинчиваясь в вопрос, вот, так просто, дабы дать
полакомиться своим спортивным невежеством. Профессор схватился за голову.
— Она не слышала о
Норвиде? — воскликнул он.
Инженерша
улыбнулась.
— Эпоха, профессор,
эпоха!
Воцарилось
необыкновенно милое настроение. Гимназистка не знала о Норвиде ради Пимки.
Пимко огорчился Норвидом ради гимназистки. Мать смеялась в Эпохе. Один я сидел,
выключенный из компании, и не мог — не мог ни словом отозваться, ни понять, что
роли так переменились, что древность с коленками, в тысячу раз худшими, чем
мои, породнилась против меня с современной, что я контра-
______________
* Циприан Норвид (1821—1883) — выдающийся польский поэт.
150
пункт их мелодии. О, Пимко,
разбойник! Пока я сидел так, молчаливый и схлопотавший ее пинок, вид у меня был
злой и надутый, и Пимко спросил приветливо:
— Ты, Юзя, чего молчишь?
В обществе следует разговаривать... неужели ты осерчал на барышню Зуту?
— Обиделся! —
язвительно закричала спортовка.
— Зута, извинись, —
сказала с нажимом инженерша. — Молодой человек на тебя обиделся, но вы, юноша,
не сердитесь на мою дочь, негоже быть обидчивым. Зута, естественно, извинится,
но, с другой стороны — мы немножко позируем, сущая правда. Больше
естественности, больше жизни, посмотрите на меня и на Зуту — ну, мы, однако,
отучим молодого человека, будьте спокойны, профессор. Мы его вышколим.
— С этой точки
зрения, думаю, пребывание у вас пойдет ему на пользу. Ну, Юзя, разгладь лобик.
И каждое из этих
высказываний окончательно и, казалось, навсегда упорядочивало, устанавливало,
определяло. Они вкратце обсудили финансовые вопросы, после чего Пимко поцеловал
меня в лоб.
— Будь здоров,
мальчуган, до свидания, Юзя. Веди себя хорошо, не плачь, я тебя буду навещать
по воскресеньям, да и в школе стану за тобой приглядывать. Мое почтение,
милостивая государыня, до свидания, до свидания, барышня, фу, будьте,
пожалуйста, подобрее к Юзе!
Он вышел, и пока
спускался по лестнице, все еще слышались его похныкивания и покашливания: — Тю,
тю, тю, гм, гм, тю, тю! Эх, эх, эх! — Я ринулся протестовать и объяснять.
Однако инженерша Млодзяк отвела меня в маленькую, современную, неуютную
клетушку тут же рядом с холлом, который (как потом
151
выяснилось) одновременно был
и комнатой барышни Млодзяк.
— Пожалуйста, —
сказала она, — комната. Ванная рядом. Завтрак в семь. Вещи здесь — служанка
принесла.
И я еще не успел
выдавить из себя «спасибо», как она уже ушла на сессию комитета по изничтожению
неевропейской язвы детского нищенства в столице. Я остался один. Сел на стул. Все стихло. В голове шумело. Я сидел в новых обстоятельствах, в новой
квартире. После стольких людей, виденных мною с утра, вдруг наступило полное
безлюдье, и только рядом, в холле, шастала и возилась гимназистка. Нет, нет, то
не было одиночество — то было одиночество с гимназисткой.
ГЛАВА VII
ЛЮБОВЬ
И опять я рвался
протестовать и объяснять. Надо было действовать. Я не мог допустить, дабы
навечно утвердилось положение, в котором меня оставили. Всякое промедление
грозило укреплением этого положения. Напряженно сидя на стульчике, я и не
собирался разбирать и раскладывать вещи, которые по приказу Пимки принесла
служанка.
«Сейчас, — думал я,
— сейчас появилась единственная возможность для опровержения, объяснения и
соглашения. Пимки нет. Инженерша Млодзяк ушла. Она одна. Не терять времени,
время обременяет и сковывает, сейчас, сейчас, идти, объяснить, предстать перед
нею в естественном своем виде, завтра будет уже слишком поздно. Предстать,
предстать», — как же мне приспичило предстать, какая страсть предстать охватила
меня. Ба, но предстать каким? Взрослым и тридцатилетним? Нет, нет, нет, ни за
что на свете, о, в ту минуту я вовсе не желал выбраться из молодости, сознаться
в своем тридцатилетии, мир мой пошел прахом, я уже не мог вообразить иного
мира, чем чудесный мир современной гимназистки, спорт, гибкость, дерзость,
коленки, ноги, дикость, дансинг, пароход, байдарка — вот новая колоннада моей
действительности! Нет, нет — я современным хотел предстать! Дух, Си-
153
фон, Ментус, Пимко,
поединок, все, что до сих пор было, отлетело на задний план, и я думал только о
том, что думает обо мне гимназистка, поверила ли она Пимке, будто я позер и
несовременный, — и единственная моя проблема состояла в том, дабы сейчас, тут
же, выйти, предстать перед нею современным, естественным, дабы она поняла, что
Пимко оболгал меня, а на самом деле я иной и такой, как она, возрастом и эпохой
ровесник, породненный с нею коленкой...
Предстать — но под
каким предлогом? Как же ей объяснить, когда я почти и не знал ее совсем, не той
она была компании, хотя она уже и прибрала меня к рукам. Доступ к ней был для
меня необычайно труден в глубинных слоях бытия, ибо речь шла обо мне самом — у
меня был доступ к ней исключительно в ничтожных пустяках, самое большее, я мог
постучать я спросить, в котором часу подают ужин. Пинок, который она мне дала,
никак не облегчал задачу, — ибо то был пинок в скобках, нанесенный ногой без
участия лица, а мне как раз и недоставало соответствующего лица. Я сидел на
стуле, словно зверь в клетке, словно конь на привязи, подгоняемый и бичом на
дистанции удерживаемый, и потирал руки — как, под каким предлогом подобраться к
барышне Млодзяк и к себе самому?
Тут зазвонил
телефон, и я услышал шаги гимназистки.
Я встал, осторожно
приоткрыл дверь в холл и осмотрелся — никого не было, квартира зияла пустотой,
опускались сумерки, а она уславливалась с подругой по телефону встретиться в
семь в кондитерской, с нею, с Поликом и с Бэби (у них были свои прозвища,
названия, словечки). — Придешь, точно, наверное, да, нет, хорошо, нога у меня
болит, сухожилие растянуто, идиот, карточка, приходи, придешь, приду, буза, же-
154
лезно. — Слова эти,
вполголоса бросаемые в телефонную трубку одной современной другой современной,
когда их никто не слышит, очень меня растрогали. «Собственный язык, — подумал
я, — собственный современный язык!» И тогда мне показалось, что девушка, у которой
рот был занят разговором, а глаза свободны, прикованная к месту телефонным
аппаратом становится более доступной и податливой моим намерениям. Я мог
предстать перед нею безо всяких объяснений и заявить о себе — без комментариев.
Я торопливо поправил
галстук и воротничок, волосы пригладил, чтобы проборчик было хорошо видно, ибо
знал, что эта ровная линия на голове в данных обстоятельствах не лишена
значения. Линия, невесть почему, была современной. Проходя через столовую, я
взял со стола зубочистку и появился (телефон был в передней), возник на пороге
с самым равнодушным видом, встал, опершись плечом о дверной косяк. Я бесшумно
представил себя целиком, а зубочистку грыз зубами. Зубочистка была современная.
Не подумайте, будто легко мне давалось стоять так с зубочисткой и притворяться
раскованным, когда все еще парализовано, быть агрессивным, когда остаешься
смертельно пассивным.
А барышня Млодзяк
тем временем говорила подруге:
— Не, необязательно,
черт, хорошо, ходи с ней, не ходи с ним, карточка, буза, прости, минуточку.
Она отняла трубку от
уха и спросила:
— Вы хотите
позвонить?
И спросила тоном
светским, холодным, будто бы это и не я ею был пинаем. Я ответил отрицательным
покачиванием головы. Я хотел, чтобы она увидела, стою я тут безо всяких иных
поводов, кроме как тот, что — я и ты, есть, мол, у меня право стоять в дверях,
когда ты говоришь по телефону, как у товарища
155
по современности и
ровесника, пойми, барышня Млодзяк, объяснения между нами излишни, я просто без
церемоний могу присоединиться к тебе. Я рисковал многим, ибо, потребуй она от
меня объяснений, я объясниться бы не смог, и кошмарная искусственность тотчас
же вынудила бы меня к отступлению. Но если она примет, если одобрит, если молча
согласится, естественность, о какой я и мечтать-то едва осмеливался! И тогда уж
я по-настоящему мог бы быть с нею, современный. «Ментус, Ментус», — тревожно
думал я, вспоминая, как Ментус ужасающе скривился после первых улыбок. С
женщиной, правда, было легче. Непохожесть тела создавала лучшие возможности.
Но барышня Млодзяк с
трубкой у уха, не глядя на меня, разговаривала еще довольно долго (а время
опять стало наваливаться на меня бременем), наконец она проговорила:
— Хорошо, точно,
наверное, кино, пока, — и повесила трубку.
Встала и ушла в свою
комнату. Я вытащил изо рта зубочистку, отправился в свою комнату. А там был
стульчик подле шкафа у стены, сбоку, не для сидения, а чтобы вещи складывать на
ночь — на том стульчике я уселся, неуклюже, и потер руки. Она пренебрегла мною
— даже съязвить не захотела. Ладно, но раз уж началось, этого так оставить
нельзя, пока инженерши Млодзяк нет дома, надо с этим развязаться, пробуй еще
раз, ибо после твоего неудачного выступления она теперь в самом деле и
окончательно готова уверовать, что ты позер, во всяком случае твоя поза
набирает силы, расправляет плечи, чего ты уселся в сторонке у стены, чего руки
потираешь? Ведь потирание рук у себя в комнате, на стуле, несовместимо ни с
какой современностью, это старомодно. О Боже!
156
Я затаился, прислушиваясь, что делается
за стеной. Барышня Млодзяк возилась, как возятся у себя, в своей комнате, все
девушки. А возясь, она наверняка еще и утверждалась в своем мнении обо мне, что
будто бы я позер. Быть выставленным из собственной комнаты, сидеть тут, когда
она там сама выдумывает о тебе всякое, страшно — но как ее поддеть, как ее
снова поддеть, что делать? Предлогов у меня не было — да хоть бы и были у меня
предлоги, я не мог ими воспользоваться — ибо дело было слишком уж интимным для
предлогов.
Тем временем сумерки
наступали, и одиночество — это лживое одиночество, когда человек один, однако
же не один, но в духовной, болезненной связи с другим человеком за стеной, — я
все же достаточно одинок для того, чтобы потирание рук, сжимание пальцев и иные
симптомы были бессмысленны, — а стало быть, сумерки и это фальшивое одиночество
ударили мне в голову, ослепляли, отнимали все до остатка ощущение яви, вгоняли
в ночь. Как же часто ночь у нас вламывается в день! Один, в этой комнате, на
стульчике, в этом действии, я был чересчур беспредметен, не мог тут больше
высидеть. Процессы, которые мы переживаем вместе, в сообществе с кем-нибудь и
явно не страшны, но они становятся непереносимы без партнера. Одиночество
выбивает из себя. И, помучившись изрядно, я опять отворил дверь, сунулся на
порог, от одиночества немного вслепую, как летучая мышь. Постояв, я заметил,
что опять не знаю, как мне ее поддеть и как бы так до нее добраться — она
по-прежнему была резко отдалена и замкнута, дьявольская штука этот четкий и
определенный контур человеческой формы, эта холодная обособляющая линия —
форма!
Нагнувшись, уперев
ногу в стульчик, она чистила туфельку мягкой замшевой тряпочкой. В этом было
157
нечто классическое, и
показалось мне, что девушка поглощена не столько надраиванием своей туфельки,
сколько тем, чтобы коленкой и ногой тайком шлифовать свой тип и удержаться в
хорошем современном стиле. Это придало мне храбрости. Я полагал, что
современная, застигнутая с ногой, должна быть подобрее, не такой официальной. Я
подошел к ней и стал совсем близко, на расстоянии от одного до двух шагов,
молча предложил себя, не глядя на нее, отведя взгляд, — я и сегодня отлично
помню, как я подхожу, как стою в шаге от нее, на самой границе
пространственного круга, где она начинается, как я втягиваю в себя все чувства,
лишь бы подойти по возможности ближе, и жду, зачем? — затем, чтобы она вовсе не
удивилась. На сей раз без зубочистки и без какой-либо особой осанки. Пусть либо
примет, либо отбросит, я старался быть совершенно пассивным, нейтральным.
Она сняла ногу со
стула и выпрямилась.
— У вас ко мне...
дело?— неуверенно спросила она, спросила не в лоб, как человек, к которому
другой человек беспричинно подходит чересчур близко; а когда она выпрямилась,
напряженность между нами возросла еще больше. Я чувствовал, что ей хотелось бы
отодвинуться. Но поскольку я стоял очень близко, она не могла.
Было ли у меня к ней
дело?
— Нет, — ответил я
тихо.
Она опустила руки.
Посмотрела исподлобья.
— Вы позируете? —
спросила она оборонительно, на всякий случай.
— Нет, — нагло
прошептал я, — нет.
Столик был подле
меня. Дальше батарея отопления. На столике щетка и перочинный нож. Сумерки
сгущались — свет, нечто среднее между ночью и днем, по-
158
немногу стирал границы и
грозную демаркационную линию, под вуалью сумерек я был искренен, искренен
насколько мог, благорасположен к гимназистке, готов.
Я не прикидывался. Если бы она
согласилась, что я теперь не притворяюсь, притворством была бы предыдущая моя
неестественность в присутствии Пимки. Почему я думал, что девушке нельзя
отказаться от жертвы мужчины, который домогается эту жертву принять. Или я
предполагал, что гимназистка поддастся в темноте соблазну сделать из меня нечто
пригодное? Почему бы ей не выбрать меня благосклонным и пригодным? Ведь она,
конечно же, предпочитала иметь дома приятеля американца, а не старомодного,
скисшего и уязвленного притвору? Не сыграет ли она в сумерках на мне своей
мелодии, если я пришел и если я подставился, — сыграй, сыграй свою мелодию на
мне, эту современную мелодию, которую напевают все в кофейнях, на пляжах и
дансингах, чистую мелодию молодежи мира в теннисных шортах. Напой на мне
современность теннисных шорт. Не хочешь?
Барышня Млодзяк,
застигнутая мною врасплох подле себя, уселась на столик, опершись, не без
юморка физического свойства, руками на его краешек, — лицо ее выплыло из тьмы,
лицо, не решившее удивляться ему или веселиться, — и мне казалось, она садится
вроде бы играть... Так американки садятся на борт лодки. И в самом уже факте,
что она села, было что-то, от чего меня облило жаром, по крайней мере было в
этом молчаливое согласие на продолжение ситуации. Походило на то, что она как
бы уселась надолго, надеясь использовать свой шанс в полной мере. И я с
бьющимся сердцем увидел, что она пускает в ход некоторые свои прелести. Она
слегка склонила головку — нетерпеливо пошевелила ножкой — капризно надула губки
— и одновременно большие ее глаза,
159
глаза современной, осторожно
повернули в бок, в сторону столовой, нет ли там случайно служанки. Ибо что
скажет служанка, если нас увидит, едва знакомых, тут, в столь странном
сочетании? Не обвинит ли она нас в чрезмерной неестественности? Или же в
чрезмерной естественности?
Но такой риск как
раз нравится девушкам, тем девушкам сумерек, которые только в сумерках могут
показать, что они умеют. Я чувствовал, что взял гимназистку дикой
естественностью неестественности. Я засунул руки в карманы пиджака. Вытянувшись
против нее, я ловил каждый ее вздох, я сопровождал ее безмолвно, но страстно,
изо всех сил — симпатичный, опять симпатичный... На сей раз время было для меня
благосклонным. Каждая секунда, углубляя неестественность, углубляла вместе с
тем и естественность. Я ждал, вдруг она что-нибудь скажет мне, словно мы уже
век были знакомы, о ноге, что нога у нее болит, ибо сухожилие она растянула.
— Нога у меня болит,
я себе сухожилие растянула. Ты пьешь виски, Аннабель...
И она уже должна
была это сказать, уже пошевелила губами, — но тут ей сказалось нечто совершенно
иное, невольно, — она официально спросила:
— Чем могу служить?
Я отступил на шаг, а
она, очарованная этим оборотом речи, ничуть не изменяя фасону и шику молодой
современной девушки, сидящей на столе и болтающей ногами, да, еще больше в этом
смысле выигрывая, повторила с нажимом и формальным холодным интересом:
— Чем могу служить?
А почувствовав, что
слова эти ничуть не искажают ее образ, но совершенно напротив — одаривают ее
резкостью, антисентиментальной трезвостью, что
160
это ей к лицу, она, глядя на
меня, как на психа, спросила вновь:
— Чем могу служить?
Я отвернулся и пошел
прочь, но спина моя, удаляясь, еще больше ее возбудила, ибо уже за дверью я
услышал:
— Шут!
Отринутый,
отброшенный, сел я на свой стульчик у стены, тяжело дыша.
— Кончено, —
прошептал я. — Испортила. Зачем испортила? Кто ее укусил — предпочла переехать
меня, чем ехать вместе со мной. Стульчик мой, тут у стены, приветствуй меня, но
надо, наконец, распаковать вещи, чемодан посреди комнаты, полотенец нет.
Я скромно уселся на
стульчик и почти в полной темноте принялся раскладывать белье по ящикам — надо
разложить, завтра придется идти в школу, — но я не зажигал свет, воистину, мне
ни к чему. Как же лихо мне было, как сиротливо, но хорошо, лишь бы только можно
было не двигаться больше, сидеть и ничего не желать, до самого конца ничего.
Однако после
нескольких минут сидения стало очевидным, что мои усталость и нужда побуждают
меня опять к активности. Неужто нет покоя? Теперь — уже в третий раз надо было
мне идти в ее комнату и представиться ей шутом, дабы она знала, что все
предшествовавшее было с моей стороны намеренным шутовством и что это я над ней
посмеялся, а не она надо мной. «Tout est perdu sauf l'honneur»*, — как сказал
ФранцискI**. И несмотря на убожество свое и усталость, я
поднялся и опять стал приготовляться ко входу. Приготовления про-
________________
* Все потеряно, кроме чести (франц.).
** Франциск I (1494—1547) — французский король из династии Валуа.
161
должались довольно долго.
Наконец, я приоткрыл дверь и сначала ввел в ее комнату свою голову.
Ослепительный свет. Она зажгла лампу. Я закрыл глаза. До меня донеслось раздраженное
замечание:
— Пожалуйста, не
входите без стука.
Я ответил с
закрытыми глазами, вертя головой в щели.
— Слуга и раб.
Она широко отворила
дверь, и я вошел, плавно, остроумно, о, эта плавность нищего! Я решил разозлить
ее, следуя старой максиме, что злоба красоту портит. Я предполагал, что она
разнервничается, а я, сохраняя спокойствие, под шутовскою маскою, сумею
добиться преимущества. Она крикнула:
— Вы дурно
воспитаны!
Поразили меня эти
слова в современных устах, тем более что прозвучали они так естественно, словно
хорошее воспитание было высшим авторитетом для разнузданных послевоенных
гимназисток. Современные мастерски умеют жонглировать то дурным, то хорошим
воспитанием поочередно. Я почувствовал себя хамом. Отступать было слишком
поздно — мир существует потому только, что всегда слишком поздно отступать. Я
ответил с поклоном:
— Я раб ваш,
многоуважаемая госпожа.
Она встала и
направилась к дверям. Ужас! Если она выйдет, оставя меня с хамством, — все
пропало! Я кинулся наперерез, преградил ей дорогу. Она остановилась.
— Что вам надо?
Она встревожилась.
А я, влекомый
собственным движением и вдобавок уже не будучи в состоянии отступить, я стал
надвигаться на нее. Я на нее, псих, шут, позер, обезьяна, на барышню, вычурный
школяр и кавалер, с тупой бес-
162
церемонностью — она пятится
на стол, — а я на нее плавно, обезьянничая, пальцем указываю направление, я к
ней придвигаюсь, словно пьяный, злобный хам, словно бандит — она к стене, я за
ней. Но, проклятье! — наступая на нее кошмарно и безобразно, лупоглазо, я в то
же время вижу — перед психом она ничуть не
теряет своей красы, — я становлюсь звероподобен, а она у стены,
крохотная, вся подобравшаяся, бледная, с руками опущенными, слегка в локтях
согнутыми, тяжелодышащая и словно мною на стену брошенная, с расширившимися
зрачками и безумно тихая, напуганная, враждебная, она прекрасна, как в кино,
современна, поэтична, артистична, а страх не уродует, но украшает ее! Еше миг.
Я приближался к ней, и в силу обстоятельств должны были прийти иные решения, в
голове моей проскочила мысль, что конец, что я должен рукой вцепиться в это ее
личико — я влюблен был, влюблен!.. но тут какой-то галдеж донесся из передней.
Это Ментус напал на служанку. Звонка мы не услышали. Он пришел ко мне в гости
на новую квартиру и, оказавшись один на один со служанкой в передней, пожелал
совершить над нею насилие.
Ибо Ментус после
поединка с Сифоном не мог отвязаться от своих жутких мин и попал в такие
дьявольские сети, что уже вообще не мог иначе чем чудовищно. Увидев служанку,
он не преминул повести себя по отношению к ней так вульгарно и грубо, как
только мог. Служанка подняла крик. Ментус пнул ее в живот и вошел в комнату с
бутылкой водки под мышкой.
— А, ты тут! —
рявкнул он. — Привет, Юзек, приятель! Я наношу визит. Притащил водяры и
сарделек! Хо-хо-хо, ну и рожа у тебя! Ничего, ничего, моя не лучше!
163
Пусть рожа рожу бьет по роже!
Вот наша судьба! Вот наша судьба!
Метель прохожих своей рожей
Иль на дубу повесься сам!
— Это что, Сифон
тебе так удружил? Этот саженец у стены? Мое почтение!
— Я влюбился, Ментус, влюбился...
Ментус ответил с
мудростью пьяницы:
— Так вот отчего у
тебя рожа? Кореш, Юзя! Ну, и влепила же тебе возлюбленная рожу. Ты бы видел, на
кого похож. Это ничего, ничего, моя тоже недурна. Кореш! Пошли, пошли, нечего
тебе тут нюни распускать, проводи-ка меня в свои апартаменты, принеси хлеба к
сарделькам — у меня тут бутылка на все печали! Кончай грустить! Юзя, приятель,
выпьем, языки почешем, пощеримся на все, что попадется, облегчение себе
доставим! Уже третью сегодня лакаю. Облегчение себе доставим. Почтение
уважаемой... bonjour... au revoir... мое почтение! Allons, allons*.
Я еще раз повернулся к современной. Хотел
что-то ей сказать, объяснить — сказать одно-единственное какое-нибудь слово,
которое спасло бы меня, но слова этого не было, а Ментус схватил меня под руку,
и, шатаясь, мы двинулись в мою комнату, пьяные не алкоголем, но рожами нашими.
Я разревелся и все ему рассказал о гимназистке, ничего не опуская. Он выслушал
меня добродушно, по-отечески и запел:
Эй, рожа,
На дубу всхожа,
На зяблика похожа!
— Пей, выпей, чего
не пьешь? Хвати чуток! Дай мордашку бутылище, дай рожу бутылище! — Лицо у него
оставалось страшным, омерзительно хамским и
______________
* Здравствуйте... до свидания... Пошли, пошли (франц.).
164
пошлым, и он пожирал
лежавшие в промасленной бумаге сардельки, впихивая их в пасть свою.
— Ментус, я хочу
освободиться! Освободиться от нее! — воскликнул я.
— Освободиться от
рожи? — спросил он. — Сволота.
— Освободиться от
гимназистки. Ментус, мне же тридцать лет, как одна копеечка! Тридцать лет!
Он удивленно
взглянул на меня, в словах моих, видно, прозвучала искренняя боль. Но тут же
расхохотался:
— Эй, не финти!
Тридцать лет! Сбрендил, пижон, с луны свалился, фраер (и он употребил еще
другие выражения, которых я не стану повторять). Тридцать лет! Эй, знаешь чего.
— Он потянул из бутылки и сплюнул. — Я эту твою даму откуда-то знаю. В лицо
знаю. За ней Копырда ходит.
— Кто за ней ходит?
— Копырда. Этот, из
нашего класса. Понравилась она ему, он ведь тоже такой — современный. Ба, если
она вправду современная, тут ничего не поделаешь, черт! Современная только с
современным водится, только с такими, как она сама. Ба, ба, если современная
влепила тебе рожу, то ты так просто не выкарабкаешься. Это хуже, чем Сифон. Ну,
браток, ничего, у каждого к его особе прицеплен какой-нибудь идеал, как щепка к
одежде в первый день Великого поста*. Пей, пей, выпивай! Думаешь, я
освободился? Я сделал из рожи тряпку, а парень этот постоянно меня донимает.
— Ты же изнасиловал
Сифона!
— Что с того?
Изнасиловал, а рожа осталась. Смотри-ка, — удивился он. — Ну и разболтались. Я
про
_______________
* Старинный польский обычай: в первый день Великого поста незаметно прикрепляют щепку к одежде тем, кто не женился или не вышел замуж на масленой.
165
парня, а ты про гимназистку.
Дуй водку! Эх, парень, — размечтался он вдруг, — эх, парень! Юзя, вот бы удрать
к парню. На луга, на поля, убежать, удрать, — бормотал он. — К парню... к
парню...
Но мне плевать было
на его парня. Только современная! Ревность во мне поднялась к Копырде — ах,
значит, Копырда ходил за ней! Если, однако, «за ней», а не «с ней», они,
значит, незнакомы... Я боялся спросить. Так мы и сидели с рожами, параллельно,
каждый занятый своими мыслями, то и дело потягивая из бутылки. Ментус,
пошатываясь, встал.
— Надо уже идти, —
пробормотал он. — Еще старуха придет. Я через кухню пройду, — буркнул он. —
Загляну к служанке. — Служанка у тебя ничего, совсем, совсем... Правда, не
парень, но все-таки из народа. Может, брат у нее парень. Эх, браток, парень...
парень...
Он ушел. А я остался
с гимназисткой. Лунный свет тускло подсвечивал мелкие пылинки, которые в
огромных количествах носились в воздухе.
ГЛАВА VIII
КОМПОТ
А на следующее утро
школа и Сифон, Ментус, Гопек, Мыздраль, Галкевич и «accusativus cum infinitivo», Бледачка,
поэт-пророк, и повседневная всеобщая несостоятельность, скучно, скучно, скучно!
И опять все то же самое! И опять пророк пророков, учитель гундосит пророком, на
жизнь зарабатывает, ученики под партами изнемогают в прострации, палец в
ботинке крутится, как коловорот, и Карл у Клары украл кораллы, и Клару у Карла
украл поэт, и у Карла украли Клару кораллы, скучно, скучно! И опять скука
давит, под давлением скуки, пророка и учителя действительность помалу в мир
восходит идеала, дай мне теперь помечтать, дай — и уже никто не знает, что
реально, а чего вообще нет, где правда, где обман, что чувствуешь, чего не
чувствуешь, где естественность, а где неестественность, розыгрыш, и то, что
должно быть, перемешивается с тем, что неумолимо есть, и одно другое
дисквалифицирует, одно у другого отнимает всякое разумное основание быть, о,
великая школа недействительности! А стало быть, и я тоже битых пять часов
подряд грезил о своем идеале, рожа в пустоте раздувалась у меня, как воздушный
шар, беспрепятственно, — ибо в вымышленном мире ничего из того, что могло бы
вернуть ее в норму, ирреальным
167
не было. А стало быть, и у
меня уже был свой идеал — современная гимназистка. Я был влюблен. Я мечтал, как
печальный любовник и соискатель руки. После неудачных попыток завоевания
возлюбленной — после попытки возлюбленную высмеять — великая тоска завладела
мною, я знал, что все потеряно.
Потянулась вереница
монотонных дней. Я был заточен. Что сказать о тех днях-близнецах? Утром шел в
школу, из школы возвращался обедать к Млодзякам. Я уже не собирался ни убегать,
ни объяснять, ни протестовать — да-да, я с удовольствием становился учеником,
ведь я — ученик — был ближе гимназистке, чем я — самостоятельный человек.
Ей-же-ей! — я почти позабыл о своих тридцати. Педагоги меня полюбили, директор
Пюрковский шлепал меня по попочке, а во время идеологических диспутов теперь и
я заливался румянцем и вопил: — Современность! Только современный мальчик!
Только современная гимназистка! — Над этим смеялся Копырда. Вы, наверное,
припоминаете Копырду, единственного современного мальчика на всю школу? Я
старался сойтись с ним, пытался с ним подружиться и выпытать секрет его
отношений с младшей Млодзяк — но он отделывался от меня, выказывал мне еще больше
пренебрежения, нежели другим, словно чувствовал, что сестра его по типу,
современная гимназистка меня отшила. Вообще жестокость, с которой ученики
преследовали представителей враждебных себе видов молодости, была
исключительной, чистюли ненавидели грязнуль, современные испытывали отвращение
к старомодным и так далее. Так далее, далее! И далее!
Что мне сказать еще?
Сифон умер. Изнасилованный через уши, он не мог прийти в себя, никак не мог
отторгнуть зловещих элементов, привитых ему через уши. Тщетно он терзался,
целыми часами пытался по-
168
забыть просвещающие слова,
которые вопреки своей воли услышал. У него развилось отвращение к своему
оскверненному типу, и он ощущал в себе какой-то неприятный осадок, постоянно
это на нем сказывалось, он сплевывал, давился, хрипел, кашлял, но не мог,
чувствуя себя недостойным, однажды к вечеру он повесился на вешалке. Что стало
величайшей сенсацией, даже в печати появились заметки. Ментус, однако, мало от
этого выиграл, смерть Сифона никак не повлияла на состояние его рожи. Ну и что
с того, что Сифон умер? Мины, которые он делал во время поединка, приклеились к
его лицу — не так легко отделаться от мин, раз стронутое с места лицо само по
себе не принимает прежнего вида, оно не резиновое. Так что Ментус продолжал ходить
с рожей столь неприятной, что даже Гопек и Мыздраль, друзья, избегали его,
насколько это им удавалось. И чем он делался уродливее, тем, разумеется, чаще
вздыхал о парне; но чем больше он вздыхал о парне, тем, понятное дело,
уродливее становилась его рожа. Несчастье нас сблизило, он о парне вздыхал, а я
о современной, вот так в совместных вздохах и текло потихоньку время, а
действительность по-прежнему была недоступной и недостижимой, словно у нас на
лицах высыпала сыпь. Он рассказывал мне, что у него есть шансы на обладание
служанкой Млодзяков — в тот вечер, проходя через кухню и будучи под газом, он
сорвал у нее поцелуй, но это нисколько его не удовлетворило.
— Это не то, —
говорил он, — это не то. Сорвать у девки поцелуй? Девка, правда, босоногая,
прямо из деревни, и — как я дознался — брат у ней парень, да что ж из того,
сволота, черт, зараза (и он употребил другие выражения, которые я не стану
повторять), сестра не брат, домашняя прислуга не парень. Хожу к ней по вечерам,
когда твоя инженерша Млодзяк на
169
сессии комитета, болтаю,
плету всякое, даже по-мужицки шпарю, но она пока никак не признает меня за
своего.
Вот так и
формировался его мир — со служанкой на втором плане, с парнем на первом. А мой
мир весь без остатка переместился из школы в дом Млодзяков.
Инженерша Млодзяк с
проницательностью матери быстро заметила, что я втюрился в ее дочь. Мне незачем
добавлять, что инженершу, которую для начала уже Пимко неплохо раззадорил, еще
больше раззадорило это открытие. Старомодный и манерный мальчик, не умевший
скрыть своего восхищения современными атрибутами гимназистки, был своего рода
языком, которым она могла посмаковать и прочувствовать все прелести дочери, а
косвенно — и свои собственные. Вот так я и стал языком этой толстой женщины — и
чем более был я старомодным, неискренним и неестественным, тем лучше ощущала
она современность, искренность и простоту. И потому две эти инфантильные
действительности — современная, старомодная, — воспламеняя одна другую,
возмущаясь и возбуждаясь тысячами наидиковеннейших сцеплений, соединялись и
нагромождались в мир все более бессвязный и зеленый. И до того дошло, что
старая Млодзяк принялась красоваться передо мною, хвалиться и хвастаться
современностью, которая ей просто-напросто заменяла молодость. За столом или в свободные
минуты беспрерывно шли разговоры о Свободе Нравов, Эпохе, Революционных
Потрясениях, Послевоенных Временах etc., и старую восхищало, что
она может быть на Эпоху моложе мальчика, который был моложе ее годами. Из себя
она сделала молодку, а из меня старика.
— Ну, как там наш
молодой старичок? — говаривала она. — Наше тухлое яйцо?
170
И с изысканностью
интеллигентной современной инженерши, каковой она была, она донимала меня
житейской своей предприимчивостью, и своим жизненным опытом, и тем, что знает
жизнь, и тем что она, санитарка, была пинаема в окопах в годы Великой Войны, и
энтузиазмом своим, горизонтами своими И своим либерализмом женщины Передовой,
Деятельной, Смелой, а равно нравами своими современными, повседневным принятием
ванны и открытым хождением в некую, до того законспирированную уборную.
Странные, странные вещи! Пимко время от времени навещал меня. Старый педагог
наслаждался моею попочкою. — Какая попочка, — бормотал он, — несравненная! — и
по мере возможности еще подзадоривал инженершу Млодзяк, доводя почти до абсурда
genre старомодного педагога и старательнейшим образом выражая возмущение
современной гимназисткой. Я обратил
внимание на то, что в иных местах, скажем с Пюрковским, он не был вовсе таким
старым, не держался старомодных принципов, и я не мог понять, то ли Млодзяки
пробуждают в нем эту старомодность, то ли, напротив, он пробуждает
современность у Млодзяков, то ли, наконец, они взаимно, одновременно впадают в
зависимость друг от друга ради высшей правды поэзии. Я и до сего дня не знаю,
то ли Пимко, впрочем ведь учителишка абсолютный, скатился к довоенному типу
учителишки, подталкиваемый послевоенной разнузданностью барышни Млодзяк, то ли
сам он спровоцировал разнузданность, нарочито напялив на себя такую как раз
личину — злосчастного и бездарного — славного дедушки. Кто кого тут создавал —
современная гимназистка дедушку или же дедушка современную гимназистку? Вопрос
довольно-таки беспредметный и бесплодный. Как удивитель-
171
но, однако же,
кристаллизуются целые миры между коленками двух людей.
Так или иначе, но
оба они чувствовали себя в сложившихся обстоятельствах превосходно, он —
педагог, придерживающийся устаревших принципов и взглядов, она — разнузданная,
и постепенно визиты его все более затягивались, мне уделял он все меньше
внимания, сосредоточиваясь на современности. Стоит ли признаваться? Я ревновал
к Пимке. Страдал я нечеловечески, видя, как эти двое дополняют друг друга,
приходят к согласию, рифмуют песенку, как совместно создают маленькую
старомодную поэмку с перчиком, и я покрывался позором, наблюдая, как старая
развалина с коленками, в тысячу раз худшими, чем мои, куда как лучше меня
спелся с современной. В особенности Норвид сделался для них предлогом к тысяче
игр, добродушный Пимко не мог смириться с ее невежеством в сем предмете, это
оскорбляло самые святые его чувства, а она предпочитала прыгать с шестом — и
вот он беспрестанно возмущался, а она смеялась, он предписывал, а она не
желала, он молил, а она прыгала — без конца, без конца, без конца! Я восхищался
мудростью, опытностью учителишки, который, ни на минуту не переставая быть
учителишкой, ничуть не поступаясь принципами учителишки, умел, однако,
наслаждаться современной гимназисткой, прибегая к методу контраста и способу
антисинтеза, как он учителишкой побуждал ее быть гимназисткой, она же
гимназисткой возбуждала в нем учителишку. Ревновал я страшно, хотя ведь и я
тоже возбуждал ее антисинтезом и я был ею возбуждаем — но, Боже мой, не хотел я
быть с нею старомодным, я хотел быть с нею современным!
Эй, мука, мука,
мука! Я не мог и не мог высвободиться из нее. Прахом пошли все попытки
высвобож-
172
дения. Насмешки, которых я
не щадил для нее в мыслях, не давали никаких результатов — да чего, в сущности,
стоит такая дешевая насмешка за спиной? Да, впрочем, насмешка была не чем иным,
как только вознесением ей хвалы. Ибо под покровом насмешки притаилась
отравлявшая меня страсть нравиться — если я и язвил, то, пожалуй, исключительно
того ради, чтобы украситься павлиньим хвостом издевки, и потому только, что она
меня оттолкнула. А такая издевка оборачивалась против меня, пристраивая мне
рожу, еще более пакостную и жуткую. И с такой издевкой я не осмеливался
выступить перед нею — она пожала бы плечами. Ибо девушка, ничем в этом
отношении не отличающаяся от других людей, никогда не испугается того, кто
издевается, поскольку он не был допущен... А шутовская на нее атака, тогда, в
ее комнате, привела лишь к тому, что с той поры она держалась начеку,
игнорировала меня — игнорировала так, как лишь современная гимназистка это
умеет, хотя прекрасно знала о моей влюбленности в ее современные прелести. И
она их поэтому выпячивала с изысканной и упорной жестокостью, старательно,
однако, остерегаясь всякого кокетства, которое могло бы поставить ее от меня в
зависимость. Правда, сама она становилась все более дикой, нахальной, смелой,
резкой, гибкой, спортивной, коленистой, легко давала увлечь себя современными
чарами. И она сиживала за обеденным столом, ах, зрелая в незрелости,
самоуверенная, равнодушная ко всему и вся погруженная в себя, а я сидел для
нее, для нее, для нее сидел я и не мог ни секунды не сидеть для нее, я в ней
был, она меня вместе с моими издевками держала в себе, ее вкусы, ее пристрастия
были для меня превыше всего, и я мог нравиться себе лишь постольку, поскольку
нравился ей. Пытка — погрузиться по уши в современную гимназистку и так в
173
ней торчать. И ни разу не
удалось мне уличить ее хотя бы в малейшем отступлении от современного стиля,
никогда ни единой щелки, через которую я мог бы выскользнуть на свободу, дать
стрекача!
Именно это и
очаровало меня — эта ее зрелость и независимость в молодости, верность стилю.
Если у нас там, в школе, бывали угри, непрестанно выскакивали у нас
всевозможные прыщи, идеалы, если движения наши были нелепы, если, что ни шаг, то
оплошность — ее exterieur* был восхитительно совершенен. Молодость не была
для нее переходным возрастом — молодость для современной представляла собой
единственный настоящий период человеческой жизни — она презирала зрелость, а вернее, незрелость была ее зрелостью —
она не признавала бород, усов, мамок или мам с детьми, — и здесь были истоки
чудодейственного могущества. Ее молодость не нуждалась ни в каких идеалах, ибо
сама для себя была идеалом. Не диво, что я, истерзанный идеалистической
молодостью, словно коршун, алкал этой идеальной молодости. Но не хотела она
меня! Рожу мне пристраивала! И день ото дня все более ужасную строила мне рожу.
Боже ж ты мой — как
же истязала она красу мою! Ах, не знаю ничего более жестокого, чем то, когда
один человек строит рожу другому человеку. Все ему сгодится, лишь бы вогнать
того в смешное положение, в гротеск, в маскарад, ибо уродство другого питает
собственную его красоту, о, верьте, пристраивание попочки — ничто в сравнении с
деланием рожи! В конце концов, доведенный до крайности, я принимался составлять
дикие планы физического уничтожения гимназистки. Испакостить личико. Нос ей
попортить, отрезать. Но пример Ментуса с Сифоном убеждал, что
______________
* Внешность (франц.).
174
физическое превосходство тут
мало пригодно, нет, что душе нос, душа — она лишь духовным превосходством
пробивает себе путь к свободе. А что было делать моей душе, когда она меня в
себя заточила. Можно ли собственными силами выбраться из кого-нибудь, если,
кроме него, никого рядом нет, никакой опоры, никакого самостоятельного контакта
ни с чем, все только через него, когда стиль его господствует безраздельно?
Нет, собственными силами это недоступно, это исключено. Вот если кто-то еще, со
стороны, поможет, хотя бы кончик пальца протянет. А кому было помочь? Ментусу,
который не бывал у Млодзяков (только в кухне, тайком) и никогда не
присутствовал при моих встречах с гимназисткой? Млодзяку, инженерше Млодзяк,
Пимке, но все они преданы гимназистке? Или, наконец, наемной служанке, существу
бессловесному? А тем временем рожа становилась все ужаснее, и чем она была
ужаснее, тем теснее инженерша Млодзяк и барышня Млодзяк консолидировались в
современном духе и тем более ужасную пристраивали мне рожу. О, стиль — орудие
тирании! Проклятье! Но бабы просчитались! Ибо настал момент, когда случайно, с
помощью Млодзяка (да, именно с помощью Млодзяка) оковы стиля поослабли, а я
хоть чуточку стал мочь. И тогда-то без оглядки ринулся в атаку. Айда, айда,
айда, на стиль, на красоту современной гимназистки!
Странное дело —
освобождением своим я обязан инженеру, если бы не инженер, я бы навеки остался
в заточении, это он, сам того не желая, способствовал тому, что кое-что
немножечко сдвинулось с места, что неожиданно гимназистка оказалась во мне, не
я в гимназистке, да, инженер втянул в меня дочь, я ему до гробовой доски буду
признателен. Помню, как все началось. Помню — прихожу это я
175
из школы обедать, Млодзяки
уже за столом, служанка вносит картофельный суп, гимназистка тоже сидит — сидит
великолепно, с отчасти большевистской спортивной выправкой и в резиновых
тапочках. Супа она ела мало — зато залпом выпила стакан холодной воды и
закусила ломтем хлеба, супа она избегала, водянистая кашица, теплая и чересчур
легкая, наверняка она могла подпортить ей тип, и она, по всей видимости,
предпочитала подольше оставаться голодной, по крайней мере до того, как подадут
мясо, ибо современная голодная девушка классом выше современной сытой девушки.
Инженерша Млодзяк тоже съела мало супу, а меня даже не спросила, как там дела в
школе. Почему не спросила? Потому что не признавала этих материнских вопросов и
вообще мать была ей немножечко противна, не любила она матери. Предпочитала
сестру.
— Виктор, возьми,
пожалуйста, соли, — сказала она, подавая мужу соль, сказала тоном верного товарища
и читателя Уэллса, затем добавила, засмотревшись несколько в будущее, несколько
в пространство, с выражением гуманистического бунта человеческого существа,
сражающегося с позором общественного зла, несправедливости и неправды.
— Смертная казнь —
пережиток.
И тут Млодзяк, этот
европеец и инженер, просвещенный урбанист, который учился в Париже и вывез
оттуда смекалку, чернявый, в костюме — раскованный, в штиблетах желтых,
шевровых, новых, которые на нем очень бросались в глаза, в воротничке а-ля
Словацкий и роговых очках, лишенный предрассудков, заядлый пацифист и поклонник
научной Организации труда, любитель научных шуточек и анекдотов, а также
анекдотов из кабаре, сказал, беря соль:
— Благодарю, Иоанна.
176
После чего добавил
тоном просвещенного пацифиста, от которого, однако, повеяло студентом
политехнического института:
— В Бразилии
сбрасывают в воду соль бочками, а у нас она по шести грошей за грамм. Политики!
Мы, специалисты. Перестройка мира. Лига Наций.
И тогда инженерша
Млодзяк глубоко вздохнула и сказала интеллигентно, вглядываясь в лучшее завтра
и стеклянные дома Жеромского*, памятуя о традициях борьбы Польши вчерашней и
устремляясь к Польше завтрашней.
— Зута, кто этот
мальчик, с которым ты сегодня шла из школы? Если не хочешь, можешь не отвечать.
Ты же знаешь, я тебя ни в чем не ограничиваю.
Барышня Млодзяк
равнодушно прожевала кусочек хлеба.
— Не знаю, —
ответила.
— Не знаешь? —
удовлетворенно отозвалась мать.
— Он меня подцепил,
— сказала гимназистка.
— Подцепил? —
спросил Млодзяк. Собственно, спросил он машинально. Но уже сам вопрос осложнял
дело и был истолкован как выражение старомодного отцовского недовольства. И
потому инженерша вступилась.
— А что тут
удивительного? — воскликнула инженерша, пожалуй, однако, с чрезмерной
развязностью. — Он ее подцепил — великое дело! Пусть цепляет! Зута, а может, ты
с ним условилась о свидании? Превосходно! Может, ты хочешь поехать с ним на
байдарках на целый день? А может, хочешь отправиться на уик-энд и не
возвращаться на ночь? В та-
_______________
* Стефан Жеромский (1864—1925) — один из крупнейших польских писателей. Герой его романа «Краса жизни» (1912) верит в то, что люди могут зажить счастливо и в достатке в стеклянных домах.
177
ком случае не возвращайся, —
услужливо согласилась она, — не возвращайся смело! А может, ты хочешь поехать
без денег, может, хочешь, чтобы он за тебя платил, а может, сама предпочитаешь
за него платить, чтобы он был на твоем содержании, тогда я дам тебе денег! Но
вы скорее всего обойдетесь и без денег, а? — надменно воскликнула она, напирая
всем телом на стол. Инженерша и в самом деле несколько зарапортовалась, дочка,
однако, ловко увернулась от матери, которая чересчур уж откровенно
вознамерилась покрасоваться за ее счет.
— Ладно, ладно,
мама, — отмахнулась дочь, отодвигая недоеденную котлетку, ибо рубленое мясо
было ей не к лицу — слишком оно
рыхлое, легковесное какое-то. Современная была очень осторожна с родителями,
никогда не подпускала их к себе слишком близко.
Но тут уж и инженер
подхватил сюжетную нить, предложенную женой. Поскольку жена намекнула, дескать,
он увидел что-то нехорошее в подцеплении дочки, ему в свою очередь захотелось
выставить себя в наилучшем свете. Так они попеременно и подхватывали свои нити.
И он воскликнул:
— Конечно, ничего в
этом плохого нет! Зута, если ты хочешь внебрачного ребенка, пожалуйста! А что
тут плохого! Культ девственности прошел! Мы, инженеры, конструкторы новой
социальной действительности, не признаем культа девственности старых
провинциалов!
Он отпил глоток воды
и смолк, почувствовав, что, пожалуй, заехал далековато. Тогда, однако, нить
подхватила инженерша Млодзяк и намеками, в туманных выражениях принялась
склонять дочь к внебрачному ребенку, демонстрировала свой либерализм, рассказы-
178
вала об отношениях в
Америке, цитировала Линдсея* , подчеркивала необыкновенную свободу в этом
отношении современной молодежи и т. д. и т. д... Это был их любимый конек.
Когда один слезал с него, чувствуя, что заехал далековато, на конька взбирался
другой и гнал дальше. Это было тем удивительнее, что, в сущности, как уже
отмечалось, никто из них (ибо и Млодзяк тоже) не любил ни матери, ни ребенка.
Однако же, следует принять во внимание, что они вскарабкивались на эту мысль не
со стороны матери, а со стороны гимназистки, и не со стороны ребенка, а со
стороны ребенка внебрачного. В особенности же инженерша Млодзяк с помощью
внебрачного ребенка дочери стремилась выдвинуться во главу авангарда истории,
домогаясь еще, чтобы ребенок этот был зачат случайно, легко, смело, уверенно, в
кустах, в спортивном походе с ровесниками, как такое описывается в современных
романах etc. Впрочем, уже сам разговор, сами уговоры
гимназистки родителями отчасти были и реализацией желаемой пикантности. И они
тем откровеннее наслаждались этой мыслью, что чувствовали мою несостоятельность
по отношению к ней — я действительно до сих пор не умел защититься от чар
семнадцатилетней в кустах.
Но они не
предусмотрели, что в тот день я был совершенно не способен даже на ревность.
Что ж, в течение двух недель они без устали сооружали мне рожу, и рожа наконец
стала такой ужасающей, что ревновать мне было больше не с чего. Я сообразил,
что мальчик, о котором говорила инженерша Млодзяк, это наверняка Копырда, ну
что ж, все равно тоска, печаль — печаль и убожество — убожество и великая усталость,
отрешенность. Вместо того чтобы подойти
______________
* Николас В. Линдсей (1879—1931) — американский поэт, исполнитель собственных стихов и песен.
179
к этой мысли со стороны
зелено-голубой, твердой, свежей, я истолковал ее убого. «Что же, ребенок есть
ребенок», — думал я, представляя себе роды, мамку, болезни, крапивницу,
беспорядок в детской, затраты, а также то, что ребенок своим ребячьим теплом и
молоком вскоре разрушил бы девушку, превратив ее в отяжелевшую и теплую
матушку. И я сказал убого, умственно, наклонившись к барышне Млодзяк:
— Мамочка...
А сказал я это очень
печально, жалостливо и тепло-тепло, вложил в это слово всю ту теплоту к маме,
которую они в своем бодром, свежем, девичьем и молодежном видении мира не
хотели принять во внимание. Зачем я это сказал? Да, так просто. Девушка, как
всякая девушка, прежде всего была эстетка, главная для нее задача — красота, а
я, приноравливая к ее типу теплое, прочувственное и несколько неодетое слово
«мамочка», создавал нечто отвратительно разнеженное и непристойное. И думал:
может, ее это взорвет. Правда, я знал, что она выскользнет от меня, а
непристойность останется со мной — ибо таковы были между нами отношения, что
все, что я предпринимал против нее, приклеивалось ко мне, словно я плевал против
ветра.
А тут Млодзяк как
захихикает!
Захохотал он
неожиданно для самого себя, гортанно, схватил салфетку, устыдился — хохотал с
вытаращенными глазами, закашлялся и захрипел в салфетку, хохотал страшно,
механически, сам того не желая. Вот уж я поразился! Что его так пощекотало по
нервной системе? Это слово — «мамочка». Рассмешил его контраст между его
девушкой и моей мамочкой, какая-то ассоциация, может, из кабаре, а может, мой
печальный и тоскливый тон вывел его на двор рода человеческого. У него была такая
особен-
180
ность, свойственная всем
инженерам, очень он любил еврейские анекдоты, а сказанное мною действительно
вроде как попахивало еврейским анекдотом. И смеялся он так же настойчиво, как
минуту назад настойчиво превозносил внебрачного ребенка. Очки соскользнули у
него с носа.
— Виктор, —
проговорила Млодзяк.
А я его еще
подзавел:
— Мамочка,
мамочка...
— Извините,
извините, — хохотал он, — извините, извините... А это! Не могу! Извините...
Девушка наклонилась
над тарелкой, и я вдруг прямо-таки физически ощутил, что обернутое отцовским
хохотом слово мое ее укололо, а значит, я ее уколол, она была уколота— да, да,
я не ошибся, смех отца сбоку изменил ситуацию, он вытащил меня из гимназистки.
Наконец-то я мог ее колоть! Я сидел ни жив ни мертв.
Родители тоже это
поняли, поспешили на помощь.
— Виктор, я
удивляюсь, — недовольно заговорила инженерша Млодзяк, — замечания нашего
старичка вовсе не остроумны. Это поза, не больше!
Инженер наконец
справился со смехом.
— Что, ты думаешь, я
над этим смеялся? Ни в жизнь, я даже и не слышал — так, вспомнилось кое-что...
Но их старания лишь
еще больше втягивали гимназистку в ситуацию. Хотя я и не разобрал толком, что
происходит, все же повторил еще несколько раз «мамочка, мамочка» тем же самым
вялым и тусклым тоном, а благодаря повторению слово, видно, приобрело новую
силу, ибо инженер опять хихикнул коротко, отрывисто, смехом харкающим,
гортанным. И, наверное, смех этот рассмешил его — он вдруг расхохотался вовсю,
затыкая рот салфеткой.
181
— Прошу не
встревать, — прикрикнула на меня инженерша Млодзяк зло, но злостью своей только
больше втянула дочку, которая в конце концов пожала плечами.
— Успокойся же,
мама, — отозвалась она внешне равнодушно, но и это ее втянуло. Удивительно —
так круто переменились между нами отношения, что каждое слово их втягивало. В
общем-то было даже довольно мило. Я чувствовал, что теперь уже в обществе
гимназистки могу. Но мне, в сущности, было все равно. И я чувствовал, что
теперь я могу, поскольку мне все равно, и если бы я хоть на миг печаль и тоску,
убожество и нищету заменил торжеством, состоятельность моя тотчас же была бы
изничтожена, ибо на самом-то деле то была престранная сверхсостоятельность,
воздвигнутая на показной и отрешенной несостоятельности. И чтобы утвердиться в
убожестве и показать, насколько мне все равно, насколько я ничего не достоин, я
занялся компотом, стал бросать в него крошки, хлебные шарики, болтать ложечкой.
Рожа на мне была, ну, что же, в конце концов для меня и это хорошо — ах, черт
возьми, что мне там, — думал я сонно, добавляя еще немного соли, перца и две
зубочистки, — ах, что уж там, все съем, чем угодно могу питаться, все равно...
И вроде, казалось мне, лежу я в яме, а птички порхают... мне стало тепло и
уютно от болтания ложечкой.
— Что, молодой
человек? Что, молодой человек?.. Почему вы копаетесь в компоте?
Вопрос инженерша
Млодзяк задала тихо, но нервно. Я поднял никчемный свой взгляд от компота.
— Я так только...
мне все равно... — прошептал я уныло и льстиво. И стал есть месиво;
а духу моему, разумеется, все было мило, что месиво, что не месиво. Трудно
описать, какое впечатление это произвело на Млодзяков, я такого сильного
впечатления не ожидал.
182
Инженер спонтанно
захохотал в третий раз, смехом кабаретным, смехом дворовым, смехом задним.
Девушка склонилась над тарелкой и ела свой компот молча, воспитанно, сдержанно,
даже — героически. Инженерша побледнела и уставилась на меня, будто
загипнотизированная, глаза вылупила, она меня явно боялась. Боялась!
— Это поза! Поза! —
бормотала она. — Прошу не есть... Не разрешаю! Зута! Виктор — Зута! Виктор!
Зута! Зута! Виктор — перестань, запрети! О...
Я все ел, ибо чего
бы мне не есть? — все съем, крысу дохлую, мне все равно... Эх, Ментус, — думал
я, — хорошо, хорошо... Хорошо... Пусть его, что там, было бы что в пасть
запихнуть, пусть, пусть его, что там, пусть его...»
— Зута! —
пронзительно закричала инженерша Млодзяк. Для матери вид дочкиного поклонника,
потребляющего без разбору все подряд, был непереносим. Но гимназистка, которая
как раз кончила свой компот, встала из-за стола и вышла. Инженерша Млодзяк
вышла за ней. Млодзяк вышел, судорожно похохатывая, затыкая рот носовым
платком. Непонятно было, кончили ли они свой обед или удрали. Я знал — они
удрали! Рванулся за ними! Наша взяла! Вперед и дальше, атакуй, цепляй, бей,
гони, догоняй, наступай, хватай, души, души, души, дави, не пускай! Они
боялись? Пугать! Удирали? Гнать! Тихо, спокойно, спокойно, спокойно, уныло и
жалобно, не меняя нищего на победителя, ведь нищий принес тебе победу. Они
боялись, чтобы я им девушку умственно, как компот, не прикончил. Ха, теперь-то
я знал, как подобраться к ее стилю! И мог про себя, умственно, мысленно
фаршировать ее всем, что под руку попадается, болтать, дробить, мешать, не
разбирая средств! Но спокойно, спокойно...
183
Кто поверит, что
подпольный хохот Млодзяка вернул мне способность к сопротивлению? Мои поступки
и мысли обрели когти. Нет, партия еще не выиграна. Но по крайней мере я мог
действовать. Я знал, каким курсом
двигаться. Компот все мне разъяснил. Точно так же, как я испоганил компот,
превратив его в месиво, я мог изничтожить и современность гимназистки, вводя в
нее чуждые элементы, чужеродные, смешивая все, что попадется под руку. Айда,
айда, айда, на современный стиль, на красоту современной гимназистки! Но тихо,
тихо...
ГЛАВА IX
ПОДСМАТРИВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ПОГРУЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОСТЬ
Тихо отправился я в
свою комнату и лег на диван. Надо было обдумать план действий. Меня трясло, и
пот лил с меня ручьями, ибо я знал, что в паломничестве своем спускаюсь я по
ступеням поражений на самое дно ада. Ибо вкусное никогда не может быть страшным
(как само слово «вкусное» на то указывает), только невкусное по-настоящему
несъедобно. С завистью вспоминал я прекрасные, романтические либо классические
преступления, насилия, вытаращивание глаз в поэзии и прозе — масло с вареньем,
это, я знаю, страшно, а не великолепные и красивые преступления у Шекспира.
Нет, не говорите мне о ваших зарифмованных болях, которые мы проглатываем
легко, словно устрицы, не говорите о ваших конфетках позора, шоколадном креме
ужаса, пирожных нищеты, леденцах страдания и лакомствах отчаяния. И почему же
барышня, которая бесстрашным пальцем расковыривает самые кровавые общественные
язвы, голодную смерть рабочей семьи, состоящей из шестерых человек, почему же,
спрашиваю я, тем же самым пальцем не отважится она публично поковырять в ухе.
Потому, что это было бы куда ужаснее. Голодная смерть либо, на войне, смерть
миллиона людей можно съесть, даже и вкусным это покажется, — но в мире все
185
еще существуют несъедобные
комбинации, рвотные, плохие, дисгармоничные, отталкивающие и отвратительные,
ах, просто дьявольские, которые организм человеческий не принимает. А ведь
вкушать — наипервейшая наша задача, вкушать мы должны, вкушать, пусть муж
умирает, жена и дети, пусть сердце рвется на части, только бы вкусно, только бы
повкуснее! Да, то, что мне предстояло предпринять во имя Зрелости и ради
освобождения от магии гимназистки, было уже действием антикулинарным и
контраппетитным, актом, при одной мысли о котором содрогается пищевод.
Я, впрочем, не
обманывал себя — мой успех за обедом был довольно-таки иллюзорным, он касался
главным образом родителей, девушка ускользнула без особых потерь, она
по-прежнему оставалась далекой и недоступной. Как на расстоянии осквернить ее
современный стиль? Как бесповоротно втащить ее на орбиту моих действий? А ведь
помимо дистанции психологической существовала и дистанция физическая — она
виделась со мною лишь за обедом и за ужином. Как осквернять ее, как поддеть
мысленно на расстоянии, то есть когда меня нет подле нее, когда она одна?
«Пожалуй, — думал я убого, — путем подсматривания и подслушивания». Дорогу к
выполнению этих функций они мне уже проторили, поскольку сами с первой же
минуты нашего знакомства они посчитали меня подсматривателем и подслушивателем.
«И кто знает, — думал я сонно, с надеждой, — не увижу ли я, приставивши глаз к
замочной скважине, не увижу ли я чего-нибудь, что меня от нее оттолкнет, ибо
многие красавицы в своей комнате ведут себя донельзя отвратительно». Но тут
таилась и опасность, ибо некоторые гимназистки, околдованные собственным
очарованием и послушные дисциплине стиля, в одиночестве ведут себя так же, как
и на людях. И, следовательно, вместо безобразия я с тем же успехом мог
186
увидеть красоту, а красота,
увиденная в одиночестве, еще более смертоносна. Я не забыл, как, войдя
неожиданно в комнату, увидел гимназистку с тряпкой у ноги, в позе достаточно
стилизованной — да, но, с другой стороны, сам факт подсматривания уже до
некоторой степени осквернял и поддевал, ведь, когда мы безобразно подглядываем
за красотой, что-то от нашего взора, однако, прилипает к красоте.
Подобным вот образом
я размышлял, вроде бы как в легком бреду, — наконец, неуклюже сполз с дивана и
направился к замочной скважине. Однако же, прежде чем приложить глаз к дырке, я
взглянул в окно — а день был чудный, свежий и осенний — и увидел, что по
отмытой осенью улице крадется к черному ходу Ментус. Видно, направлялся к
служанке. Над крышей соседнего особняка голуби взметнулись на ярком солнце и
сбились в кучу, где-то послышался звук клаксона автомобиля, бонна на тротуаре
играла с ребенком, стекла плавились на солнце, которое уже клонилось к закату.
Перед домом стоял нищий, убогий попрошайка, здоровенный мужик, волосатый и
бородатый церковный нищий. Бородач навел меня на одну мысль — вяло и едва
передвигая ноги, вышел я на улицу, сорвал в сквере зеленую ветку.
— Дедушка, — сказал
я, — вот вам пятьдесят грошей. Вечером получите еще злотый, но вы должны взять
эту ветку в рот и не выпускать ее до ночи.
Бородач всадил себе
ветку в пасть. Благословляя деньги, которые сплачивают союзников, я воротился
домой. Приложил глаз к замочной скважине. Гимназистка возилась, как обычно
возятся в своей комнате девушки. Что-то перекладывала в ящиках, вынула тетрадку
— положила ее на стол, — лицо ее я видел в профиль, лицо типичной гимназистки
над тетрадкой.
Без отдыха, убого
подглядывал я от четырех до шести (тогда как нищий без устали держал во рту
ветку), тщет-
187
но надеясь, что она выдаст
себя каким-нибудь нервным отражением понесенного за обедом поражения, хотя бы
прикусыванием губы или морщиньем лба. Но — ничего подобного. Будто ничего и не
изменилось. Будто меня и не существовало. Будто так ничего и не смутило ее
гимназичность. А эта гимназичность со временем становилась все холоднее,
жестче, равнодушнее, неприступнее, и впору было усомниться, а возможна ли
вообще порча гимназистки, которая в одиночестве вела себя точно так же, как и
на людях. Впору было усомниться даже, а произошло ли что-нибудь за обедом.
Около шести дверь неожиданно, коварно распахнулась — на пороге стояла
инженерша.
— Работаешь? —
спросила она с облегчением, окидывая дочь изучающим взглядом. — Работаешь?
— Немецкий делаю, —
ответила гимназистка.
Мать вздохнула
раз-другой.
— Работаешь — это
хорошо. Работай. Работай.
Погладила ее по
головке, успокоенная. Неужели и она ожидала упадка духа у дочери? Зута
неприязненно отшатнулась. Мать хотела что-то сказать, открыла рот и закрыла —
сдержалась. Подозрительно огляделась по сторонам.
— Работай! Работать!
Работать! — нервно заговорила она. — Будь занята, интенсивна. Вечером улизни на
дансинг — улизни на дансинг — улизни на дансинг. Вернись поздно, усни каменным
сном...
— Не морочь мне
голову, мама! — резко объявила дочь. — Времени нет!
Мать взглянула на
нее, едва сдерживая восхищение. Резкость гимназистки ее совершенно успокоила.
Она пришла к выводу, что дочь вовсе не расклеилась за обедом. А меня жестокая
резкость гимназистки схватила за горло. Строгость ее была направлена
непосредственно против нее самой, а нет для нас ничего хуже, когда мы
188
видим, что возлюбленная наша
неумолимо строга не только с нами, но также, когда нет нас подле нее, словно
про запас, школит и самое себя. К тому же феноменальность девушки болезненно
дала знать о себе в девичьей жестокости. Когда инженерша Млодзяк вышла, она
склонила профиль над тетрадкой и независимо, враждебно и беспощадно принялась
за уроки.
Я чувствовал, что,
если и дальше позволю девушке быть феноменальной в одиночестве, если не
установлю контакта между нею и моим подсматриванием, дело с минуты на минуту
примет трагический оборот. Вместо того чтобы пакостить ее собою, я сам
упивался, не я схватил ее за горло, но она схватила за горло меня. Стоя под
дверью, я громко проглотил слюну, дабы она услышала, что я подсматриваю. Она
вздрогнула и не повернула головы — и это было наилучшим доказательством, что
она сразу услышала, — глубже втянула головку в плечи, сраженная. Но вмиг
профиль ее перестал существовать сам для себя, вследствие чего он сразу же и
мгновенно и явственно утерял всю свою феноменальность. Девушка с
подсматриваемым профилем долго тяжко и молча сражалась со мною, а схватка
состояла в том, что она и глазом не моргнула, продолжала водить пером по бумаге
и вела себя так, будто она и не подсматриваемая.
А меж тем спустя
несколько минут дырка в дверях, поглядывавшая на нее моим взглядом, стала ей
докучать — чтобы продемонстрировать свою независимость и подтвердить
равнодушие, она громко шмыгнула носом, шмыгнула вульгарно и безобразно, будто
хотела сказать: «Смотри, мне ни до чего дела нет, я шмыгаю». Таким способом
девушки выказывают глубочайшее свое презрение. Того я только и ждал. Когда,
совершив тактическую ошибку, она шмыгнула, я тоже шмыгнул носом под дверью
отчетливо, но не очень громко, так, словно не мог сдержаться, зараженный ее
шмыганьем.
189
Она затаилась, как
кролик, — этот носовой дуэт был для девушки неприемлем, — однако нос, уже мобилизованный,
не оставлял ее в покое, после недолгой борьбы она вынуждена была вытащить
носовой платочек и вытереть нос, потом она еще несколько раз, с большими
перерывами, шмыгала носом, нервно, украдкой, а я неизменно вторил ей за дверью.
Я поздравлял себя с тем, что мне так легко удалось вытянуть у нее нос, нос
девушки был несравненно менее современный, чем ноги девушки, с ним было
справиться легче. Подчеркивая ее нос и вытягивая нос из нее, я делал широкий
шаг вперед. Суметь бы наградить барышню Млодзяк насморком на нервной почве,
наградить насморком современность.
А она после стольких
шмыганий не могла встать и заложить дырочки носа какой-нибудь тряпкой — это
было бы равнозначно признанию, что она шмыгает нервно. Тихо, зашмыгаем жалко,
безнадежно, упрячем подальше надежду! Я, однако, недооценил девичьей ловкости и
сообразительности. Она вдруг широким движением, от уха до уха, вытерла нос
рукой — всем предплечьем, — и это движение, смелое, спортивное, размашистое и
забавное, изменило весь облик ситуации в ее пользу, придало шмыганию носом
очарование. Она схватила меня за горло. В тот же миг — я едва успел отскочить
от замочной скважины — вероломно и внезапно вошла в мою комнату инженерша
Млодзяк.
— Чем вы тут,
молодой человек, занимаетесь? — подозрительно спросила она, застав меня в
неопределенной позиции посреди комнаты. — Зачем вы, молодой человек, здесь...
стоите? Почему уроки не делаете? Вы что, молодой человек, разве никаким спортом
не занимаетесь? Надо чем-нибудь заняться, — бросила она со страстью. Боялась за
дочь. В моей неопределенности посреди комнаты она унюхала какую-то непонятную
ей интригу против дочери. Я и жестом не попытался что-
190
нибудь объяснить, а
продолжал стоять посреди комнаты апатично и нелепо, словно остолбенев,
инженерша Млодзяк в конце концов повернулась ко мне боком. Взгляд ее упал на
нищего перед домом.
— Что... у него?
Почему ветка... во рту?
— Кто?
— Нищий. Что это
значит?
— Не знаю. Вставил и
держит.
— Вы с ним говорили,
молодой человек. Я в окно видела.
— И говорил.
Она шарила глазами
по моему лицу. Мысли ее раскачивались, словно маятник. Прикидывала, каков
тайный смысл ветки, враждебный ее дочери, оскорбительный для нее. Но она не в
силах была разобраться в моих мыслительных комбинациях и не могла предположить,
что ветка во рту стала у меня атрибутом современности. Вздорность обвинения,
что это я велел бородачу держать зелень во рту, не удавалось выразить словом.
Она недоверчиво посмотрела на мою голову, заподозрив, что становится жертвой
моего каприза и вышла. Ату! Бей! Держи! Хватай, гони! Рабыня моей фантазии!
Жертва каприза! Тихо, тихо! Я подскочил к замочной скважине. По мере развития
событий все труднее удавалось сохранять первоначальный, безнадежный и жалкий
образ — борьба горячила, обезьянья ехидность брала верх над прострацией,
отрешенностью. Гимназистка исчезла. Услышав голоса за стеной, она сообразила,
что я уже не смотрю, и это позволило ей выбраться из ловушки. Она пошла в
город. Заметит ветку в нищем, догадается, ради кого держит ее бородатый? Пусть
бы и не догадалась — ветка в бородаче, терпкая, зеленая горечь в нищенской
полости рта, должна была ее ослабить, слишком это противоречило ее современному
восприятию мира. Наступали сумерки. Фонари залили город фиолетовым.
191
Сыночек дворника
возвращался из лавочки. Деревья теряли листья в воздухе чистом и прозрачном.
Аэроплан жужжал над домами. Хлопнули парадные двери, знаменуя уход инженерши
Млодзяк. Она, встревоженная, сбитая с толку, предчувствовавшая что-то
нехорошее, витавшее в воздухе, отправилась на сессию комитета подкрепиться на
всякий случай чем-нибудь зрелым, всемирным, общественным.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬНИЦА
Уважаемые дамы, на
повестке дня у нас скверна брошенных младенцев.
ИНЖЕНЕРША МЛОДЗЯК
Где взять средства?
Сумерки спускались,
а нищий с молодой зеленью перед окнами торчал, словно диссонанс. Я остался в
квартире один. Какая-то шерлок-холмсовщина начала твориться в пустых комнатах,
что-то сюда примешалось детективное, когда стоял я там, в полумраке, в поисках
продолжения столь счастливо начатой акции. Поскольку они удрали, я решил
прочесать квартиру: а вдруг мне удастся пролезть в них в той части ауры,
которую они оставили на месте. В спальне Млодзяков — светлой, тесной, чистой и
экономной — запах мыла и купального халата, это интеллигентское теплецо,
современное, опрятное, отдающее пилочкой для ногтей, газовой горелкой и
пижамой. Довольно долго стоял я посреди комнаты, вдыхая атмосферу, исследуя
элементы и ища, как и откуда вытащить отвращение, чем бы испоганить?
На первый взгляд
зацепиться было не за что. Чистота, порядок и солнце, бережливость и скромность
— а туалетные запахи были даже лучше, чем в старомодных спальнях. И я не знал,
чему приписать, что халат современного интеллигента, его пижама, губка, крем
для бритья, его туфли, пастилки Виши и резиновый гимнастический снаряд его
жены, светлая, желтая занавеска на
192
современном окне
представляют собой улики чего-то столь отвратного? Стандартизация?
Филистерство? Буржуазность? Нет, это не то, нет — почему? Я стоял, не умея открыть формулу отвратного, не хватало слова,
жеста, поступка, в которые я мог бы поймать неуловимую безвкусицу и взять ее
себе, — и тут взор мой упал на книгу, раскрытую на ночном столике. Это были
воспоминания Чаплина, на той как раз странице, где он рассказывает, как Уэллс
соло протанцевал перед ним придуманный им самим танец. «Потом Г. Уэллс
прекрасно танцует какой-то фантастический танец». Сольный танец английского
писателя помог мне поймать безвкусицу, словно на удочку. Вот точный
комментарий! Это комната и была как раз Уэллсом,
танцующим соло перед Чаплином. Ибо
кем же был Уэллс в своем танце? — Утопистом. Старый современный полагал, что
ему позволительно дать выход радости и танцевать, он держался за свое право на
радость и гармонию... плясал и видел перед мысленным своим взором мир, каким
ему предстояло быть спустя тысячелетия, плясал соло, опережая время, танцевал
теоретически, поскольку считал, что имеет право... А чем же была эта спальня? —
Утопией. Где в ней было место для тех звуков и ворчанья, которые человек издает
во сне? Где место для полноты его половины? Где место для бороды Млодзяка,
бороды, правда, обритой, но тем не менее существующей in potentia?* Ведь инженер был бородатый, хотя он и выбрасывал ежедневно
бороду в раковину вместе с кремом, — а комната эта была обрита. В старину шумящий лес представлял собою спальню
человечества, где же, однако, было место для шумов, сумеречности, черноты леса
в этой светлой комнате, среди этих полотенец? Как же скупа была эта чистота — и
тесна, — светло-голубая, не гармонирующая с цветом земли и человека. И
________________
* Потенциально (лат.).
193
инженер со своею супругой
представились мне в этой комнате столь же отвратительными, как и Уэллс в своем
танце собственного сочинения перед Чаплином.
И тогда только,
когда я пустился в сольный танец, тогда только мысли облачились в плоть и стали
делом, могуче осмеивая все вокруг и извлекая из всего горький привкус. Я
танцевал — а пляска без партнера в пустоте, в тишине набухала безумием, даже
храбрости недоставало. Когда я обтанцевал у Млодзяков полотенца, пижамы, крем,
кровати и приборы, я быстро ретировался, закрыв за собой дверь. Напустил им
танец в современный интерьер! Но дальше, дальше, теперь комната гимназистки,
теперь там потанцевать, напакостить!
Однако комната
барышни Млодзяк, а точнее говоря, гостиная, в которой она спала и делала уроки,
была бесконечно труднее для приготовления невкусного. Уже сам факт, что у
девушки не было собственной комнаты, а как бы угол, где она спала в холле,
испускал нечто восхитительное и упоительное. Была в этом великая временность
нашего столетия, кочевничество гимназистки и какое-то carpe diem*, которое тайными
переходами соединяло ее с отполированной, напоминающей автомобиль, природой
современной молодости. Следовало предполагать, что она засыпает тотчас же, как
только головку (не голову; у них были глаза — но все еще головки) уложит на
подушечку, а это опять же навевало мысль об интенсивности и темпе сегодняшней
жизни. А кроме того, отсутствие спальни как таковой делало невозможной мою
акцию, подобную той, в спальне Млодзяков. В сущности, гимназистка спала не
частным образом, а гласно, не было у нее частной, ночной жизни, а непреклонная
гласность девушки единила ее с Европой, с Америкой, с Гитлером, Муссолини и
Сталиным, с трудовыми лагерями, со знаменем, с гостиницей, с желез-
______________
* Лови мгновенье (лат.).
194
нодорожным вокзалом, она
создавала сферу неимоверно широкую, исключала собственный уголок. Постельное
белье, спрятанное в диване, имело вспомогательный характер, в лучшем случае оно
могло быть приложением ко сну. Так называемого туалетного столика не было
вовсе. Гимназистка гляделась в настенное зеркало. Ни одного маленького
зеркальца. У дивана небольшой столик, черный, гимназический, на нем книги и
тетради. На тетрадях — пилочка для ногтей, на окне — перочинный ножик, дешевая
самописка за шесть злотых, яблоко, программа спортивных соревнований,
фотография Фреда Астера и Джинджер Роджерс, пачка опиумизированных сигарет,
зубная щетка, теннисная тапочка, а в ней цветок, гвоздика, случайно туда
брошенная. И это все. Как же скромно, и как же сильно!
Я молча постоял над
гвоздикой — не мог не восхищаться гимназисткой! Какое искусство! Бросая цветок
в тапочку, она одним выстрелом убивала двух зайцев — любовь усиливала спортом,
спорт приправляла любовью! Бросила цветок в пропотевшую теннисную тапочку, а не
в обычную туфельку, ибо знала, что цветам не вредит только пот спортивный.
Соединяя в воображении спортивный пот с цветком, она навязывала благосклонное
отношение к своему поту вообще, придавала ему немного чего-то спортивного и
цветочного. О, мастерица! Тогда как старомодные, наивные, банальные выращивали
азалии в горшочках, она в тапочку бросает цветок, в спортивную! И — вот
прохвостка — наверняка же сделала это неосознанно, случайно!
Я раздумывал, что с
этой штуковиной сделать? Выбросить цветок в раковину? Всадить его бородатому
нищему в едало? Но эти механические и искусственные приемы были бы всего лишь
попыткой избежать трудностей, нет, цветок надо было испакостить там, где он
находился, взять его не физическим превосходством, но
195
духовным! Бородач с зеленой
веткой в зарослях бороды торчал под окнами верно и стойко, муха жужжала на
оконном стекле, с кухни доносился монотонный визг служанки, Ментусом склоняемой
к парню, вдалеке трамвай постанывал на повороте — и в самом центре всех этих
усилий стоял я, нехорошо улыбаясь, — муха зажужжала громче. Я поймал муху,
оборвал ей лапки и крылышки, превратил ее в страдающий, скорбный, отвратный и
метафизический шарик, не совсем круглый, но во всяком случае кругловатый, и приложил его к цветку, осторожно поместил в
тапочку. Пот, который при этом выступил у меня на лбу, оказался покрепче
цветочных теннисных потов! Я будто
дьявола науськал на современную! Муха тупыми и безгласными мученьями
дисквалифицировала тапочку, цветок, яблоко, сигареты, все хозяйство
гимназистки, а я стоял с недоброй ухмылкой, прислушиваясь, что теперь творится
в комнате и во мне, исследуя ауру, вылитый сумасшедший — и думал, что не только
маленькие дети топят котов и мучат птичек, что взрослые мальчики тоже порой
мучат ради того только, чтобы перестать быть мальчиками, гимназисток, чтобы
преодолеть какую-нибудь свою гимназистку! Разве не того ради мучил Троцкий?
Торквемада? Что было гимназисткой Торквемады? Тихо, тихо.
Умаявшийся бородач
стоял на посту — муха страдала безгласно в тапочке — теперь китайским,
византийским в спальне Млодзяков танец мой был — я стал основательнее рыться в
вещах современной. Добрался до стенного шкафа, бельевого, но белье в шкафу
надежд моих не оправдало. Панталоны как панталоны — современные панталоны никак
не портили девушку, они утратили давний, домашний характер, скорее что-то
родственное у них было с морским клешом. Зато в ящике, который я выдвинул,
воспользовавшись ножом, — горы писем,
196
любовная корреспонденция
гимназистки! Я бросился на нее, тогда как бородач, муха, танец все продолжали
свое без устали.
О, сатанинское
царство современной гимназистки! Что же таил в себе этот ящик! Тогда только я
осознал, сколькими же жуткими тайнами владеют современные гимназистки и что
было бы, если бы какая-нибудь из них захотела выдать доверенные ей секреты. Но
они исчезают в девушках, словно камень в воде, чересчур они приличны, чересчур
обаятельны, чтобы рассказывать... а те, кого красота не мучит, писем таких не
получают... Восхитительно, что только особы, сдерживаемые красотой, обладают
доступом к определенным душевным запасам человечества. О, девушка, этот склад
позора, запертый на ключ красотой! Сюда, в эту святыню, старый ли, молодой ли
приносил такие вещи, что, пожалуй, любой из них предпочел бы трижды умереть и
жариться на медленном огне, чем увидеть это опубликованным... И лик столетия —
лик XX
века, века смешения веков, двусмысленно выглядывал оттуда, словно Силен из
чащи...
Были там, среди
прочего, любовные письма от школьников, такие тягостные, неприятные,
мучительные, раздражительные, несуразные, зеленые, фатальные, позорные и
постыдные, каких никогда еще не видывала История — ни древняя, ни
средневековая. И если бы ровесник их авторов из Ассирии, Вавилона, Греции либо
из средневековой Польши, да хотя бы даже обыкновенный бедняк времен Зигмунта
Августа прочитал это, он наверняка бы краской залился, по мордасам бы их
отхлестал. О, ужасная какофония, которую они производили! Фальшь, раздирающая
их любовные песни! Словно бы сама Природа в безбрежном презрении своем к
жалким, надутым пижончикам лишила их голоса перед Девушкой, не желая допустить
размножения племени школяров. И только те письма, которые из страха не вы-
197
ражали ничего, были сносны:
«Зута с Марысей и с Олеком на корт, завтра, звякни, Генек». Только такие письма
не были саморазоблачительными... Я нашел
по два письма Мыздраля и Гопека, вульгарные по содержанию, серые по форме,
чрезмерной надменностью они стремились придать себе видимость зрелости. Они
летели, словно бабочки на огонь, зная, что сгорят...
Но письма студентов
высших учебных заведений были не менее робкими, хотя маскировались они уже
ловчее. Видно было, как каждый из них, водя пером по бумаге, страшился и
терзался, как следил за собой и взвешивал каждое слово, дабы не скатиться по
наклонной плоскости прямо в собственную незрелость, в свои коленки. Потому-то о
коленках я не нашел ни одного упоминания, зато много было о чувствах, о
вопросах общественных, о заработках, о светской жизни, об игре в бридж и
скачках, а также об изменении государственного строя. Особенно политики, эти
трепачи из «студенческой жизни», необычайно искусно и осмотрительно скрывали
коленки, тем не менее, однако, систематически посылали гимназистке все свои
программы, призывы и идейные декларации. «Может, вы, Зутка, соблаговолите
познакомиться с нашей программой», — писали они, но в программах тоже нигде
четко не было о коленках, если только не вкрадывалась случайно lapsus linguae, когда, к примеру,
вместо «флаг развевается над колонной» было написано «флаг развевается над
коленкой». А еще какие-то краковяне в своей декларации ошибочно выразились «мы,
краколяне». Кроме двух вышеупомянутых случаев коленки ни разу не показались.
Точно так же и в посланиях, впрочем в немалой мере сладострастных, с помощью
которых старые тетушки, печатающие в прессе статьи об «эпохе джаз-бандов»,
пытались установить духовный контакт с гимназисткой и увести ее с дороги
198
к пропасти, коленки были
весьма хорошо законспирированы. Сколько не читай их, а о коленках, кажется, и
речи нет.
А дальше — целые
стопы этих столь сегодня распространенных тоненьких стихотворных сборничков,
числом не менее трехсот или четырехсот, валявшихся на дне ящика, впрочем — надо
признать — не разрезанных и не тронутых вышеупомянутой гимназисткой. Все они
были снабжены посвящениями, выдержанными в тоне интимном, добропорядочном,
искреннем и честном, и посвящения эти самым энергичным образом домогались от
девушки прочтения, принуждали к чтению, в изысканных и убийственных выражениях
клеймили девушку за непрочтение, а чтение прославляли и превозносили до небес,
за непрочтение же грозили исключением из круга людей культурных и требовали,
чтобы девушка прочитала, оценив одиночество поэта, труд поэта, миссию поэта, роль
поэта, страдания поэта, авангардизм поэта, призвание поэта и душу поэта. Самое
удивительное, что и тут о коленках ничего определенного. Еще удивительнее, что
и заглавия томиков не содержали в себе и намека на коленку. Одни Бледные
Рассветы, и Разгорающиеся Рассветы, и Новые Рассветы, и Новые Зори, и Эпоха
Борьбы, и Борьба в Эпохе, и Трудная Эпоха, и Молодая Эпоха, и Молодежь на
Вахте, и Вахта Молодости, и Сражающаяся Молодость, и Идущая Молодость, и
Молодость Стоящая, и Эй, Молодые, и Горечь Молодости, и Глаза Молодости, и Уста
Молодости, и Молодая Весна, и Моя Весна, и Весна и Я, и Весенние Ритмы, и Ритм
Пулеметов, и Залп в Воздух, и Семафоры, Антенны, Винты, и Мой Поцелуй, и Моя
Нежность, и Моя Тоска, и Мои Глаза, и Мои Уста (о коленках нигде ни гугу), и все
писано поэтическим тоном с изысканными ассонансами, либо без изысканных
ассонансов, со смелыми метафорами, либо с подкожной мелодией слов, о
199
коленках почти ни слова,
очень мало, непропорционально мало. Авторы ловко и с большим поэтическим
мастерством скрывались за Красотой, Совершенством Ремесла, Внутренней Логикой
Произведения, Железной Последовательностью Ассоциации либо же за Классовым
Сознанием, Борьбой, Зарей Истории и тому подобными объективными,
антиколеночными соображениями. Но сразу же бросалось в глаза, что стишки эти,
отдающие нудным, натужным и никому ни на что не пригодным искусством, — всего
лишь усложненный шифр и что должна существовать какая-то значительная и
действительно важная причина, которая побуждает этих худосочных, мелких мечтателей
к составлению столь диковинных шарад. Как-то после продолжавшихся минуту
глубоких раздумий мне удалось переложить на понятный язык содержание следующей
строфы:
СТИХИ
Горизонты лопаются словно бутылки
Зеленая клякса вздымается к тучам
Я снова прячусь в тень под сосну
И здесь:
Жадно, до дна выпиваю
будничную мою весну.
МОЙ
ПЕРЕВОД
Коленки, коленки, коленки
Коленки, коленки, коленки
Коленки, коленки, коленки, коленки, коленки —
Коленка:
Коленка, коленка, коленка
коленки, коленки, коленки.
А дальше — и тут
только начиналось истинное сатанинское царство гимназистки, — дальше была целая
куча конфиденциальных посланьиц от судей, адвокатов и
200
прокуроров, аптекарей,
торговцев, городских домовладельцев и землевладельцев, докторов и т. п. — от
тех прекрасных и великолепных, которые всегда мне так импонировали! Я поражался, в то время как муха
продолжала безголосо страдать. Значит, и они тоже, вопреки видимости,
подчеркивали отношения с гимназисткой? — Прямо не верится, — повторял я, —
прямо не верится! — Значит, так угнетала их эта Зрелость, что втайне от жены и
детей они слали длинные письма гимназистке-старшекласснице? Разумеется, тут уж
тем более нигде не было отчетливо о коленках, как раз напротив, каждый в
подробностях объяснял, почему он устанавливает сей «обмен мыслями», поскольку
полагает, что «барышня Зута» его поймет, не воспримет этого превратно и т. д.
Затем они воздавали хвалу современной в выражениях вычурных, но
подобострастных, заклиная ее между строк, чтобы она соизволила помечтать о них,
естественно, украдкой. И каждый, хотя никто из них ни разу так и не помянул о
коленках, изо всех сил подчеркивал и выпячивал свое современное мальчишество.
Прокурор:
Я, правда, выступаю в тоге, но, по существу, я
мальчик на побегушках. Я послушен. Делаю, что скажут. У меня нет собственного
мнения. Председатель может меня распечь. Недавно назвал меня разиней.
Политик уверял:
Я мальчик, я только политический мальчик,
исторический мальчик.
Какой-то
унтер-офицер с исключительно чувствительной и лирической душой писал следующее:
Мой закон — слепая
дисциплина. По приказу я должен отдать жизнь. Я раб. Вот ведь и вожди всегда
обращаются к нам — ребята, невзирая
на года. Не верь моей метрике, это подробности чисто формального
201
свойства,
жена и дети только приложение, никакой я не рыцарь, но армейский мальчик, с
мальчишеской, верной, слепой душой, а в казармах я пес, пес я!
Землевладелец:
Я уже обанкротился, жена в гувернантки, дети к
чертям собачьим, а я — никакой я не
землевладелец, а мальчик, которого выгнали. Испытываю тайное наслаждение.
Однако же коленки en toutes lettres* ни разу упомянуты
не были. В постскриптумах молили гимназистку сохранить все в тайне, указывая,
что карьера их была бы раз и навсегда разрушена, если бы хотя одна буковка этих
признаний стала достоянием гласности.
Это только для Тебя. Оставь у себя. Не говори
никому!
Неправдоподобно!
Лишь эти письма раскрыли мне глаза на могущество современной гимназистки. Где
ее только не было? В чьей только голове не застревали ее коленки? Под влиянием
таких мыслей ноги у меня сами заходили, и я бы затанцевал в честь старых
Мальчиков XX века, муштруемых, понукаемых, погоняемых и
обучаемых бичом, если бы на дне ящика не заметил большой конверт из учебного
округа, надписанный со всею очевидностью рукою Пимки. Письмо было сухо.
«Я не буду больше, — писал Пимко, — терпеть
пренебрежения и скандального невежества в том, что охватывается школьной
программой.
Приглашаю явиться ко мне в кабинет — в управлении учебного округа, послезавтра, в
пятницу в 4.30 в целях дачи объяснений, изложения и изучения Норвида, а также
заполнения пробелов в образовании.
Обращаю внимание, что я приглашаю на законном
основании, формально, официально и культурно, как учитель и воспитатель, а в
случае отказа явиться я на-
_______________
* Напрямик (франц.).
202
пишу
письмо директрисе с предложением об исключении из школы.
Заявляю, что не могу больше выносить пробелов, а как
профессор имею право не выносить. Прошу задуматься
Т. Пимко, д-р филологии и проф. honoris causa
г. Варшава...
Так далеко у них
зашло? Он ей угрожал? Вот оно, стало быть, как? Она так долго заигрывала с ним
невежеством, что учителишка выпустил когти. Пимко, будучи не в состоянии
устроить себе свидания с гимназисткой как Пимко, вызывал ее как профессор школ
средних и высших. Он уже не довольствовался забавами дома под оком родителей —
спекулировал на авторитете своей должности, хотел вбить в девушку Норвида
легальным путем. А поскольку ничего другого он не умел, возжелал хотя бы с
помощью Норвида добраться до нее. Пораженный до глубины души, застыл я с
письмом в руке, стоял над грудой бумаг, не зная, к моей это выгоде или нет. Но
под этим письмом в ящике лежал еще один листок — вырванный из блокнота,
несколько слов карандашом, — и я узнал руку Копырды! Да, это Копырда, сомнений
не было, Копырда, он самый! Лихорадочно схватил я листок. Лаконичный, сжатый,
небрежный — все говорило о том, что его бросили в окно.
Забыл сообщить тебе адрес (тут следовал адрес
Копырды). Если бы ты со мной захотела, то и я хочу. Дай знать. Г. К.
Копырда! Вы помните
Копырду? Ах, я тут же все понял! Предчувствия меня не обманули! Копырда был тем
незнакомым мальчиком, который подцепил гимназистку, о чем речь шла за обедом!
Копырда забросил в окно этот листок, проходя недавно мимо. Подцепил девушку на
улице, а теперь вот делал ей дополнительное предложение — какое же наглое,
современное! «Хочешь со
203
мной, ну и я хочу», —
деловито, позитивно, кратко предлагал... Увидел ее на улице, почувствовал
половое влечение... и заговорил — а теперь листок бросил, проходя мимо окна,
без лишних церемоний, по новому обычаю молодых... Копырда! А она — она ведь
даже фамилии его не знала, ибо он ей не представился...
Перехватило мне
горло.
А тут еще и Пимко,
старый Пимко, который культурно, откровенно, детально, официально и формально
приневоливал ее профессором. Ты должна, должна меня удовлетворить Норвидом, ибо
я господин, твой учитель, ты же моя невольница — гимназистка!.. Тот имел на нее
право как брат — ровесник современный, а этот как учитель средних школ, педагог
отпетый...
Опять мне горло
перехватило. Что же значили признания граждан, стоны адвокатов либо смешные
поэтические шарады в сравнении с этими двумя письмами? Эти два предвещали
погром, катастрофу. Грозная, близкая уже опасность заключалась в том, что
девушка готова была уступить Пимке и Копырде без чувства, только в силу обычая,
исключительно потому, что и тот и другой имели право, один современно и как
частное лицо, другой — старомодно и гласно. Но тогда обаяние ее окрепло бы
неслыханно... и не спасли бы меня танцы и мухи моей акции, она намертво сдавила
бы мне горло этим обаянием. Если она деловито, несентиментально, телесно,
современно загуляет с Копырдой... А если и к Пимке пойдет, покорная его
учителишкиному приказу... Девушка, которая идет к старому, ибо она
гимназистка... Девушка, которая отдается молодому, ибо она современна...
О, этот культ, это
послушание, это рабство девушки при столкновении с гимназисткой и при
столкновении с современной! Оба они знали, что делают, обращаясь к ней так
сурово и немногословно, знали, что потому
204
именно девушка и готова
согласиться... Искушенный Пимко ведь не предполагал, что она испугается угроз,
— не на то он рассчитывал, а на то, что уступить под угрозой старому
очаровательно, и почти столь же очаровательно, как и уступить молодому просто
того ради, что он говорит современным языком. О, рабство, доходящее до
самоуничтожения при столкновении со стилем, о, послушание девушки! Я уже знал, что это неизбежно... И
тогда... что я буду делать, где схоронюсь... как защищусь... от этого нового
прилива и подъема? Вдумайтесь только, как это было странно. Ведь оба они в
конечном счете разрушали современное очарование барышни Млодзяк. Ибо Пимко
хотел изничтожить ее спортивное невежество в вопросах поэзии. А с Копырдой и
того хуже — могло кончиться мамочкой. Но сам момент уничтожения стократ
воплощал все прелести... Зачем я полез в ящик? Благословенное неведение. Если
бы я не знал — мог бы продолжать осуществление задуманной своей акции против
гимназистки. Но я уже знал — и это ужасно меня подкосило.
Пронизывающие и
пронзающие тайники личной жизни семнадцатилетней, демоническое содержание ящика
гимназистки. Поэзия... Чем напакостить? Как испоганить? Муха страдала
недвижимо, безгласно. Бородач ветку держал. С письмами в руках я раздумывал,
что бы устроить, что бы предпринять, как противостоять неизбежному и жуткому
набуханию прелестей, красот, очарований, мечтаний...
И, наконец, в чащобе
спутавшихся чувств замерцал и замысел некоей интриги — такой диковинный, что,
пока я не приступил к его реализации, он казался мне невыполнимым. Я вырвал из
тетради страницу. Написал карандашом четким, крупным почерком барышни Млодзяк:
Завтра, в четверг, в 12 ночи постучи в окно веранды,
пущу. 3.
205
Вложил листок в
конверт. Адресовал Копырде. И написал еще одно, идентичное письмо:
Завтра, в четверг, после 12 ночи постучи в окно
веранды. Пущу. 3.
Адресовал Пимке.
План состоял вот в чем: Пимко, получив в ответ на свое профессорское послание
такое письмецо, на «ты» и циничное, потеряет голову. Для Старого это будет что
обухом по голове. Он вообразит, что гимназистка хочет с ним свидания sensu stricto*. Дерзость, цинизм,
испорченность, демонизм современной — взяв в расчет возраст, социальное
положение, воспитание, — вскружат ему голову, словно гашиш. Он не удержится в
роли профессора — не удержится в рамках легальности и гласности. Тайно,
нелегально прискочит под окно, постучит. И тут встретится с Копырдой.
Что будет потом? Я
не знал. Но знал, что подниму крик, разбужу все семейство, выволоку это дело на
свет божий, Пимку Копырдой осмею, а Копырду Пимкой — и посмотрим, как наяву
будут выглядеть любовные шашни, что тогда останется от очарования!
________________
* В узком смысле (лат.).
ГЛАВА X
РАЗЗУДИСЬ-НОГА И ОПЯТЬ С ПОЛИЧНЫМ
Назавтра, после бурной
и истерзанной снами ночи, я вскочил чуть свет. Но не в школу, однако. Спрятался
за вешалкой в маленькой прихожей, отделяющей кухню от ванной. Неумолимая логика
борьбы предписывала мне предпринять психическую атаку на Млодзяков в ванной.
Привет, попочка! Привет, царица! Надо было собраться и настроить дух на интригу
против Пимки и Копырды. Меня трясло, и пот лил с меня ручьями — но борьба не на
жизнь, а на смерть неразборчива в средствах, и нельзя мне было отказываться от
этого козыря. Врага стремись схватить с поличным в ванной. Смотри на него,
каков он тогда! Увидь и запомни! Когда одежды спадут, а с ними вместе, словно
осенний лист, и вся мишура элегантности, форса, вот тогда ты и сможешь настичь
его духом, аки лев агнца. Нельзя обойти вниманием ничего, что служит
сосредоточению, собранности и достижению превосходства над врагом, цель
оправдывает средства, борьба, борьба, прежде всего борьба, борьба с применением
самых современных методов борьбы, и ничего больше, только борьба! Так гласила
мудрость народов. Весь дом еще спал, когда я затаился. Из
207
комнаты девушки не
доносилось никаких звуков, спала она бесшумно, а вот Млодзяк, инженер,
похрапывал в своей светло-голубой спальне, как провинциальный администратор или
как цирюльник...
Но служанка уже завозилась
на кухне, пробуждаются заспанные голоса, семейство готовится к утренним
омовениям и обрядам. Я навострил все чувства. Духовно одичавший, я походил на
дикое цивилизованное животное в культуркампфе*. Запел петух. Первой появилась
инженерша Млодзяк в светло-пепельном халате и в туфлях, причесанная кое-как.
Шла она спокойно, с поднятой головой, а на лице ее запечатлелась особая
мудрость, я бы сказал — мудрость сантехники. Шла она с неким даже
благоговением, шла во имя святой естественности и простоты и во имя
рациональной утренней гигиены. Не доходя до ванной, она с поднятой головой
свернула в ватерклозет и скрылась там, скрылась культурно, мудро, осознанно и
интеллигентно, как женщина, которая знает, что не надо стыдиться естественных
отправлений. Вышла она оттуда еще более горделивой, нежели вошла, словно
приободренная, просветвленная и очеловеченная, вышла, будто из греческого
храма! И тут я понял, что и входила она тоже будто в святыню. В святыне этой
черпали силы современные инженеры и адвокаты! Ежедневно выходила она из этого
места, становясь все лучше, все культурнее, высоко держа знамя прогресса, в
месте этом был источник интеллигентности и естественности, которыми она
донимала меня. Хватит. Прошла в ванную. Запел петух.
_______________
* Борьба за культуру (нем.) — программа правительства Бисмарка, направленная против католической церкви в Германии; на польских землях, входивших в состав Германии, этим прикрывался курс на германизацию польского населения и его культуры.
208
А потом рысью
примчался Млодзяк в домашней куртке, громко отхаркиваясь и сплевывая, проворно,
дабы не опоздать на службу, с газетой, дабы не терять времени, в очках на носу,
с полотенцем на шее, чистя ноготь ногтем, стуча тапочками и капризно шлепая
голыми пятками. Завидя дверь уборной, он захохотал смехом задним, дворовым, тем
же, что и вчера, и пробрался туда, как работающий интеллигент-инженер, игриво и
плутовски, необычайно остроумный. Пробыл он там долго, выкурил сигарету и
пропел кариоку, а вышел совершенно деморализованный, типичный интеллигент-хамло
с рожей такой кретински-водевильной, омерзительно-похабной, порочно-отупелой,
что я кинулся бы на эту рожу, если бы не сдержал себя. Странное дело — если на
жену ватерклозет действовал конструктивно, то на него он, казалось, действовал
деструктивно, хотя он ведь был инженером-конструктором.
— Поживей! —
развязно крикнул он жене, которая мылась в ванной. — Поживей, старая! Витенька
на службу торопится!
Под влиянием
ватерклозета он назвал себя уменьшительным Витенькой и с полотенцем ушел.
Сквозь царапины на матовом стекле я осторожно заглянул в ванную. Инженерша,
голая, вытирала бедро купальной простыней, а лицо ее, кожа которого была
потемнее, мудрое, заострившееся, нависло над жирно-белой, телячьи-невинной,
безнадежной коленкой, словно ястреб-стервятник над теленком. И была в этом
жуткая антитеза, казалось, орел кружит беспомощно, не в силах схватить теленка,
который голосит благим матом, а это инженерша Млодзяк гигиенично и
интеллигентно рассматривала свою бабью, дрябловатую ногу. Она подпрыгнула.
Стала в позицию, руки уперла в бока и
209
выполнила полуоборот справа
налево со вздохом и выдохом! Слева направо с выдохом и вдохом! Выбросила вверх
ногу, а ступня у нее была маленькая и розовая. Потом другую ногу с другой
ступней! И приседать! Двенадцать приседаний отбухала перед зеркалом, дыша через
нос — раз, два, три, четыре, — даже бюст у нее зааплодировал, да и у меня ноги
ходуном заходили, и я чуть было не пустился в пляску сатанинскую, в пляску
культурную. Отскочил за вешалку. Приближалась легкой походкой гимназистка, я
притаился, словно в джунглях, приготовившись к психологическому прыжку,
разъяренный... нечеловечески, архичеловечески разъяренный... Сейчас или
никогда, я прихвачу ее со сна, неряшливую, теплую, полуодетую, изничтожу в себе
ее красоту, ее дешевые гимназические прелести! Посмотрим, спасут ли Копырда с
Пимкой ее от гибели!
Она шла насвистывая,
смешно выглядела в пижаме, с полотенцем на шее — вся в движении, точном и
быстром, само действие. Спустя миг она была уже в ванной, и я набросился на нее
взглядом из своего укрытия. Сейчас, сейчас или никогда— сейчас, пока она
слабенькая и разнеженная! — но она действовала так стремительно, что никакая
разнеженность так и не успела к ней прицепиться. Она впрыгнула в ванну — пустила
холодный душ. Она трясла локонами, а ее гармоничное обнаженное тело дергалось,
ежилось и захлебывалось от восторга под водной струей. Ха! Не я ее, это она
меня за горло схватила! Девушка, никем не понукаемая, утром, до завтрака, лила
на себя холодную воду, истязала тело свое до спазм и судорог того ради, дабы,
захлебываясь юным восторгом на голодный желудок, обрести дневную красу!
И, сам того не
желая, принужден я был любоваться дисциплиной девичьей красоты!
Стремительностью,
210
точностью, ловкостью она
сумела выпутаться из труднейшего переходного периода от ночи ко дню, словно
бабочка взвилась она ввысь на крыльях движения. Мало того — она еще предала
тело холодной воде, чтобы молодо и бодро захлебнуться восторгом, инстинктивно
ощущая, что доза бодрости окончательно добьет разнеженность. В сущности, что же
могло помешать девушке приободренной, повосторгавшейся взахлеб? Когда она
прикрутила кран и стояла нагая в струйках стекающей воды, запыхавшаяся, она как
бы все начинала сызнова, как бы того и не было. Эй! — если бы вместо холодной
она употребила теплую с мылом, немногого бы это стоило. Только холодная могла —
через восторг взахлеб — навязать забвение.
Как оплеванный
выбрался я из прихожей. Подло потащился к себе, поняв, что дальнейшее
подсматривание ни к чему не приведет, больше того, оно может оказаться
губительным. Паскудство, паскудство — опять поражение, и на самом дне
интеллигентского ада меня все еще настигали поражения. Кусая пальцы до крови, я
поклялся не признавать себя побежденным, но продолжать сосредоточиваться,
настраиваться, и я написал на стене в ванной только это: «Veni, vidi, vici»*. Пусть уж по
крайней мере знают, что я видел, пусть почувствуют себя обсмотренными! Враг не
спит, враг бдит. Моторизация и динамизация! Я пошел в школу, в школе ничего
нового, Бледачка, поэт-пророк, Мыздраль, Гопек и «accusativus cum infinitivo», Галкевич, лица,
рожи, попочки, палец в ботинке и повседневная всеобщая несостоятельность,
скучно, скучно, скучно! На Копырду, как я, впрочем, и предполагал, письмо мое
никак не подействовало, самое большее, он, может, чуть заметнее, чем обычно,
акцентировал ноги, но я не был уверен, не кажется ли
______________
* Пришел, увидел, победил (лат.).
211
мне это. Зато на меня
коллеги смотрели с отвращением, и даже Ментус спросил:
— Бог ты мой, где ж
ты себя так отделал?
Действительно, рожа
моя после сосредоточения и настройки стала такой муторной, что я и сам
хорошенько не знал, на чем сижу, но плевать, все равно, ночь, ночь была всего
важнее, с дрожью ожидал я ночи, ночь решит, ночь даст ответ. Ночью может
наступить перелом. Соблазнится ли Пимко? Искушенный, двужильный, двуединый
учителишка, позволит ли он выбить себя из формы девичьим чувствительным
письмом? От этого зависело все. — Только бы Пимко, — молился я, — только бы он
потерял равновесие, только бы потерял голову, — и вдруг, приведенный в ужас
рожей, попочкой, письмом, Пимкой, тем, что было, тем, что еще будет, вдруг я
порывался бежать, как законченный псих вскакивал на уроке — и садился, — ибо
куда же мне было убегать, назад, вперед, направо или налево, от собственной
своей рожи, от попочки? Молчи, молчи, никакого побега! Ночь решит.
За обедом не
произошло ничего достойного упоминания. Гимназистка и инженерша были весьма
сдержанны в словах и не размахивали, как обычно, современностью. Явно
опасались. Прекрасно ощущали мою сосредоточенность и собранность. Я заметил,
что инженерша Млодзяк сидела истуканом, с достоинством особы, подсмотренной во
время своего сидения, смешно, но это делало ее похожей на матрону, я такого
эффекта не ожидал. Во всяком случае не подлежало сомнению, что она прочитала
мою надпись на стене. Я старался смотреть на нее как можно более проницательно
и сказал смиренно, подобострастно, в форме отвлеченной, что отличаюсь взглядом
наблюдательным и насквозь просвечивающим, который ввинчивается в лицо, а
выходит с другой стороны... Она при-
212
творилась, что не слышит,
зато инженер судорожно захохотал ненароком и хохотал долго, механически.
Млодзяк — если зрение меня не обманывало — под воздействием последних событий
стал до известной степени склонен к неряшливости, намазывал маслом большие
ломти хлеба и запихивал себе в рот огромные куски, которые прожевывал чавкая.
После обеда я
пытался подглядывать за гимназисткой от четырех до шести, однако безрезультатно,
ибо она ни разу не вошла в поле моего зрения. Наверняка остерегалась. Я также
заметил, что инженерша Млодзяк шпионит за мной, несколько раз под пустячными
предлогами входила в мою комнату, а однажды даже наивно предложила мне сходить
за ее счет в кино. Беспокойство их росло, они чувствовали себя под угрозой,
вынюхивали врага и опасность, хотя толком не знали, что им угрожает и к чему я
стремлюсь, — они вынюхивали, и это их деморализовало, неопределенность
возбуждала тревогу, а тревоге не на что было опереться. И даже разговаривать
между собой об опасности они не могли, ибо слова погружались в бесформенный и
зыбкий мрак. Инженерша вслепую пыталась организовать что-то вроде обороны и,
как я убедился, весь день провела за чтением Рассела, а мужу сунула Уэллса. Но
Млодзяк заявил, что предпочитает годовой комплект «Варшавского цирюльника», а
также «Словечки» Боя*, и я слышал, как он то и дело разражался смехом. Вообще
они не могли себе места найти. Инженерша Млодзяк в конце концов взялась за
подсчет домашних расходов, отступив на позиции финансового реализма, а инженер
болтался по дому, присаживался то там, то здесь и напевал довольно-таки
фривольные мелодии. Их выводило из себя, что я си-
________________
* Сборник сатирических куплетов известного польского писателя Боя-Желеньского (1874—1941).
213
жу в своей комнате и не
подаю признаков жизни. Ведь я, разумеется, старался сохранить тишину. Тихо,
тихо, тихо, порой тишина достигала величайшего напряжения, и тогда жужжание
мухи походило на трубный звук, а неопределенность сочилась в тишине, собираясь
в мутные лужи. Около семи я увидел Ментуса, пробиравшегося вдоль забора к
служанке и посылавшего условные знаки в сторону кухни.
К вечеру инженерша
тоже стала пересаживаться с места на место, а инженер в кладовке выпил
несколько рюмок. Они не могли найти себе ни места, ни формы, не могли усидеть,
садились и вскакивали, словно обжегшись, ходили из угла в угол, взъерошенные,
будто бы кто-то преследовал их по пятам. Действительность, выброшенная из
своего русла к сильными импульсами моей акции, накатывала волнами и бурлила,
выла и громко стонала, а темная, смешная стихия безобразия, мерзости, гнусности
все осязаемее окружала их и поднималась на их поднимающейся тревоге, как на
дрожжах. За ужином инженерша едва могла усидеть на стуле, все внимание
сосредоточив на лице и верхних частях своего тела, а Млодзяк, напротив, вышел к
столу в жилете, завязал салфетку под подбородком и, намазывая маслом толстые,
надкусанные ломти, рассказывал интеллигентские анекдоты и хохотал. Сознание,
что он был мною подсмотрен, унизило его до плоской инфантильности, он весь
как-то прилаживался к тому, что я увидел, и превратился в мерзкого,
кокетливого, смешливого инженеришку, изнеженного, избалованного и шаловливого.
Он к тому же пытался подмигивать мне и делать остроумные многозначительные
знаки, на что я, естественно, не отвечал, сидя с лицом захиревшим и бледным.
Девушка сидела равнодушно, стискивая зубы, игнорировала все с поистине девичьим
героизмом, можно было бы поклясться, что она
214
ничего не знает, — о, я с
тревогой смотрел на этот ее героизм, который возвышал ее красоту! Однако ночь
решит, ночь даст ответ, если Пимко с Копырдой подведут, современная победит
наверняка и ничто не спасет меня от рабства.
Приближалась ночь, а
с нею и час сведения счетов. Событий нельзя было предвидеть, не было программы,
я знал только, что должен сотрудничать с каждым сумеющим пробиться ростком,
ростком деформирующим, смешным, подозрительным, карикатурным и дисгармоничным,
с каждым разрушительным элементом, — и меня охватил прогорклый, худосочный
ужас, по сравнению с которым давящий страх убийцы не стоит ломаного гроша.
После одиннадцати гимназистка отправилась спать. Поскольку загодя я пробил
долотом в двери косую щель, я мог охватить взглядом часть комнаты, до того мне
недоступную. Девушка быстро разделась и сразу же потушила свет, но вместо того,
чтобы уснуть, только ворочалась с боку на бок на жесткой постели. Зажгла лампу,
взяла со столика английский детективный роман, и я видел, как она заставляет
себя читать. Современная пристально вглядывалась в пространство, словно
взглядом пыталась проникнуть в смысл опасности, угадать форму, увидеть,
наконец, образ угрозы, конкретно понять, что против нее замышляется. Она не
знала, что у опасности не было ни формы, ни смысла — бессмыслица,
бесформенность и бесправие, подозрительная, разболтанная, безстильная стихия
угрожала ее современной форме, вот и все.
Из спальни Млодзяков
доносились до меня возбужденные голоса. Я стремглав бросился к их двери.
Инженер в белье, заливающийся смехом и весь кабаретный, опять рассказывал
анекдоты с явно интеллигентским привкусом.
215
— Довольно! —
инженерша Млодзяк в халате нервно потирала руки. — Довольно, довольно!
Перестань!
— Подожди, подожди,
Яська, позволь еще... Я сейчас кончу!
— Никакая я не
Яська. Я Иоанна. Сними кальсоны или надень брюки.
— Штанишки!
— Молчи!
— Штанишки,
хи-хи-хи, штаники!
— Молчи, говорю...
— Штанища,
штанища...
— Молчать! — Она
решительно потушила лампу.
— Зажги, старая!
— Никакая я не
старая... Не могу на тебя смотреть! Почему я тебя полюбила? Что с тобой? Что с
нами происходит? Опомнись. Мы же вместе идем к Новым Дням! Мы борцы Нового
Времени!
— Ладно, ладно,
толстая, толстая лангуста — хи-хи-хи — лангуста толста прыг-скок мне в уста.
Хоть и толста туша, да пыл не сушит. Но огню его конец, дряхлый слишком был
бабец...
— Виктор! Что ты
говоришь? Что ты говоришь?
— Витек веселится!
Витек шалит! Трусцой летит!
— Виктор, что ты
говоришь? Смертная казнь! — выкрикнула она. — Смертная казнь! Эпоха! Культура и
прогресс! Наши стремления! Наши порывы! Виктор! О, по крайней мере не так
грубо, не так сильно, не так мелко... Что на тебя нашло? Зута? О, как тяжко!
Что-то тут нехорошо! Что-то судьбоносное в воздухе! Измена...
— Изменочка, —
сказал Млодзяк.
— Виктор! Не мельчи!
Не мельчи!
— Изменушка, Витек
говорит...
— Виктор!
216
Они стали возиться.
— Свет, — задыхалась
инженерша Млодзяк. — Виктор! Свет! Зажги! Пусти!
— Подожди! —
задыхался он, хохоча. — Подожди, дай я тебя трахну, в шейку трахну!
— Никогда! Пусти,
кусаться буду!
— Трахну, трахну, в
шейку, шеечку, шееньку...
И он изверг из себя
все альковные любовные уменьшительные, начиная с курочки и кончая муму... Я в страхе отступил. Хоть и не испытывал
я недостатка в мерзостях, но этого выдержать не мог. Чертово умаление, которое некогда так сильно
повлияло на мою судьбу, теперь преследовало их. Дьявольской была эта выходка
инженеришки, о, чудовищно, когда маленький инженер заартачится и сбросит узду,
до чего же мы дожили? Трахнуло. По загривку шлепнул или по щеке вытянул?
В комнате девушки
было темно. Спала? Было тихо, и я представил себе, как она спит, охватив голову
рукой, полураскрытая и измученная. Вдруг она застонала. То не был стон во сне.
Бурно, нервно заерзала в постели. Я знал, она съеживается, а расширившиеся
глаза беспокойно всматриваются в темноту. Неужели же современная гимназистка
стала уже настолько впечатлительной, что взгляд мой, проникнув сквозь замочную
скважину, поразил ее во сне? Стон был дивно прекрасен, исторгнут из глубин ночи
— словно сама судьба заколдованной девушки застонала, тщетно взывая о помощи.
Она опять застонала
глухо, отчаянно. Неужели почувствовала, что в эту самую минуту растленный мною
отец трескает мать? Неужели распознала окружающую ее со всех сторон гнусность?
Мне казалось, я вижу во мраке современную, ломающую руки и до боли кусающую их.
Как будто она зубами хотела дор-
217
ваться до красоты в самой
себе. Внешняя мерзость, притаившаяся по углам, возбуждала ее страсть к
собственным прелестям. Какими же богатствами, какими же прелестями она
обладала? Первое богатство — девушка. Второе богатство — гимназистка. Третье
богатство — современная. И все это было заперто в ней, словно орех в скорлупе,
она не могла проникнуть в арсенал, хотя и чувствовала на себе нечистый мой взгляд
и знала, что отвергнутый вздыхатель стремится духовно испоганить, уничтожить,
испортить, обезобразить ее девичью красоту.
И меня вовсе не
удивило, что девушка, невзирая на угрозу неявного уродства, разбушевалась
вовсю. Она выскочила из постели. Сбросила ночную рубашку. Пустилась в пляс. Она
уже не обращала внимания на то, что я подсматриваю, да, она сама как бы
вызывала меня на схватку. Ноги легко, ловко поднимали ее тело, руки плескались
в воздухе. Она и так и эдак вбирала головку в плечи. Охватывала голову руками.
Трясла кудрями. Ложилась на пол, вставала. Рыдала, а то смеялась или тихо
напевала. Вскочила на стол, со стола на диван. Казалось, она боится
остановиться хотя бы на миг, словно крысы и мыши гнались за ней, казалось, что
летучестью своих движений она стремится возвыситься над ужасом. Она уже не
знала, что еще предпринять. Наконец, схватила поясок и принялась изо всех сил
хлестать себя по спине, лишь бы только пострадать, молодо, мучительно... Она
схватила меня за горло! Как же измывалась над нею красота, к чему только не
понуждала, как вертела ею, мутузила, валяла! Я замер у замочной скважины с
рожей дисгармоничной и мерзкой, равно восторженной и ненавидящей. Гимназистка,
метаемая красотой, выкидывала все более бурные коленца. А я обожал и ненавидел,
меня бил озноб, рожа судорожно стягивалась и растягива-
218
лась, словно она была из
гуттаперчи. Боже, до чего же доводит нас любовь к красоте!
В столовой пробило
двенадцать. Раздался тихий стук в окно. Троекратный. Я струхнул. Начиналось.
Копырда, Копырда идет! Гимназистка прекратила скакать. Стук повторился еще раз,
настойчивый, тихий. Она подошла к окну и раздвинула шторы. Всматривалась...
— Это ты?.. —
долетел с веранды в ночной тиши шепот. Она потянула за шнурок. Луна ворвалась в
комнату. Я увидел, что девушка стоит в рубашке, вся напряглась, вся начеку...
— Чего? —
проговорила.
Я дивился мастерству
этой сороки! Ведь появление под окном Копырды было для нее неожиданностью.
Другая на ее месте, старомодная, зашлась бы бессмысленными криками и вопросами:
«Простите! Что это значит? Что вам надо в такой час?» Но современная поняла,
что удивление в лучшем случае могло бы подпортить... что куда красивее без
удивления... О, мастерица! Она высунулась из окна бесцеремонная, бесхитростная,
общительная.
— Чего? — повторила
она громким девичьим шепотом, кладя подбородок на руки.
Поскольку он называл
ее на «ты», и она не обратилась к нему на «вы». И я поражался неправдоподобно
резкой перемене стиля — прямо от прыжков в приятельский разговор! Кто бы
догадался, что минуту назад она металась и скакала? Копырда, хотя тоже
современный, был все же несколько сбит с толку необычайной деловитостью
гимназистки. Он, однако, моментально подстроился под ее тон и сказал
по-мальчишески небрежно, руки в карманы:
— Пусти меня.
— Зачем?
219
Он присвистнул и
грубо ответил:
— Не знаешь? Пусти!
Копырда был
возбужден, и голос у него срывался, но он свое возбуждение скрывал. А я трясся,
боясь только бы он не сболтнул о письме. Современные нравы, к счастью, не
позволяли им ни много говорить, ни удивляться друг другу, им приходилось
притворяться, что все и так само собой ясно. Небрежность, грубость, краткость и
пренебрежительность — вот из чего они высекали поэзию, тогда как в давние
времена влюбленные исторгали ее с помощью стонов, вздохов и мандолин. Копырда
знал, что он мог овладеть девушкой только с пренебрежением, а без пренебрежения
— и речи быть не могло. Но, подпуская немного чувственного, современного
сентиментализма, он тоскливо, позитивно, глухо добавил, погрузив лицо в дикий
виноград, вившийся по стене:
— Сама ведь хочешь!
Она сделала такое
движение, будто собиралась закрыть окно. Но вдруг — словно движение это
подтолкнуло к чему-то совсем противоположному — она замерла... Стиснула зубы.
Секунду постояла неподвижно, только глаза ее осторожно, медленно посмотрели по
сторонам. На лице появилось выражение... выражение сверхсовременного цинизма. И
гимназистка, возбужденная выражением цинизма, глазами и устами в лунном свете,
неожиданно высунулась до половины и рукой, в которой ничуть не было страсти,
взъерошила ему волосы.
— Иди! — прошептала
она.
Копырда не выказал
удивления. Ему было не положено удивляться ни собой, ни ею. Малейшее сомнение
могло испортить все. Ему надлежало поступать так, будто действительность,
которую они сообща выстраивали, была чем-то повседневным и рядовым.
220
О, мастер! Так он и
поступил. Влез на окно и спрыгнул на пол именно так, словно каждую ночь лазал в
окно какой-нибудь гимназистки, с которой познакомился только вчера. В комнате
он тихо рассмеялся, на всякий случай. А она потянула его за волосы, чуть
приподняла его голову и вгрызлась ртом в его рот!
Черт, черт! А вдруг
она была девица! Вдруг девушка была девицей! Вдруг она была девица и решила без
церемоний отдаться первому встречному, который постучал в окно! Черт, черт! Она
схватила меня за горло. Ибо ежели она была обыкновенной потаскухой и шлюхой,
ну, тогда, в конце концов, пусть, но если она девица, то — следует признать —
современная сумела исторгнуть просто дикую красоту из себя и из Копырды. Так нагло,
так тихо, грубо и свободно схватить мальчика за волосы — меня схватить за
горло... Ха! Она знала, что я подсматриваю в замочную скважину, и шла на все,
лишь бы победить красотой! Я заколебался. Ибо если бы уж на худой конец это он
схватил ее за волосы — но за волосы-то его схватила она! Эй, вы там, барышни,
выходящие замуж с помпой, предваряя это долгой канителью, вы, никудышные,
которые позволяете украсть у вас поцелуй, смотрите, как современная принимается
за любовь и за себя! Она повалила Копырду на диван. Я опять заколебался. Дело
шло к тому, чтобы острие против острия! Семнадцатилетняя явно ставила на карту
самый сильный козырь своей красоты. Я молился, чтобы пришел Пимко, — ежели
Пимко подведет, я пропал, никогда, никогда уже не освобожусь от дикого
очарования современной. Она душила, она давила — меня, того, который хотел
задушить ее, который хотел ее победить!
А тем временем
девушка в самом бурном расцвете своего девичества обнималась с Копырдой на
диване и
221
готовилась с его помощью
достигнуть высшей степени прелести. Случайно, кое-как, без любви и чувственно,
даже не уважая друг друга, единственно того ради, дабы дикой гимназической
поэзией схватить меня за горло. Черт, черт, она побеждала, побеждала,
побеждала!
Но вот раздался
спасительный стук в окно. Они прекратили обниматься. Наконец! Пимко шел на
помощь. Приближался решающий миг. Сумеет ли Пимко испортить — не поддаст ли еще
красоты, очарования? Об этом думал я, готовя за дверью рожу свою к
вмешательству. Пока что стук Пимко принес некоторое облегчение, ибо им пришлось
прервать страсть и исступление, и Копырда шепнул:
— Кто-то стучит.
Гимназистка вскочила
с дивана. Они прислушивались, могут ли снова приступить к исступлению. Стук
повторился.
— Кто там? —
спросила она.
За окном послышалось
жаркое, астматическое:
— Зутка!
Она отодвинула
шторы, дав знак Копырде, чтобы тот отступил. Но Пимко лихорадочно вскарабкался
в окно, прежде чем она успела произнести хоть слово. Он боялся, что его
кто-нибудь увидит под окном.
— Зутка! — зашептал
он страстно, физически. — Зутка! Гимназистка! Малышка! Ты — скажи «ты»! Ты
подружка моя! Я твой коллега! — Мое письмо опьянило его. У двужильного и
ничтожного учителишки рот был страдальчески искривлен поэзией. — Ты! Говори мне
«ты», Зутка! Никто не увидит? Где мама? — Но опасность только больше пьянила
его. — Какое это... маленькое, молодое... и бесстыдное... невзирая на разницу в
возрасте, в положении... Как ты могла... как осмелилась... мне? Я и вправду такое впечатление
222
произвел? Говори мне «ты»!
На «ты», на «ты»! Скажи, что тебе во мне понравилось?
Ха, ха, ха, ха, ха,
педагог чувственный!
— Чего? Чего вы?.. —
бормотала она. То, с Копырдой, уже прошло, уже рассеялось.
— Тут кто-то есть! —
воскликнул Пимко в полутьме.
Ответило молчание.
Копырда не отзывался. Современная стояла между ними в рубашке, без смысла, как
маленькая дамочка.
И тогда за дверью
взорвался я.
— Воры! Воры!
Пимко завертелся на
месте как пришпиленный, бросился к стенному шкафу. Копырда хотел выскочить в
окно, не успел — спрятался в другом шкафу. Я влетел в комнату как был, в ночном
белье. Вот они! Попались! За мной Млодзяки, он — еще шлепающий, она —
отшлепанная.
— Воры?! — кричал
заурядно и мелкобуржуазно инженерик в исподнем и босиком. В нем пробудился
инстинкт собственности.
— Кто-то влез в
окно! — заорал я. Зажег свет. Гимназистка лежала под одеялом и притворялась,
что спит.
— Что случилось? —
спросила полусонно, в отличном, лживом стиле.
— Новая интрига! —
закричала инженерша Млодзяк, поглядывая на меня взором василиска, в халате, с
растрепанными волосами и бурыми пятнами на щеках.
— Интрига? — завопил
я, поднимая с полу подтяжки Копырды. — Интрига?
— Подтяжки, — тупо
проговорил инженерик.
— Это мои! —
бесстыже закричала барышня Млодзяк. Бесстыдство девушки на всех подействовало
благотворно, хотя никто, естественно, не поверил!
223
Резким движением
распахнул я шкаф, и перед собравшимися предстала нижняя часть тела Копырды, а
именно пара стройных ног в выглаженных фланелевых брюках и в легких спортивных
тапочках. Верхняя часть тела была увита платьями, висевшими в шкафу.
— Аа... Зута! —
первой отозвалась инженерша Млодзяк.
Гимназистка с
головой укрылась под одеялом, только ноги торчали и краешек прически. Как же
мастерски она все это разыгрывала! Другая на ее месте начала бы что-нибудь
бурчать под нос, искать оправданий. А она только нагие ноги выставила и,
перебирая ими, играла на ситуации — ногами, движением, обаянием, — как на
флейте. Родители переглянулись.
— Зута... — сказал
Млодзяк.
И они с инженершей
Млодзяк рассмеялись. Опали с них трескотня, ординарность и гнусность — дивная
красота воцарилась. Родители, утешившиеся, оживленные, восхищенные,
снисходительно и раскованно смеясь, смотрели на тело девушки, которая все еще
капризно и робко прятала головку. Копырда, видя, что ему не надо опасаться
давних строгих принципов, вышел из шкафа и встал, улыбаясь, блондин, с пиджаком
в руках, современный симпатичный мальчик, застигнутый с девушкой ее родителями.
Инженерша Млодзяк исподлобья ехидно взглянула на меня. Она торжествовала. Я,
наверное, был околдован. Хотел скомпрометировать гимназистку, но современный
вовсе ее не скомпрометировал! Дабы еще чувствительнее дать им почувствовать мою
ненужность, она спросила:
— А вы, молодой
человек, здесь зачем? Вас это не должно касаться!
До сих пор я умышленно
не открывал шкаф с Пимкой. Цель моя состояла в том, чтобы ситуация укрепи-
224
лась в своем характере,
достигнув вершин стиля современного и молодого. Теперь же я молча открыл шкаф.
Пимко, съежившийся, забился в платья — только пара ног, пара профессорских ног
в мятых брюках была видна, и ноги эти стояли в шкафу, какие-то
неправдоподобные, сумасбродные, какие-то пришпиленные...
Впечатление было
опрокидывающее, переворачивающее. Смех замер на губах Млодзяка. Ситуация
пошатнулась. Словно пронзенная в бок ножом убийцы. Идиотство какое-то.
— Что это? —
прошептала инженерша Млодзяк, бледнея.
За платьями
послышалось легкое покашливание и обычный смешок, которыми Пимко готовил себе
почву для выхода. Зная, что через миг он может оказаться смешным, он упреждал насмешку
над собой собственным смешком. Этот смешок из-за дамских платьев был настолью
кабаретным, что Млодзяк хохотнул разок и осекся... Пимко вышел из шкафа и
поклонился, смешной внешне, несчастный внутренне... Внутренне я чувствовал
мстительный, яростный садизм, внешне я разразился смехом. В смехе моем
растопилась месть моя.
Но Млодзяки
остолбенели. Двое мужчин в двух шкафах! Да еще в одном — старый. Если бы было
двое молодых! Либо по крайней мере было двое старых. Но один молодой и один
старый. Старый, да еще к тому же Пимко. У ситуации не было оси, не было
диагонали — нельзя было найти комментария к этой ситуации. Они непроизвольно
взглянули на девушку, но гимназистка замерла под одеялом.
Тогда Пимко,
покашливая и посмеиваясь, возжелал прояснить ситуацию и взялся толковать что-то
про письмо, что барышня Зута написала... что он хо-
225
тел Норвида... но что
барышня Зута на «ты»... что на «ты» к нему... на «ты» с ним... что он хотел
только на «ты»... что по имени... Нет, ничего более гадкого и одновременно
глупого в жизни никогда я не слышал, тайное и частное содержание бредовых
видений старика было невыносимо в ситуации, ярко освещенной лампой под
потолком, никто не хотел понимать, а значит, никто и не понимал. Пимко знал,
что никто не хочет, но увяз — учителишка, вытряхнутый из учителишки, смешался
совершенно, верить не хотелось, что это тот самый абсолютный и искушенный
балбес, который некогда меня укантропопил. Погрязший в липкой массе собственных
объяснений, он вызывал жалость своей беспомощностью, и я чуть было не
набросился на него, да махнул рукой. Но темные и подозрительные Пимкины
призраки втолкнули инженера в официальность — это было сильнее, чем
обоснованное недоверие, которое из-за меня он мог питать к ситуации. Он
возопил:
— Я вас спрашиваю, что вы тут делаете в
такую пору?
Это в свою очередь
навязало тон Пимке. На мгновение он обрел форму:
— Прошу не повышать
голос.
Млодзяк спросил:
— Что? Что? Вы
позволяете себе делать мне замечания в моем доме?
Но инженерша
взвизгнула, взглянув в окно. Бородатое лицо с веткой во рту показалось над
оградой. Я напрочь позабыл о нищем!
Велел ему и сегодня стоять с веткой, но забыл дать злотый. Бородач стойко ждал
до самой ночи, а, увидя нас в освещенном окне, вытянул умаявшуюся, наемную
рожу, чтобы напомнить о себе! Она въехала к нам, словно на блюде.
226
Чего хочет этот
человек? — кричала инженерша. Дух, коли бы она его увидела, не произвел бы на
нее более сильного впечатления. Пимко и Млодзяк примолкли.
Нищий, к которому на
какой-то момент приковалось всеобщее внимание, шевелил веткой, словно усами, не
зная, что сказать. Поэтому сказал:
— Сделайте милость.
— Дайте ему
что-нибудь, — инженерша опустила руки и растопырила пальцы. — Дайте ему
что-нибудь, — истерично орала она, — пусть идет...
Инженер начал искать
мелочь в карманах брюк, но не нашел, Пимко живо вытащил кошелек, судорожно
цепляясь за любой возможный поступок, а пожалуй, и рассчитывая на то, что
Млодзяк в суматохе возьмет у него мелочь, а это, естественно, не способствовало
бы дальнейшему поддержанию враждебности, — но Млодзяк не взял. Мелкие расчеты
ворвались в окно и разбушевались в людях. Что до меня, то я стоял с рожей,
внимательно следя за развитием событий, готовый к прыжку, но, в сущности,
смотрел на все, словно через стеклышко. Куда же девалась моя месть, мое в них
копание, и вой раздираемой в клочки действительности, и взрыв стиля, и мое
безумство на развалинах? Фарс понемногу стал мне наскучивать. Лезли в голову
всякие мысли, не исключая, например, такой — где Копырда покупает галстуки,
может ли инженерша любить кошек, сколько они платят за квартиру? Все это время
Копырда продолжал стоять, засунув руки в карманы. Современный не подошел ко
мне, даже виду не подал, что мы знакомы, — он и без того был достаточно
раздражен приятельскими отношениями с Пимкой на почве девушки, чтобы еще
здороваться со школьным приятелем в исподнем, — ни то, ни другое приятельство
не было ему на руку. Когда Млодзяки и Пимко начали поиски мелочи, Копырда не
торо-
227
пясь направился к дверям — я
раскрыл рот, чтобы закричать, но Пимко, который заметил маневр Копырды,
моментально убрал кошелек и двинулся за ним. Тогда инженер, увидя их, вдруг
дружно направившимися к выходу, бросился вслед, словно кот за мышью.
— Простите! —
крикнул он. — Так дело не пойдет!
Копырда с Пимкой
остановились, Копырда, доведенный до бешенства товариществом с Пимкой,
отодвинулся от него; Пимко, однако, под воздействием его движения машинально
придвинулся к нему — так они и стояли, будто двое братьев: один молодой... а
другой постарше...
Инженерша, придя в
кошмарное возбуждение, схватила за руку инженера:
— Не устраивай сцен!
Не устраивай сцен! — Чем, естественно, подтолкнула его к сцене.
— Прошу меня
извинить! — рявкнул он. — Я отец,
кажется! Я спрашиваю: как и с какой целью вы, господа, оказались в спальне моей
дочери? Что это может означать? Что это означает?
Он вдруг взглянул на
меня и стих, ужас вылез на его щеки, он сообразил, что это вода на мою
мельницу, на мельницу скандала — и он бы стих, но слово уж сказалось... и он
повторил еще раз:
— Что это может
означать? — тихо, единственно округления ради и, моля в душе, дабы реплика его
осталась без ответа...
Воцарилась тишина,
ибо ответить никто не мог. У каждого из них, в конце концов, была какая-то своя
разумная причина, но целое было без смысла. Бессмыслица в тишине душила. И
вдруг глухие, безнадежные рыдания девушки раздались под одеялом. О, мастерица!
Она рыдала с обнаженными коленками, вылезавшими из-под одеяла, с коленками,
которые, чем горше она плакала, тем больше вылезали, и этот плач несовершен-
228
нолетней объединял Пимку,
Копырду, родителей, нанизывал их на демонизм, словно на нитку. Дело в один миг
перестало быть смешным и бессмысленным, оно обрело смысл, и к тому же смысл
современный, хотя мрачный, черный, драматичный и трагичный. Копырда, Пимко,
Млодзяки почувствовали себя, лучше, а я, схваченный за горло, почувствовал себя
хуже.
— Вы ее... растлили, — прошептала мать. — Не плачь не
плачь, деточка...
— Поздравляю,
господин профессор! — злобно крикнул инженер. — Вы мне за это ответите!
Пимко, казалось,
вздохнул свободнее. Это для него было даже лучше, чем прежнее нежелание никак и
никуда его не определять. А стало быть, он ее растлил.
Ситуация оборачивалась в пользу девушки.
— Полиция! —
закричал я. — Надо вызвать полицию!
Шаг был рискованный,
ибо полиция давно уже совмещалась с несовершеннолетней в закругленное,
прекрасное и зловещее целое — Млодзяки как-то гордо вскинули головы, — я же
стремился напугать Пимку. Тот побледнел, хрюкнул, откашлялся.
— Полиция, —
повторила мать, лакомясь полицией над голыми ногами девушки, — полиция,
полиция...
— Поверьте мне,
пожалуйста, — пробормотал профессор, — поверьте, господа... Ошибка, меня
обвиняют неосновательно...
— Да! — закричал я.
— Я свидетель. Я в окно видел! Господин профессор вошел в садик, хотел
облегчиться. Барышня выглянула в окно, а господин профессор поздоровался и
вошел нормально, через дверь, которую барышня Зута открыла!
Пимко до смерти
испугался полиции. Подло и трусливо он ухватился за это объяснение, не обращая
внимания на его мерзкий и постыдный смысл.
229
— Да, именно так,
меня прихватило, я зашел в садик, забыл, что вы тут живете, а барышня как раз в
окно выглянула, ну я и притворился, хе-хе, притворился, что я с визитом... Вы
понимаете... в таком непристойном положении... Qui pro quo, qui pro quo*, — повторял он.
На присутствующих
это произвело впечатление отвратительное и отталкивающее. Девушка спрятала
ноги. Копырда сделал вид, что не слышит, инженерша Млодзяк повернулась спиной к
Пимке, спохватившись, однако, что задом не поворачиваются, она быстренько
повернулась передом. Млодзяк моргнул — ха, снова они попались в силки этой
убийственной части, вульгарность возвращалась на всех парах, я с любопытством
наблюдал, как она возвращается и как их выворачивает; она была той же самой, в
которой и я недавно барахтался, да, пожалуй, та же самая — но теперь она была
уже только между ними. Барышня Млодзяк под одеялом не проявляла признаков
жизни. И Млодзяк захохотал — неизвестно, что его пощекотало, а может, Пимкино qui pro quo напомнило ему о
кабаре, которое в свое время существовало в Варшаве под таким названием, — он
разразился абсолютным хохотом мелко-инженерковатым, хохотом потаенным,
макабрическим и мимическим — разразился и — разозлившийся на Пимку за то, что
хохочет, подскочил к нему и мелко, нахально, инженерковато треснул и хрястнул
его по морде. Треснул — и замер с вытянутой рукой, тяжело дыша. Посерьезнел.
Остолбенел. Я принес пиджак и ботинки
из своей комнаты и не спеша начал одеваться, не прекращая, впрочем, наблюдать
за ситуацией.
У получившего
пощечину захрипело в горле, заклинило его — но, убежден, в глубине души он с
бла-
_____________
* Одно вместо другого; путаница, неразбериха (лат.).
230
годарностью принял пощечину,
которая в известной степени определяла его статус.
— Вы мне за это
заплатите, — проговорил Пимко холодно и с явным облегчением. Поклонился
инженеру, инженер поклонился ему. Пимко, суетливо воспользовавшись поклоном,
направился к выходу. Копырда тотчас же присоединился к поклонам и двинулся за
Пимкой, намереваясь протащить контрабандой и себя... Млодзяк вскочил. Что? —
тут к ответственности привлекают, тут поединок, а этот прохвост уходит как ни в
чем не бывало, улизнуть хочет! Так и ему в морду! Инженер подскочил к Копырде с
вытянутой рукой, но в последнюю долю секунды сообразил, что не может бить по
лицу сопляка, школьника, хлюста, рука его странно вывихнулась, и вместо того,
чтобы ударить, Млодзяк схватил его
(он не мог погасить скорость), схватил
его за подбородок. Копырда, схваченный так незаконно, разъярился больше, чем
если бы его ударили по лицу, мало того, недозволенный прием после тягучей
четверти часа бессмыслицы вызволил в нем первобытные инстинкты. Бог его знает,
что ему втемяшилось в голову — или что инженер намеренно его схватил, или что,
если ты мне, то и я тебе, — какая-то подобная этим мысль должна была его
схватить, и по закону, который следовало бы назвать «законом наклона», он
нагнулся и схватил инженера за колено. Млодзяк рухнул — Копырда же укусил его в
левый бок, схватил зубами, не пускал — поднял лицо и безумными глазами рыскал
по комнате, кусая инженеров бок.
Я повязывал галстук и собирался надеть
пиджак, но задержался, заинтересованный. Ничего подобного мне никогда видеть не
приходилось. Инженерша бросилась мужу на помощь, схватила Копырду за ногу и
стала изо всех сил тянуть. Все это закрутилось и окон-
231
чательно рухнуло. Вдобавок
Пимко, который стоял в шаге от этого клубка, совершил вдруг поступок необычайно
странный, почти не поддающийся описанию. Неужели учителишка окончательно усомнился
в себе? Или поддался? Или не хватило ему решительности, чтобы стоять, когда те
лежали? Или лежание показалось ему не хуже стояния на ногах? Так или иначе, но
он добровольно улегся в углу на спину и поднял конечности вверх, давая этим
понять, что он совершенно беззащитен. Я завязал галстук, и меня даже не
тронуло, когда девушка сбросила одеяло, с плачем выскочила из постели и
запрыгала около возящихся Млодзяков и Копырды, словно судья на боксерском
матче, слезно умоляя:
— Мамочка! Папочка!
Инженер, обалдевший
от возни, ища опоры для рук, схватил ее за ногу, повыше щиколотки. Она упала.
Они катались вчетвером по полу тихо, как в костеле, ибо, помимо всего прочего,
стыдно им было. Я вдруг увидел, что мать кусает дочку, Копырда тянет инженершу
Млодзяк, а инженер пинает Копырду, потом опять мелькнула у меня перед глазами
коленка барышни Млодзяк на голове матери.
Одновременно
профессор в углу стал проявлять все более сильную склонность к куче-мале — лежа
на спине с задранными конечностями, он, однако, явно тяготел и неподвижно
рвался к ней, ибо куча-мала и клубок, несомненно, стали для него единственным
выходом. Встать на ноги не мог, не было у него никаких причин для вставания —
но и лежать на спине он тоже больше не мог. Достаточно было маленькой зацепки,
когда семейство вместе с Копырдой перевалилось чуть поближе, — Пимко схватил
Млодзяка где-то в окрестностях печени, и водоворот втянул его в себя. Я кончил
укладывать самые необходимые вещи в ма-
232
ленький чемодан и надел
шляпу. Мне надоело. Прощай, современная, прощайте, Млодзяки и Копырда, прощай,
Пимко, — нет, не прощайте, ибо как же прощаться с тем, чего уже нет. Я уходил налегке. Сладко, сладко
стряхнуть пыль с обуви и уходить, не оставляя ничего за спиной, нет, не
уходить, а идти... Да и было ли то, что Пимко, учителишка классический,
укантропопил меня, был ли я учеником в школе, современный с современной, был ли
танцующим в спальне, отрывающим крылья мухе, подглядывающим в ванной,
тра-ля-ля... Был ли я с попочкой, с рожей, с коленкой, тра-ля-ля... Нет, все
исчезло, ни молодой, ни старый, ни современный, ни старомодный, ни школьник, ни
мальчик, ни зрелый, ни незрелый, я был никто... никакой... Уходить идя, идти
уходя, не чувствовать даже воспоминаний. Блаженное обезразличивание! Без
воспоминания! Когда в тебе все умирает, а никто еще не успел родиться заново.
О, стоит жить для смерти, дабы знать, что в нас умерло, что этого уже нет,
пусто и пустынно, тихо и чисто, — и когда я уходил, казалось мне, что я иду не
один, но с самим собой — тут, совсем рядом, а может, во мне либо вокруг меня
шел кто-то идентичный и тождественный, мой — во мне, мой — со мной, и не было
между нами любви, ненависти вожделения, отвращения, безобразия красоты, смеха,
частей тела, никакого чувства и никакого механизма, ничего, ничего, ничего...
На сотую долю секунды. Ибо, когда я проходил через кухню, на ощупь, во тьме
тихонько меня окликнули из алькова прислуги:
— Юзя, Юзя...
А это Ментус сидел
на служанке и торопливо шнуровал ботинки.
— Я тут. Уходишь?
Подожди, я с тобой.
Шепот угодил мне в
бок, и я остановился как подстреленный. Рожу его я не мог хорошо рассмотреть в
233
темноте, но, судя по голосу,
она должна была быть страшна. Служанка тяжело дышала.
— Тсс... тихо.
Пошли. — Он слез со служанки. — Туда, туда... Осторожно — корзинка.
Мы оказались на
улице.
Светало. Домики,
деревья и заборы стояли вытянутые по линейке, упорядоченные — и воздух
прозрачный над самой землей, выше густеющий и превращающийся в отчаянный туман.
Асфальт. Вакуум. Роса. Пустота. Рядом со мной Ментус, приводящий в порядок
одежду. Я старался не смотреть на него. Из открытых окон особняка —
побледневший электрический свет и неумолкаемый шум перекатывания. Свежесть
пронизывала, холод бессонницы, холод железной дороги; я задрожал и защелкал
зубами. Ментус, услышав шум Млодзяков за окном, сказал:
— Что там? Массируют
кого?
Я не ответил, а он,
увидя чемоданчик у меня в руках, спросил:
— Удираешь?
Я опустил голову.
Знал, что он сцапает меня, что должен меня сцапать, поскольку мы были только
вдвоем и сами с собой. Но я не мог без повода отодвинуться от него. А он
придвинулся и взял меня за руку.
— Удираешь? Тогда и
я удеру. Пойдем вместе. Я изнасиловал служанку. Но это не то, это не то...
Парень, парень! Хочешь — удерем в деревню. В деревню пойдем. Там парни! В деревне!
Пойдем вместе, хочешь? К парню, Юзя, к парню, к парню! — самозабвенно повторял
он. Я держал голову недвижно, прямо и не смотрел на него. — Ментус, на что мне
твой парень? — Но когда я тронулся в путь, он пошел со мной, я пошел с ним — и
пошли мы вместе.
234
ГЛАВА XI
ПРЕДИСЛОВИЕ К ФИЛИБЕРТУ,
ПРИПРАВЛЕННОМУ РЕБЯЧЕСТВОМ
И снова
предисловие... и я обречен на предисловия, не могу без предисловия и принужден
к предисловию, ибо закон симметрии требует, чтобы «Филидору, приправленному
ребячеством», соответствовал «ребячеством приправленный Филиберт», а
предисловию к «Филидору» — предисловие к «Филиберту, приправленному
ребячеством». Даже если бы я захотел, не могу, не могу и не могу преступить
железных законов симметрии, а также аналогии. Но самое время прекратить,
перестать, высунуться из зелени хотя бы на миг и трезво осмотреться окрест
из-под бремени миллиарда ростков, почек, листиков, дабы не сказали, что я
обезумел в доску, в доску и никаких гвоздей. И прежде чем я двинусь вперед
дорогой посредственных, опосредствованных, недочеловеческих ужасов, я обязан
объяснить, прояснить, обосновать, истолковать и упорядочить, вылущить основную
мысль, из которой выводятся все остальные мысли книги этой, и указать на
прамуку всех мук, тут обрисованных и прорисованных. И я обязан установить
иерархию мук, а также иерархию мыслей, прокомментировать сочинение
аналитически, синтетически и философически, дабы читающий знал, где голова, где
ноги, где нос, а где пятка, чтобы не упрекнули меня, будто я не сознаю
собственных целей и
235
не шествую прямо,
непоколебимо, не отклоняясь, как величайшие писатели всех времен, а только
бессмысленно бегу по чьим-то пятам. Но какая же мука главная и фундаментальная?
Где прамука книги? Где ты, мук праматерь? Чем дольше я вникаю, исследую и
усваиваю, тем отчетливее вижу, что, в сущности, главная, принципиальная мука,
как мне представляется, это просто мука плохой формы, плохого экстерьера, или,
говоря иначе, мука фразы, гримасы, мины, рожи — да, вот источник, ключ, родник,
и отсюда главное свое начало берут все без исключения другие страдания,
неистовства, терзания. Но, может, лучше было бы сказать, что главная,
основополагающая мука — это не что иное, как только страдание, порождаемое
рамками, в которые загоняет нас другой человек, страдание, проистекающее из
того, что мы задыхаемся и захлебываемся в тесном, узком, жестком воображении о
нас другого человека. А может, в основании книги лежит капитальная и
убийственная мука
недочеловеческой
зелени, росточков, почечек, листиков
или мука развития и
недоразвитости а может, страдание недовылепленности, недоформирования
или мука сотворения
нашего «я» другими людьми мука физического и духовного насилия мучение
нарастающей межчеловеческой напряженности
раскосая и не до
конца выясненная мука духовного перелома
побочные терзания
вывихивания, изгиба, духовного промаха
беспрерывная мука
измены, мука фальши автоматическая мука механизма и автоматизма симметричная
мука аналогии и аналогичная мука симметрии
236
аналитическая мука
синтеза и синтетическая мука анализа
а может, мучение
частей тела и нарушения иерархии отдельных членов
страдание мягкого
инфантилизма
попочки, педагогики,
школярства и школы
невинности и
неутешенной наивности
удаления от
действительности
химер, призрака,
мечтаний, фикции, вздора
высшего идеализма
идеализма низшего,
неприглядного и потаенного
второразрядного
мечтательства
а может, престранная
мука мелочности, умаления
мука кандидатства
мука соискательства
мука стажерства
а может, попросту
мука подтягивания и напряжения сверх силы и вытекающая отсюда мука всеобщей и
частной несостоятельности
терзание зазнайства
и подзадоривания
страдание унижения
мука высшей и низшей
поэзии
или глухое мучение
душевного тупика
превратная мука
изворотливости, увертливости и недозволенного приема
или, скорее, мучение
возраста в частном и общем смысле
мука старомодности
мука современности
страдание,
вызываемое возникновением новых социальных слоев
мука
полуинтеллигентов
мука неинтеллигентов
мука интеллигентов
а может, просто мука
мелкоинтеллигентской непристойности
237
боль глупости
мудрости
уродства
красоты, очарования,
прелести
или, может, мучение
убийственной логики и последовательности в глупости
терзание декламации
отчаяние подражания
скучное мучение
скуки и талдыченья без начала и конца
или, быть может,
гиперманиакальная мука гиперманиакальная
невысказанная мука
невысказанности
скорбь невозвышения
боль пальца
ногтя
зуба
уха
мучение
отвратительной равностепенности, зависимости, взаимопроникновения,
взаимозависимости всех мук и всех частей, а также мука ста пятидесяти шести
тысяч трехсот двадцати четырех с половиной других мук, не считая женщин и
детей, как сказал бы один старый французский автор XVI столетия.
Из какого же мучения
сделать основополагающее прамучение и какую часть принять за целое, за что ухватить
книгу и что выхватить из вышеозначенных мук и частей? Проклятые части, неужели
я никогда так и не вырвусь из вас, о, какое богатство частей и какое богатство
мук! Где же изначальная праматерь, и принять ли за основу муку физическую или
метафизическую, социологическую или психологическую? А однако, я обязан, обязан
и не могу не, ибо мир готов признать, что я не осознаю целей и выбиваюсь из
сил. Но в таком случае, может, было бы разумнее разработать и выпятить словами
само происхождение сочинения и не на нача-
238
лах мук, но перед их лицом и
из-за них, касательно их и по отношению к ним, что возникло оно:
по отношению к
педагогам и ученикам школ
перед лицом
глуповатых умников
касательно особ
углубленных и возвышенных
относительно ведущих
героев современной национальной литературы, а также наиболее законченных,
сконструированных и бескомпромиссных представителей критики
перед лицом
гимназисток
по отношению к
зрелым и светским людям
в зависимости от
щеголей, франтов, нарциссов, эстетов, прекраснодушных идеалистов и завсегдатаев
касательно
умудренных житейски
в рабстве культурных
тетушек
по отношению к
горожанам
перед лицом сельских
жителей
по отношению к
мелким докторам в провинции, узколобым инженерам и чиновникам
по отношению к
высшим чиновникам, врачам и адвокатам с более широким кругозором
в отношении к
потомственной и иной аристократии
перед лицом толпы.
Быть может, однако,
сочинение зачалось в муке общения с конкретной особой, как, например, с
необыкновенно отталкивающим господином ХУ, с господином Z, которого я ни в
грош не ставлю, и NN, который мучит и изводит меня скукой,— о, страшные
муки общения с ними! И быть может, причина и цель этой книги — всего лишь
желание выказать этим господам пренебрежение, разозлить их, разъярить и
улизнуть от них. В таком случае причина была бы конкретная, специфичная и
частная, личная.
А может, сочинение
родилось из подражания шедеврам?
Из неумения создать
нормальное произведение?
239
Из снов?
Из комплексов?
А может, из
воспоминаний детства?
А может, я начал, и
оно как-то так само написалось?
Из психоза страха?
Из психоза
настырности?
Может, из шарика?
Из щепотки?
Из части?
Из частицы?
Из пальца?
Следовало бы также
установить, объявить и определить, есть ли данное сочинение, роман,
воспоминание, пародия, памфлет, вариации на темы, подсказанные фантазией,
негодование — и что в нем перевешивает: шутка, ирония или же более глубокий
смысл, сарказм, милая издевка, инвектива, чушь, pur nonsens*, pur бахвализм, и,
далее, не было ли это, однако, позой, притворством, хохмой, искусственностью,
недостатком иронии, анемией чувства, атрофией воображения, подрывом порядка и
губительством ума. Но сумма этих возможностей, мук, дефиниций и частей так
необъятна и непонятна, а также неисчерпаема, что с глубочайшей ответственностью
за слово и после тщательнейшего размышления необходимо сказать, что ничего
неизвестно, цып, цып, курочка; а потому тех, кто хотел бы вникнуть еще глубже и
понять лучше, приглашаю к «Филиберту, приправленному ребячеством», ибо в
дешевую его символику я заключил ответ на все волнующие вопросы. Ибо
«Филиберт», выстроенный строго и по аналогии с «Филидором», таит в своей
удивительной сочлененности конечный тайный смысл сочинения. По выявлении коего
ничто уже не помешает погрузиться немного глубже в чащобу отдельных, монотонных
частей.
_______________
* Сущая чепуха, нелепость (франц.).
240
ГЛАВА XII
ФИЛИБЕРТ, ПРИПРАВЛЕННЫЙ РЕБЯЧЕСТВОМ
У некоего мужика из Парижа в конце восемнадцатого столетия был ребенок, у того ребенка тоже был ребенок, а у этого ребенка опять же был ребенок, и был ребенок опять; а последний ребенок, будучи чемпионом мира по теннису, состязался на представительном корте парижского Рейсинг-клуба, в атмосфере огромного возбуждения и под неумолкавший, стихийный гром рукоплесканий. Однако же (как ужасно непостоянна жизнь!) некий полковник зуавов из публики, сидевший на боковой трибуне, вдруг воспылал завистью к безошибочной и увлекательной игре обоих чемпионов и, пожелав также продемонстрировать, что он умеет, перед лицом шести тысяч зрителей (тем более что рядом с ним сидела его невеста) неожиданно пальнул из револьвера по мячику влет. Мячик лопнул и упал, а чемпионы, внезапно лишенные объекта, продолжали еще какое-то время махать ракетками впустую, но, видя никчемность своих движений без мячика, накинулись друг на друга. Гром аплодисментов раздался среди зрителей.
И на этом, наверное,
дело бы кончилось. Но случилось и такое дополнительное обстоятельство, что
полковник в возбуждении позабыл или же не принял во внимание (как многое надо
принимать во внимание!) зрителей, сидевших по противоположную сторону площадки
на так называемой южной трибуне.
241
Ему казалось,
неизвестно почему, что пуля, пробив мячик, должна была закончить свое
существование; тем временем, к сожалению, продолжая свой полет, она угодила в
шею некоего предпринимателя-судовладельца. Кровь брызнула из пробитой артерии.
Жена раненого, поддавшись первому чувству, хотела было броситься на полковника,
вырвать у него револьвер, но поскольку не могла (ибо была заточена в толпе),
просто-напросто дала в морду соседу справа. А дала, поскольку иным образом не
могла выразить своего возмущения и поскольку в самых глухих уголках души,
ведомая логикой чисто женской, она полагала, что как женщине ей можно, ибо кто
может ей что-нибудь сделать? Выяснилось, однако, что рассчитала она не очень
(как неустанно следует все принимать во внимание в своих расчетах), ибо это был
скрытый эпилептик, у которого под воздействием психического потрясения,
вызванного пощечиной, начался припадок, и он стал извергаться, словно гейзер, в
судорогах и конвульсиях. Несчастная оказалась между двумя мужчинами, один из
которых источал кровь, а другой — пену. Гром аплодисментов раздался среди
зрителей.
И тогда какой-то
господин, сидевший рядом, обезумев от страха, вскочил на голову даме, сидевшей
ниже, а та рванула с места, выбежала на площадку, таща его на себе полным
ходом. Гром аплодисментов раздался среди зрителей. И на этом наверняка дело бы
кончилось. Но случилось еще такое обстоятельство (как же все всегда нужно
предвидеть!), что неподалеку сидел один скромный пенсионер, мечтатель в душе,
отставник из Тулузы, который с незапамятных времен на всех публичных зрелищах
мечтал вспрыгнуть на голову лицам, сидевшим ниже, и лишь изо всех сил от этого
прежде себя удерживал.
242
Зараженный примером,
он моментально вскочил на даму, сидевшую ниже, которая (а была это мелкая
служащая, только что прибывшая из Танжера в Африке), полагая, что так принято,
что так именно и нужно, что это в столичном стиле, — тоже рванула с места,
причем старалась не выказывать никакой сдержанности в движениях.
И тогда более
культурная часть публики принялась тактично рукоплескать, дабы приглушить
скандал перед лицом представителей иностранных миссий и посольств, во множестве
прибывших на матч. Но тут произошло недоразумение, ибо менее культурная часть
истолковала рукоплескания как свидетельство одобрения — и тоже оседлала своих
дам. Чужеземцы выказывали все более сильное удивление. Что же в таком положении
оставалось более культурной части общества? Для отвода глаз она тоже оседлала
своих дам.
И на этом все бы,
наверное, кончилось. Но тут некий маркиз де Филиберт, сидевший в нижней ложе с
женой и родственниками жены, вдруг почувствовал себя джентльменом и вышел на
середину площадки в летнем, светлом костюме, бледный, но решительный — и
холодно вопросил, неужели кто-нибудь, и кто именно, вознамерился оскорбить
маркизу де Филиберт, его жену? И бросил в толпу горсть визитных карточек с
надписью: Филипп Эртель де Филиберт. (Как мы должны быть безумно осторожны! Как
трудна и коварна жизнь, как непредсказуема!) Воцарилась мертвая тишина.
И тут же шагом,
неспешно, сидя без седла, на породистых, тонколодыжных, элегантных и нарядных
дамах съехалось к маркизе де Филиберт не менее тридцати шести господ, дабы ее
оскорбить и почувствовать себя джентльменами, раз уж муж ее —
243
маркиз — почувствовал себя
джентльменом. Она же со страху выкинула — и писк ребенка раздался у ног маркиза
под копытами все на своем пути давящих женщин. Маркиз, столь неожиданно
приправленный ребенком, оснащенный и дополненный ребенком в момент, когда он
выступал в одиночестве и как взрослый джентльмен сам по себе, — маркиз
устыдился и пошел домой, тогда как гром аплодисментов раздался среди зрителей.
ГЛАВА XIII
ПАРЕНЬ, ИЛИ НОВАЯ ПОИМКА
Итак, идем мы с
Ментусом на поиски паренька. Исчезла за поворотом вилла с переливающимися
остатками Млодзяков, перед нами — длинная полоса улицы Фильтровой, блестящая
лента. Солнце взошло, желтоватый шар, завтракаем в аптечной лавке, город
просыпается, уже восемь часов, мы отправляемся дальше, я с чемоданчиком в
руках, а Ментус с дорожным посохом. Птички чирикают на деревьях. Дальше,
дальше! Ментус ступает бодро, влекомый в будущее надеждой, надежда передается и
мне, невольнику его! — В пригород, в пригород, — повторяет он, — там мы найдем
отличного парня, там мы его найдем! — Светлыми и мягкими красками рисовал утро
парень, приятно и весело идти по городу за парнем! Кем я буду? Что со мной
делают? Какие сложатся обстоятельства? Ничего я не знаю, бодро ступаю за
господином моим Ментусом, не могу ни терзаться, ни печалиться, ибо мне весело!
Ворота домов, довольно редких в этой местности, воняют дворниками и их
семействами. Ментус во всякие заглядывает, как же, однако, далеко дворнику до
парня, разве дворник не то же, что мужик в цветочном горшке? Кое-где попадаются
сторожа, но ни один из них не был Ментусу по вкусу, ибо сторож — всего
245
лишь парень в клетке, парень
в лестничной клетке, разве не так? — Нет тут ветра, — заявляет он, — в
подворотнях только сквозняки, а я не признаю парня на сквозняке, для меня
настоящий парень только на сильном ветре.
Нам встречаются
няньки и бонны, которые в визжащих колясочках везут на прогулку младенцев.
Донашивая туалеты хозяек, на кривых каблуках, они соблазнительно косят по
сторонам. Во рту два золотых зуба, с чужим ребенком и в обносках, а в голове
только ветер. Мы встречаем директоров, чиновников с папками под мышкой,
спешащих к своим повседневным занятиям, и все из папье-маше, служебное и
славянское, с манжетами, с запонками, словно это брелочки их «я», собственные
их цепочки от часов, супруги жен и работодатели бонн. Над ними великое Небо. Во
множестве встречаются нам дамочки в пальтишках с варшавским шиком, одни тощие и
проворные, другие неторопливые и помягче, они всажены в собственные шляпки и
так похожи друг на друга, что одна другую догоняет и обгоняет. Ментус не
изволил смотреть, а мне страшно наскучило, я даже зевать начал. — На периферию,
— воскликнул он, — там мы найдем парня, здесь искать нечего, дешево это, по
десяти грошей штука, коровы и кони интеллигенции, адвокаты с боннами и мужья,
похожие на извозчичьих кляч. Холера, черт, зараза, коровы и мулы! Посмотри,
какое все ученое — и какое глупое! Какие, сволочь, расфранченные — а какие
вульгарные! Попочка, попочка, сучье вымя! — В конце Вавельской мы увидели
несколько общественных зданий, построенных с размахом, могущественным видом
которых насыщались в час первого завтрака широкие массы оголодавших и
истощенных налогоплательщиков.
246
Здания напомнили нам
школу, и мы прибавили шагу. На площади Нарутовича, где стоит студенческое
общежитие, мы встретили братьев-студентов в обтрепанных брюках, невыспавшихся и
нестриженых, спешащих на лекции или поджидающих трамвай. Все с носами,
воткнутыми в тетради, все поглощали яйца вкрутую, скорлупу прятали в карманы,
вдыхая столичную пыль. — Дрянцо, разве это парни! — закричал Ментус. — Все эти
крестьянские сыночки, обучающиеся на интеллигентов! К черту бывших парней!
Ненавижу бывших парней! Еще нос пальцами утирает, а уж по тетрадкам учится! Книжная
мудрость в мужике! Адвокат и врач из мужика! Ты только посмотри, как у них
башка пухнет от латинских терминов, как у них пальчища торчат! Ужас, —
возмущался Ментус, — это так же кошмарно, как если бы они пошли в монахи! Ах,
сколько бы нашлось среди них прекрасных и добрых парней, да что тут —
переодетые, измордованные, забитые! В предместье, в предместье, там ветра
больше, воздуха! — Мы свернули на Груецкую, грязь, пыль, шум и духота,
кончаются большие дома, начинаются маленькие, и фантастические повозки со всем
еврейским скарбом, повозки с овощами, с пером, с молоком, с капустой, с зерном,
с сеном, металлоломом, с мусором наполняют улицу грохотом, стуком и лязгом. На
каждой повозке мужик или еврей — городской мужик и деревенский еврей —
неизвестно, что лучше. Все глубже и все основательнее погружаемся мы во
второразрядную сферу, в незрелый пригород города, и все больше испорченных
зубов, ваты в ушах, обернутых тряпкой пальцев, волос, смазанных жиром, икоты,
угрей, капусты и тухлятины. Пеленки сушатся в окнах. Радио болтает без умолку,
полным ходом идет
247
просветительская акция, и
многочисленные Пимки неестественно наивным и теплым, а то и
грубовато-фамильярным, веселым тоном гранят души владельцам аптек, талдыча об
обязанностях и уча любить Костюшку. Хозяева бакалейных лавок наслаждаются в
дешевой газетке описанием жизни высших сфер, а их жены, почесывая спины,
переживают вчерашний вечер с Марлен Дитрих. Кипит педагогическая акция, и
множество делегаток вьется в гуще народа, уча и обучая, влияя и развивая,
пробуждая и социально воспитывая с минами ad hoc* примитивными. Вот
там группа организованных жен трамвайщиков танцует коло, с улыбкой поют они и
созидают радость жизни под руководством делегированного с этой целью,
специально радующегося интеллигента-весельчака, тут извозчики хором тянут
религиозную песнь, создавая поразительную невинность, еще в ином месте первые
под руку попавшиеся деревенские девки обучаются открывать красоту в закате
солнца. И десятки острословов, доктринеров, демагогов и агитаторов
прорабатывают и отрабатывают, сея свои концепции, взгляды, доктрины, идеи, и
все нарочито упрощенное и приспособленное для малышей. — Рожа, рожа, — сказал
Ментус со свойственной ему вульгарностью. — Совсем как у нас в школе!
Неудивительно, что болезни их сушат, нищета душит, такую шваль трудно не душить
и не кусать. Какой черт их так оболванил — убежден, если бы они не были так
нарочно кем-то оболванены, они не могли бы плодить столько гадости, мерзости и
грязи, почему из них все это так лезет, почему из мужика не лезет, хоть мужик
никогда и не моется? Кто, спрашиваю, превратил в фабрику этот добрый и благо-
_______________
* Здесь: кстати (лат.).
248
родный пролетариат? Кто
научил его этой грязи и этим гримасам? Содом и Гоморра — тут мы парня не найдем.
Еще дальше, еще дальше. "Когда же подует ветер? — Но ветра нет, стагнация,
люди плавают в людях, как рыбы в пруду, смрад бьет в небеса, а парня все нет и
нет. Худеют одинокие швеи, толстеют всегда готовые к услугам парикмахеры в
дешевой роскоши, у мелких ремесленников бурчит в животе, безработные слуги на
коротеньких и толстых ножках изрыгают из себя нехорошие слова, неправильные
выражения и претенциозные интонации, аптекарша, у которой бурчит в животе,
форсит манерами судомойки, судомойка тоже форсит на высоком тонком каблуке.
Ноги, в сущности говоря, босые, но, однако же, в башмаках, не свои ноги в
ботиночках и такие же головы со шляпой, деревенское и сельское туловище с
дамской и мужской галантностью. — Рожа, — сказал Ментус, — ничего искреннего,
ничего естественного. — Попался наконец один, вовсе неплохой, подмастерье,
блондин симпатичный и хорошо сложенный, к сожалению, классово сознательный и
исторгающий из себя интонации Маркса. — Рожа, — сказал Ментус, — тоже мне
философ! — Еще один типичный оголец, с ножом в зубах, прохвост из пригорода,
показался было долгожданным парнем, к сожалению он носил котелок. Другой,
которого мы подцепили на углу, всем был хорош, да вот употребил в разговоре
выражение «в то время как». — Рожа, — прошептал Ментус зло. — Это не то.
Вперед, вперед, — лихорадочно повторял он. — Все это халтура. Совсем как в
нашей школе. Пригород учится у города. К чертушкиной мамочке, низшие классы
действительно всего только классы общеобразовательной школочки. Это ученики
приготовительного класса и
249
потому, наверное, —
сопливые. Леший всех раздери, неужели мы никогда не удерем из школы? Рожа, рожа
и рожа! Вперед, вперед! — Мы продвигались все дальше и дальше, маленькие
деревянные домики, матери ищут у дочек, дочки — у матерей, дети купаются в
канавках, работяги возвращаются с работы, повсюду гремит одно великое слово,
уже вся улица забита им доверху, оно уже преображается в истинный гимн
пролетариату, вызванивает вызовом и спесью, со страстью бросаемое в
пространство, оно дозволяет хотя бы иллюзию силы и жизни. — Ишь ты! — удивился
Ментус. — Тоже для поднятия духа, совсем как мы в школе. Не очень это поможет
против попочки, которую этим чумазым соплякам пристроили — великую и
классическую. Ужасно, что нет сегодня никого, кто бы не переживал периода
возмужания. Вперед — здесь нет парня! — И не успел он еще договорить этих слов,
как легкий порыв ветерка скользнул по щекам нашим, кончились дома, улицы,
канавы, стоки, парикмахеры, окна, работяги, жены, матери и дочери, паразиты,
капуста, вонь, теснота, пыль, хозяева, подмастерья, ботиночки, блузы, шляпы,
каблуки, трамваи, магазины, зелень, огольцы, вывески, угри, предметы, взгляды,
волосы, брови, губы, тротуары, животы, инструменты, органы, икота, коленки,
локти, стекла, покрикивание, шмыганье, плеванье, харканье, разговоры, дети и
стук. Город кончился. Перед нами — поля и леса. Шоссе. Ментус запел:
Гей, гей, гей, зеленый лес
Гей, гей, гей, зеленый лес!
— Возьми палку в
руку. Обломай ветку. Там мы найдем парня — на полях! Я его уже вижу глазами своего воображения. Ничего парень!
250
Я запел:
Гей, гей, гей, зеленый лес
Гей, гей, гей, зеленый лес!
Но не мог сделать ни шагу. Песня замерла у меня на губах. Пространство. На горизонте — корова. Земля. Вдали проплывает гусь. Огромное небо. В дымке синий горизонт. Я остановился на краю города и почувствовал, что не могу без стада, без продуктов, без человеческого среди людей. Я схватил Ментуса за руку. — Ментус, не ходи туда, вернемся, Ментус, не выходи из города. — Среди чужих кустов и трав я трясся, как лист на ветру, освобожденный от людей, а деформации, ими мне причиненные, без них казались вздорными и ничем не подтвержденными. Ментус тоже заколебался, но перспектива парня превозмогла в нем страх. — Вперед! — крикнул он, размахивая палкой. — Я один не пойду! Ты должен идти со мной! Идем, идем! — Налетел ветер, деревья зашатались, зашелестели листья, один в особенности меня поразил, на самой вершине дерева, беспардонно выставленный в пространстве. Птица взвилась ввысь. Из города вырвалась собака и понеслась по черным полям. Но Ментус храбро двинулся тропкой вдоль шоссе — я за ним, будто лодка, выплывал в открытое море. Уже исчезает берег, исчезают трубы, башни, мы одни. Тишина такая, что чуть ли не слышны холодные и скользкие камни, которые торчат из земли. Я иду и не знаю уже ничего, в ушах моих ветер шумит, ритм ходьбы меня раскачивает... Природа. Я не хочу природы, природа для меня — это люди, Ментус, возвратимся, давку в кинематографе я предпочитаю озону полей. Кто сказал, что перед лицом природы человек становится маленьким? Напротив, я увеличиваюсь и расту, я нежнею,
251
меня словно подали
обнаженного на блюде огромных полей природы во всей моей человеческой
неестественности, о, куда девался мой лес, моя чаща глаз и ртов, взглядов, лиц,
улыбок и гримас? Приближается иной лес — тихих, зеленых хвойных деревьев, под
которыми проносится заяц и лисица крадется. А тут как назло ни одной
деревеньки, дорога по полям и лесам. Не знаю, сколько часов мы вышагивали по
полям, неуклюже, скованно, как по канату, — ничего другого нам и не оставалось,
ибо стоять еще мучительнее, а сесть или лечь на землю влажную и холодную
нельзя. Мы, правда, миновали несколько деревенек, но они будто вымерли — избы,
забитые досками, пялились пустыми глазницами. Движение на шоссе совсем
прекратилось. Долго ли нам еще идти безлюдьем?
— Что это значит? —
проговорил Ментус. — Мор на крестьян напал? Повымерли? Если и дальше так, не
найдем парня.
Наконец наткнувшись
на еще одну покинутую деревню, мы стали стучать в избы. В ответ яростный лай,
словно свора бешеных собак, начиная с огромных цепных псов и кончая маленькими
дворняжками, точили на нас зубы. — Что такое? — заговорил Ментус. — Откуда
столько собак? Почему нет мужиков? Ущипни меня, я, кажется, сплю... — Слова эти
не успели еще раствориться в чистом воздухе, как из ближайшей картофельной ямы
вылезла мужицкая голова и тотчас же опять пропала, когда же мы подошли поближе,
из ямы послышался злобный лай. — Чертушка, — сказал Ментус. — Опять собака? Где
мужик? — Мы обошли яму со всех сторон (а тем временем из изб доносился
форменный вой) и выкурили мужика и бабу с четырьмя близнецами, которых она
кормила одной высохшей
252
грудью (ибо другая давно уже
никуда не годилась), тявкавшими отчаянно и остервенело. Они бросились наутек,
но Ментус подскочил и схватил мужика. Тот был такой изнуренный и тощий, что
упал на землю и застонал: — Барчук, барчук, дык сжальтясь, дык отпуститя, дык
не троньтя! — Эй, человек, — сказал Ментус, — о чем это вы? Почему вы от нас
прячетесь? — При звуке слова «человек» лай в избах и за плетнями возобновился с
удвоенной силой, а мужичонка стал белее платка. — И сжальтися, господин, дык не
человек я, отпуститя! — Гражданин, — сказал тогда Ментус миролюбиво, — вы что,
ошалели? Почему вы лаете, вы и ваша жена? У нас наилучшие намерения. — При
слове «гражданин» лай раздался с утроенной силой, а баба залилась слезами. —
Дык пожалейтя, господин, не гражданин он! Какой с него гражданин! Ох, батюшки
мои, батюшки светы, ой доля наша, доля несчастная! Опять на нас Намерению наслали,
о, цто бы это! — Друг, — сказал Ментус, — о чем речь? Мы не хотим причинить вам
зла. Мы хотим вам добра. — Друг! — закричал потрясенный селянин. — Добра хоцет!
— заорала селянка. — Дык мы не люди, дык мы собаки, собаки мы! Гав! Гав! —
Вдруг ребенок у груди тявкнул, а баба, уверившись, что нас только двое,
зарычала и укусила меня в живот. Я вырвал живот свой у бабы изо рта! Но из-за
плетней уже вся деревня выскочила, лая и рыча: — Беритя яво, кум! Не бойся!
Грызитя! Ату! Ату! Фас яво! Беритя Намерению! Беритя Интеллигенцию! Ату, ату,
кусь, кошка, кошка! Ксс... кс... — Так, натравливая и науськивая, они медленно
приближались — хуже того, для отвода глаз, а может для приманки, они вели на
поводках настоящих собак, которые рвались, прыгали, роняли из пасти слюну,
253
яростно лаяли. Положение
становилось критическим, причем больше в психологическом, чем в физическом
отношении. Шесть часов пополудни, темнеет, солнце за тучами, начинает моросить
— а мы в незнакомой местности, под мелким холодным дождичком в окружении
огромного числа крестьян, изображающих собственных собак, дабы увильнуть от
всеохватывающей активности представителей городской интеллигенции. Дети их уж
совершенно не умели говорить и тявкали на четвереньках, а родители их еще и
подбадривали: — Цявкай, цявкай, сыноцек, Буроцек, тоды в покою оставють,
цявкай, цявкай, сыноцек, Буроцек. — Впервые видел я тогда целое село
человеческое, поспешно преображающееся в собаку в силу закона мимикрии и со
страху перед очеловечиванием, слишком интенсивно проводимым. Но защита
невозможна, ибо, если известно, как защититься от собаки и мужика по
отдельности, то неизвестно, что делать с мужиками и бабами, которые рычат,
воют, лают и хотят кусаться. Ментус выпускает палку из руки. Я тупо смотрю
прямо перед собой на ослизлую таинственную мураву, где я вот-вот испущу дух в
неестественных обстоятельствах. Прощайте, части моего тела. Прощай, моя рожа, и
ты прощай, прирученная моя попочка!
И мы наверняка были
бы, пожалуй, на том именно месте сожраны неведомым способом, но тут вдруг все
меняется, трубит клаксон автомобиля, автомобиль въезжает в толпу,
останавливается, и моя тетка, Гурлецкая, урожденная Лин, восклицает, завидя
меня:
— Юзя, а ты что тут
делаешь, малыш?
Не отдавая себе
отчета в опасности, ничего не замечая вокруг, как это с теткой всегда бывает,
она
254
выходит, укутанная в шаль,
бросается, вытянувши руки, поцеловать меня. Тетя! Тетя! Куда спрятаться! Я уж
предпочел бы быть сожранным, чем пойманным на большой дороге теткой. Эта тетя
знала меня с детства, она хранила в себе память о моих детских штанишках! Она
видела меня, когда я в колыбельке сучил ножками. Но вот она подбегает, целует
меня в лоб, крестьяне перестают лаять и разражаются смехом, вся деревня
покатывается и ревет — видят, что никакой я не всесильный чиновник, а тетушкин
малыш! Мистификация раскрывается. Ментус снимает шапку, а тетя сует ему
тетушкину руку для поцелуя.
— Это твой товарищ,
Юзя? Очень приятно.
Ментус целует тете
ручку. Я целую тете руку. Тетя спрашивает, не холодно ли нам, куда мы идем,
откуда, зачем, когда, с кем, почему? Я отвечаю, что мы идем на прогулку.
— На прогулку?
Однако же, детки, кто вас отпустил из дому в такую сырость? Садитесь со мной,
поедем к нам в Болимов. Дядюшка обрадуется.
Протестовать без
толку. Тетя исключает протест. На большой дороге, под моросящим, накрапывающим
дождем, в начинающем куриться тумане — мы с тетей. Садимся в автомобиль. Шофер
нажимает на клаксон, автомобиль трогается, крестьяне ревут в кулак, автомобиль,
нанизанный на нитку телеграфных столбов, начинает мчать — мы едем. А тетя: —
Ну, что ж, Юзя, ты не радуешься, я твоя тетка двоюродная-двоюродная, моя мать
была двоюродной сестрой тетки тетки твоей мамы. Мама твоя покойница! Милая
Цеся! Сколько же лет я тебя не видела. После свадьбы Франи прошло четыре года.
Помнишь, как ты в песочке играл — помнишь песочек? Чего от вас хотели эти люди?
Ах, как я пе-
255
репугалась! Нынешний народ
очень сер. Всюду полно микробов, не пейте сырой воды, не берите в рот
неочищенных и непомытых горячей водой овощей. Пожалуйста, покройся этой шалью,
если не хочешь доставить мне неприятность, а твой приятель пусть возьмет другую
шаль, но, пожалуйста, нет, нет, не надо сердиться, я твоему приятелю в матери
гожусь. Мама дома уж наверняка беспокоится. — Шофер трубит. Автомобиль шумит,
ветер шумит, шумит тетя, проносятся мимо столбы и деревья, лачуги, городишки,
похожие на лужи, мелькают березняки, ольховники, пихтовые рощи, машина ходко
катит по ухабам, мы подпрыгиваем на сиденьях. А тетя: — Феликс, не так быстро,
не так быстро. Ты дядю Франю помнишь? Крыся выходит замуж. У Анульки коклюш.
Геню взяли в армию. Ты так исхудал, если у тебя зубы болят, у меня есть
аспирин. А как в школе — хорошо? У тебя должны быть способности к истории, ибо
у твоей матери-покойницы были поразительные способности к истории. От мамы ты
их унаследовал. Глаза голубые от мамы, нос отцовский, хотя подбородок как у
Пифчицких. А помнишь, как ты расплакался, когда у тебя отобрали огрызок, а ты
пальчик в ротик засунул и закричал: «Тя, тя, тя, тули, бьюшко, бьюшко, тут!»
(Проклятая тетка!) Постой, постой, сколько же это лет тому — двадцать, двадцать
восемь, да, тысяча девятьсот... конечно, я тогда ездила в Виши и купила зеленый
сундучок, да, да, тебе бы сегодня было тридцать... Тридцать... да, конечно, —
ровно тридцать. Деточка, накройся шалью, иначе не убережешься от сквозняка.
— Тридцать? —
спросил Ментус.
— Тридцать, —
сказала тетка. — Тридцать исполнилось на святых Петра и Павла! На четыре с
полови-
256
ной года моложе Терени, а
Тереня на шесть недель старше Зоси, дочери Альфреда. Генрик женился в феврале.
— Да что вы, он же
ходит в нашу школу, в шестом классе он!
— Ну, вот именно.
Генрик точно в феврале, это было за пять месяцев до моего отъезда в Ментону, и
сильные морозы стояли. Хеленка умерла в июне. Тридцать. Мама как раз вернулась
из Подолии. Тридцать. Ровно через два года после дифтерита у Болека. Бал в
Могильчанах — тридцать. Конфеток хотите? Юзя, хочешь конфетку? У тетушки всегда
есть конфетки — помнишь, как ты тянул ручонку и кричал:
«Контетка, тетя!
Контетка!» У меня всегда одни и те же конфетки, бери, бери, помогают от кашля,
накройся, деточка.
Трубит шофер.
Автомобиль мчит. Мчат столбы и деревья, хибары, куски изгородей, куски
нашинкованной земли, куски леса и полей, куски каких-то окрестностей. Равнина.
Семь часов. Темно. Шофер выпускает столбы электричества, тетка зажигает свет в
кабине и угощает меня конфетками детства. Ментус, пораженный, тоже сосет
конфетку, и тетка сосет с сумочкой в руке. Мы все сосем. Послушай, если мне
тридцать, значит, мне тридцать — неужели ты этого не понимаешь? Нет, она этого
не понимает. Она слишком добра. Слишком добросердечна. Это сама доброта. Я тону в тетиной доброте, сосу ее сладкую
конфетку, для нее — мне вечно два годика, а кстати, существую ли я для нее?
Меня нет, волосы дяди Эдварда, нос отца, глаза матери, подбородок от Пифчицких,
семейные части тела. Тетя тонет в семействе и укутывает меня шалью. На дорогу
выбегает теленок и останавливается, раскорячив ноги, шофер трубит, словно
архангел, но теле-
257
нок не желает уступить,
автомобиль тормозит, и шофер отпихивает теленка — мы мчим дальше, а тетя
рассказывает, как я писал пальцем на стекле буквы, когда мне было десять лет.
Она помнит то, чего не помню я, знает меня таким, каким я себя не знал никогда,
но она слишком добра, чтобы я ее убил, — Бог недаром утопил в доброте знание
теток о постыдных, смешных подробностях размытого детского прошлого. Мы мчим,
въезжаем в огромный бор, за стеклами в свете фар пролетают куски деревьев, в
памяти — куски прошлого, местность мрачна и зловеща. Как же мы далеко! Куда мы
заехали! Огромный кусок грубой, черной провинции, скользкой от дождя и
промокшей насквозь, окружает со всех сторон наш ящичек, в котором тетка
сюсюкает о моих пальцах, что я когда-то обрезал палец и у меня до сих пор
должен быть шрам, а Ментус с парнем в голове удивляется моему тридцатилетию.
Дождь разошелся вовсю. Автомобиль сворачивает на проселок, песчаные холмики и
ямки, еще поворот, и выскакивают собаки, злые, могучие цепные псы, прибегает
ночной сторож, отгоняет их — те рычат, лают и скулят, — на крыльцо вылетает
слуга, а за ним еще один слуга. Мы выходим.
Деревня. Ветер
терзает деревья и тучи. В ночи неясно проглядывают очертания большого дома,
который не кажется мне чужим — он мне знаком, — ибо когда-то я был тут, очень
давно. Тетя боится сырости, слуги берут ее на руки и несут в переднюю. За ними
шофер тащит чемоданы. Старый лакей с бакенбардами раздевает тетю. Горничная
раздевает меня. Ментуса раздевает мальчик-лакей. Нас обнюхивают маленькие собачонки.
Все это я знаю, хотя и не помню... я же тут родился и провел первые десять лет
жизни.
258
— Я привезла гостей, — закричала тетка. —
Котя, это сын Владислава; Зигмусь — это твой двоюродный брат! Зося! Юзя —
двоюродная твоя сестричка. Это Юзя, сын Хели покойницы. Юзя — это дядя Котя,
Котя — это Юзя.
Пожатья рук,
целованье щек, отирание частями тела, проявления радости и гостеприимства, нас
ведут в гостиную, усаживают в старые бидермейеры* и расспрашивают о здоровье,
как мы себя чувствуем, — в свою очередь и я спрашиваю о здоровье, начинается
разговор о болезнях, заарканивает нас и уже не отпускает. У тетки больное
сердце, у дяди Константина ревматизм, у Зоси недавно нашли малокровие, и она
склонна к простудам, миндалины слабые, но на радикальное лечение нет средств.
Зигмунт тоже страдает склонностью к простудам, а кроме того, у него случилась
ужасная история с ухом, продуло его в прошлом месяце, когда пришла осень с
ветрами и сыростью. Довольно — казалось бы, во вред здоровью тотчас же по
приезде выслушивать про разные болезни всего семейства, однако всякий раз, как
разговор начинал угасать: — Sophie, parle**, — шептала тетка, и Зося,
дабы поддержать разговор, в ущерб собственным прелестям, принималась за новую
болезнь. Ишиас, ревматизм, артрит, ломота в костях, подагра, катар и кашель,
ангина, грипп, рак и нервная сыпь, зубная боль, пломбирование, несварение,
общая слабость, печень, почки, Карлсбад, проф. Калитович и д-р Пистак. Пистаком
вроде бы все должно было и кончиться, но нет, тетка для поддержания разговора
встревает с доктором Вистаком, что у него лучше
_______________
* Массивные, удобные кресла. Стиль «бидермейер» (мебель, костюмы) возник в Германии и Австрии в первой половине XIX в.
** Говори, Софи (франц.).
259
слух, чем у Пистака, и опять
Вистак, Пистак, выстукивание, ушные болезни, болезни горла, болезни дыхательных
путей, порок сердца и насморк, консилиум, камни в желчном пузыре, хроническая
изжога и кровяные шарики. Я не мог
себе простить, что спросил о здоровье. Не мог же я, однако, не спросить о
здоровье. Особенно угнетена была всем этим Зося, и я видел, что ей горько
выворачивать наружу свою золотуху ради поддержания разговора, но и молчать с
новоприбывшими молодыми людьми было неприлично. Неужели это так было заведено,
неужели всегда так прихватывали каждого, кто приезжал в деревню, неужели в
деревне никогда и ни с кем не начинали разговора иначе, как с болезней? Это
было поражение сельских землевладельцев — извечно хорошие манеры вынуждали их
заводить знакомства с катаральной стороны, и потому, наверное, и выглядели они
так катарально и бледно в свете керосиновой лампы, с собачками на коленях.
Деревня! Деревня! Старая деревенская усадьба! Извечные законы и извечные
странные тайны! Как все это не похоже на городские улицы и толпу на Маршалковской!
Одна только тетка
добросердечно и совершенно добровольно, как рыба в воде, плавала в легком жару
и кровавом поносе дяди. Горничная, красная, в передничке, вошла и засветила
лампу. Ментусу, который отзывался скупо, понравилось обилие слуг и два слуцких
пояса*. В этом был ноблесс — но я не знал, помнит ли меня ребенком и дядюшка.
Они относились к нам немного как к детям, но также они относились и к себе,
унаследовав от предков
_______________
* Широкий узорчатый шелковый пояс, расшитый серебряной или золотой ниткой. С XVIII в. такие пояса делались в г. Слуцке (ныне на территории Белоруссии).
260
Kinderstube*. Всплыли смутные
воспоминания о каких-то играх под выщербленным столом, и замаячила в прошлом
бахрома старой софы, стоящей в углу. Грыз я ее, ел, заплетал в косичку — а
может, смачивал в кружке и смазывал — чем, когда? Или запихивал в нос? Тетка
сидела на диване в традициях старинной школы, прямая, выпятив грудь, несколько
откинув назад голову. Зося сидела сгорбленная и обессиленная разговором, со сплетенными
пальцами, Зигмунт, положив руки на подлокотники, рассматривал кончики ботинок,
а дядя, тормоша таксу, рассматривал осеннюю муху, которая пересекала огромный,
белый потолок. На дворе налетел вихрь, деревья перед домом зашелестели
остатками увядших листьев, заскрипели оконные рамы, в комнате почувствовалось
легкое движение воздуха — а меня охватило предчувствие совершенно новой и
гипертрофированной рожи. Собаки завыли. Когда завою я? Ибо, что завою, это уж
точно. Помещичьи нравы, какие-то странные и нереальные, чем-то выпестованные и
взлелеянные, окрепшие в непонятной пустоте, медлительность и деликатность,
привередливость, вежливость, благородство, гордость, нежность, утонченность,
чудачество, в зародыше содержащиеся в каждом их слове, — нагоняли на меня
недоверчивый страх. Но что угрожает больше всего — то ли поздняя осенняя
одинокая муха на потолке, тетка с детским прошлым, Ментус с парнем, болезни,
бахрома дивана, то ли все это вместе, сведенное воедино и спрессованное в
маленьком шиле? В предвидении неизбежной рожи я тихо сидел в своем старом,
семейном бидермейере, унаследованном от предков сувенире, а тетка — в своем,
для поддержания разговора она завела речь о
_______________
* Детская комната, хорошее воспитание (нем.).
261
сквозняках, дескать,
сквозняки в эту пору страшно опасны для костей. Зося, обыкновенная барышня,
каких по усадьбам тысячи, ничем от всех других барышень не отличающаяся, для
поддержания разговора над этим рассмеялась — и все рассмеялись светской,
любезной мистификацией смеха — и смеяться перестали... Для кого, кого ради они
смеялись?
Но дядя Константин,
который был худ, высок, дохловат, плешив, с тонким носом, с тонкими длинными
пальцами, с узенькими губами и нежными ноздрями, с очень изысканными манерами,
человек бывалый и тертый, отличающийся необычайной раскованностью поведения и
небрежной светской элегантностью, развалился в кресле, ноги в замшевых желтых
туфлях воздвиг на стол.
— Сквозняки, —
сказал он, — были. Но уже прошли.
Муха зажужжала.
— Котя, —
воскликнула тетка добросердечно, — перестань терзаться. — И дала ему конфетку.
Но он продолжал
терзаться и зевнул — раскрыл рот так широко, что я увидел пожелтевшие от табака
самые его задние зубы, — и он зевнул два раза, откровенно и с неподражаемой
бесцеремонностью.
— Тереперепумпум, —
пробормотал дядя, — раз на дворе пустился в пляску пес, он кошку этим насмешил
до слез!
Дядя достал
серебряный портсигар и постучал по нему пальцем, но портсигар вывалился у него
из рук на пол. Дядя его не поднял, только опять зевнул — на кого он так зевал?
Кому зевал? Семейство сопровождало эти акты молчанием и сидя в бидермейерах.
Вошел старый слуга Франтишек.
— Кушать подано, —
объявил он в сюртуке.
262
— Ужин, — сказала
тетя.
— Ужин, — сказала
Зося.
— Ужин, — сказал
Зигмунт.
— Портсигар, — изрек
дядя. Слуга поднял — и мы прошли в столовую в стиле Генриха IV, где на стенах —
старые портреты, в углу — шипящий самовар. Подали окорок в тесте и зеленый
горошек из банки. Разговор загрохотал снова. — Кидайсь! — изрек Константин,
накладывая себе немножечко горчицы и чуточку хрена (но против кого он
накладывал?). — Нет ничего лучше окорока в тесте, если его хорошо приготовить.
Хорошо приготовленный окорок можно достать только у Симона, только,
те-реперепумпум, у Симона! Выпьем. Рюмочку. — Тринкнем,— изрек Зигмунт, дядя
спросил: — А помнишь окорок, который подавали до войны на Эриваньской? — Окорок
плохо переваривается, — ответила тетя. — Зося, почему так мало, у тебя опять
нет аппетита? — Зося ответила, но ее никто не слушал, ибо было известно, что она
говорит, чтобы говорить. Константин ел довольно-таки шумно, хотя и изысканно,
утонченно, манипулируя пальцами над тарелкой, он брал ломтик окорока,
приправлял его горчицей или хреном и отправлял в ротовую полость — то посолит,
то поперчит, то гренку маслом намажет, а однажды даже выплюнул кусок, который
ему пришелся не по вкусу. Камердинер тотчас же вынес. Против кого он, однако,
выплевывал? И против кого мазал? Тетя ела добросердечно, довольно много, но
вяло. Зося в себя запихивала, Зигмунт потреблял мерзопакостно, а слуги
прислуживали на цыпочках. Вдруг Ментус замер с вилкой на полдороге ко рту и
весь напрягся, взгляд его потемнел, рожа стала пепельно-серой, рот приоткрылся,
и прекрасная мандолиновая
263
улыбка расцвела на жуткой
его роже. Улыбка приветствия и встречи, приветствуй меня, ты здесь, я здесь —
он оперся руками на стол, согнулся, верхняя губа приподнялась, словно он
собирался зарыдать; но он не зарыдал, только еще больше согнулся. Парня увидел!
Парень был в комнате! Лакейчик! Лакейчик был парнем! Я ничуть не сомневался —
лакейчик, который подавал к окороку горошек, был вожделенным парнем.
Парень! В возрасте
Ментуса, не старше восемнадцати, ни мал, ни высок, ни уродлив, ни красив —
волосы светлые, но блондином он не был. Он носился по комнате и прислуживал
босиком, с салфеткой, перекинутой через левую руку, без воротничка, в рубахе,
застегнутой кнопками, в обычной воскресной одежде деревенских парней. Рожа у
него была, но рожа его ничем не походила на ужасную рожу Ментуса, это не была
рожа созданная, это была рожа естественная, народная, грубо вытесанная и
обыкновенная. Не лицо, которое стало рожей, но рожа, которая так и не
удостоилась звания лица, — это была рожа как нога! Не достойный почетного лица,
так же как не достойный блондина и красивого — лакейчик был не достоин лакея!
Без перчаток и босой он менял господам тарелки, и никто этому не удивлялся —
мальчишка не достоин сюртука. Парень!.. Какое несчастье, зачем судьба подсунула
его нам именно здесь, в тетушкином доме? «Начинается, — подумал я и продолжал
жевать окорок, словно резину, — начинается...» И тут как раз для поддержания
разговора нас принялись уговаривать есть, и мне пришлось отведать компота из
груш — и опять же потчевали крендельками с чаем, и мне пришлось благодарить,
есть обваренные сливы, которые у меня в пищеводе колом вставали, а тетя для
продолжения разговора извинялась за скромное угощение.
264
— Тереперепумпум, —
развалившийся за столом дядя Константин, широко открыв рот, лениво забросил в
него сливу, которую взял двумя пальцами. — Ешьте! Ешьте! Закусывайте, дорогие!
— Он проглотил, почмокал губами и проговорил как бы с нарочито подчеркнутой
сытостью: — Завтра уволю шестерых батраков и не заплачу им, ибо нечем!
— Котя! —
добросердечно воскликнула тетя. Но он ответил:
— Сыру, пожалуйста.
Против кого он это
говорил? Слуги прислуживали на цыпочках.
Ментус загляделся, пил взором не искривленную народную рожу, почвенническую и
нежную, поглощая ее, словно это единственно стоящий в мире напиток. Под его
тяжелым, исступленным взглядом лакейчик и споткнулся, чуть было не вылив чай на
голову тети. Старый Франтишек влепил ему легкую оплеуху.
— Франтишек, —
добросердечно заметила тетя.
— Пусть смотрит! —
буркнул дядюшка и вытащил сигарету. Лакейчик подскочил с огнем. Дядюшка
выпустил из тонких губ клуб дыма, кузен Зигмунт тоже выпустил из тонких губ
клуб дыма, и мы перешли в гостиную, где каждый уселся в свой бесценный
бидермейер. Бесценность насыщала снизу страшным комфортом. За окнами отозвалось
воющее ненастье; кузен Зигмунт, несколько оживившись, предложил:
— Может, в бриджик?
Ментус, однако, не
умел — так что Зигмунт умолк и сидел. Зося начала что-то насчет того, что
осенью дождь часто идет, а тетя спросила меня про тетю Ядю. Разговор уже
завертелся — дядюшка положил ногу на ногу, задрал голову и смотрел в потолок,
по которому бестолково ползала осовевшая муха, — и зевал, пока-
265
зывая нам свое небо и ряд
пожелтевших от табака зубов. Зигмунт молча занимался раскачиванием ноги и
наблюдением за игрой света на кончике полуботинка, тетя и Зося сидели с руками
на коленях, крохотный пинчер сидел на столе и смотрел на ногу Зигмунта, а
Ментус сидел в тени, подперев голову рукой, жутко тихо. Тетя очнулась,
приказала слугам приготовить комнату для гостей, в постели — бутылки с горячей
водой и на сон грядущий тарелочку орехов с вареньем. Услышав это, дядя заметил
вскользь, что он чего-нибудь съел бы, и услужливая служба тотчас же принесла.
Мы ели, хотя и не очень-то могли, — но не есть мы не могли, поскольку еда уже
была на подносе, а также поскольку потчевали и уговаривали. А они не могли не
уговаривать, поскольку все было на столе. Ментус отказывался, решительно не
хотел варенья, и я догадывался почему — из-за парня, — однако же тетя
добросердечно наложила ему двойную порцию, а меня угостила конфетками из
маленькой сумочки. Сладко, чересчур сладко делается, не могу больше, чересчур
приторно, но с тарелочкой под носом я не могу, меня мутит, детство, тетя,
коротенькие штанишки, семья, муха, малышка пинчер, парень, Ментус, полный
желудок, душно, за окном ненастье, чрезмерность, пресыщение, слишком много,
страшное богатство, бидермейер насыщает снизу. Но я не могу встать и сказать
«спокойной ночи», нельзя как-то без вступления... наконец пробуем, но нас
упрашивают и удерживают. Против кого дядя Константин всаживает в скучающие и
сладкие уста свои еще одну клубничку? Тут Зося чихнула, и это позволило нам
уйти. Прощанье, кланянье, благодарение, цепляние частями тела. Горничная ведет
нас наверх по витой деревянной лестнице, которую я немного помню... За нами
слуга с вареньем и орехами на подносе. Душно и тепло. Варенье на мне
266
отыгрывается. На Ментусе
тоже отыгрывается. Деревенская усадьба...
Когда двери за
горничной закрылись, Ментус спросил:
— Видел?
Он сел и закрыл лицо
руками.
— Ты о лакейчике? —
ответил я нарочито равнодушно. И торопливо опустил штору — боялся освещенного
окна в темном пространстве парка.
— Я должен говорить
с ним. Спущусь! Или нет — позвони! Наверняка он назначен нам прислуживать.
Позвони два раза.
— Зачем это тебе? —
старался я его урезонить. — Помни, что тетя и дядя... Ментус, — закричал я, —
не звони, скажи сначала, что ты с ним хочешь делать?
Он нажал на кнопку
звонка.
— К черту! — буркнул
он. — Мало им варенья, так и тут наставили яблок и груш. Спрячь в шкаф. Выбрось
бутылки с горячей водой. Не хочу, чтобы он это видел...
Он был зол такой
злобой, под которой таился страх за судьбу, злобой самых интимных человеческих
проблем.
— Юзя, — прошептал
он весь дрожа, сердечно, искренне, — Юзя, ты видел, у него же есть рожа — не
принаряженная, у него рожа обыкновенная! Рожа без мины! Типичный парень,
лучшего я нигде не сыщу. Помоги мне! Сам я не справлюсь!
— Успокойся! Что ты
хочешь предпринять?
— Не знаю, не знаю.
Если подружусь... если удастся по... по... брататься с ним... — стыдливо
признался Ментус. — Побра...таться! Спло...титься! Я должен! Помоги мне!
Лакейчик вошел в
комнату.
— Слушаю, — сказал
он.
Стал у двери и ждал
приказаний, поэтому Ментус велел ему налить воды в таз. Тот налил и снова встал
—
267
Ментус, значит, велел ему
форточку открыть, а когда тот открыл и встал, велел полотенце на крюк повесить;
когда тот повесил, велел ему куртку на плечиках растянуть, — но приказания эти
страшно Ментуса мучали. Он приказывал, парень все безропотно исполнял — а
приказания все больше напоминали дурной сон, ох, приказывать своему парню,
вместо того чтобы с ним брататься, — приказывать с барской фанаберией и так всю
ночь господских фантазий напролет приказывать! Наконец, не зная уж, чего
приказать, из-за полного отсутствия приказов, он приказал вытащить из шкафа
спрятанные туда бутылки да яблоки и, сломленный, шепнул мне:
— Попробуй ты. Я не
могу.
Я не спеша снял
пиджак и сел на спинку кровати, ноги враскачку — это была более удобная
позиция, чтобы задирать парня. Спросил лениво, так, от нечего делать.
— Как тебя звать?
Валек, — ответил он,
и ясно было, что он не умаляет себя, что имя это ему по плечу — словно он и не
достоин был Валентия или фамилии. Ментуса бросило в дрожь.
— Давно тут служишь?
— А с месяц будет,
барин.
— А раньше где служил?
— Раньше-то я при
лошадях был, барин.
— Хорошо тебе тут?
— Хорошо, барин.
— Принеси нам теплой
воды.
— Слушаюсь, барин.
Когда он вышел, у
Ментуса слезы навернулись на глаза. Он заревел в три ручья. Капли катились
градом по измученному его лицу. — Ты слышал? Слышал? Валек! У него даже фамилии
нет! Как это все ему идет! Видел его рожу? Рожа без мины, рожа обыкновенная!
Юзя, ес-
268
ли он со мной не
по...братается, я не знаю, что сделаю! — Он взбеленился, стал упрекать меня за
то, что я приказал принести горячей воды, не мог простить себе, что, исчерпав
все приказания, велел вытащить из шкафа спрятанные туда бутылки с горячей
водой. — Он, верно, никогда не пользуется горячей водой, а что уж говорить о
воде в бутылках для подогрева постели. Он наверное вообще не моется. А не
грязный. Юзя, ты заметил, не моется, а не грязный — грязь на нем какая-то
безобидная, не противная! Гей, гей, а наша грязь, наша грязь... — В комнате для
гостей старой усадьбы страсть Ментуса выплеснулась с небывалой силой. Он утер слезы
— лакейчик возвращался с кувшинчиком. На сей раз, идя по следу моих вопросов,
начал Ментус.
— Сколько тебе лет?
— спросил он, глядя прямо перед собой.
— Ии... да нешто я
знаю, барин.
У Ментуса даже
дыхание перехватило. Не знает этого! Не знал своих лет! Воистину, божественный
парень, свободный от всяких смеха достойных приложений! Под предлогом мытья рук
Ментус приблизился к лакейчику и сказал, едва сдерживая дрожь:
— Тебе, наверное,
столько же, сколько и мне.
То уже не был
вопрос. Ментус оставлял лакейчику свободу ответа. Предстояло начаться братанию.
Лакейчик ответил:
— Слушаюсь.
После чего Ментус
вновь вернулся к неизбежным вопросам.
— Читать и писать
умеешь?
— Ии... откудова,
барин.
— Семья есть?
— Сестра у меня,
барин.
— А сестра что
делает?
— С коровами она,
барин.
269
Он стоял, а Ментус
егозил подле него — казалось, нет у него иного выбора, только вопросы и
приказы, приказы либо вопросы. И он снова сел и приказал:
— Сними мне ботинки.
Я тоже сел. Комната
была длинная и узкая, а наши, всех трех, движения в этой комнате не были
хороши. Дом, большой и мрачный, стоял в темном сыром парке. Ветер, видно,
поутих, и было хуже — на резком ветру было бы лучше. Ментус вытянул ногу,
парень встал на колени и склонил над его ногой свою рожу, тогда как рожа Ментуса
нависала над ним феодально, бледная и кошмарная, очерствевшая в приказах, не
ведающая уже, о чем спросить. Тогда спросил я:
— А в рожу от
помещика берешь?
Он вдруг весь
просветлел и воскликнул радостно, по-народному:
— Ой, брать-то в
рожу беру! Ой, брать-то беру!
Не успел он кончить,
как я вскочил, словно меня вытолкнула какая пружина, размахнулся и наотмашь
резанул его по левой половине рожи. Будто пистолетный выстрел прозвучал в
ночной тишине. Малый схватился за рожу, однако тут же руку отпустил и встал.
— Ну-ж ты, барин, и
бьешь! — прошептал он восхищенно и благоговейно.
— Вон! — заорал я.
Он ушел.
— Ничего лучше
придумать не мог! — Ментус был в отчаянии, — Я ему руку хотел подать! Хотел
своей рукой взять его за руку! Тогда и рожи наши сравнялись бы, и все
остальное. А ты рукой его по роже ударил! А я ногу протянул к его рукам!
Ботинок он мне расшнуровывал, — ныл Ментус, — ботинок! Зачем ты это сделал?
Я понятия не имел
зачем. Все так стремительно произошло, я крикнул «вон», ибо ударил, а ударил
за-
270
чем? В дверь постучали — и
кузен Зигмунт со свечой, в домашних туфлях и в брюках появился на пороге.
— Стрелял
кто-нибудь? — спросил он. — Мне показалось, я слышал выстрел из браунинга.
— Я заехал твоему
Валеку в рыло.
— Валеку дал в
морду?
— Он у меня стянул
сигарету.
Мне хотелось, чтобы
Зигмунт узнал от меня, в моей версии, а не завтра, от прислуги. Зигмунт
удивился слегка, но тут же гостеприимно рассмеялся.
— Отлично. Это его
отохотит! — Что — прямо так с ходу и врезал ему в пасть? — недоверчиво спросил
он. — Я засмеялся, а Ментус бросил на меня взгляд, которого мне не забыть,
взгляд человека, которого предали, и отправился, как я предполагал, в уборную.
Кузен проводил его глазами. — Друг твой, кажется, осуждает, а?— с легкой
иронией заметил он. — Рассердился на тебя? Типичный мещанин! — Мещанин! —
сказал я, ибо что же еще мне было сказать. — Мещанин, — сказал Зигмунт. — Такой
вот Валек, если ему двинешь в харю, будет тебя уважать, как своего господина!
Надо их знать! Они это любят! — Любят, — сказал я. — Любят, любят, ха-ха-ха!
Любят! — Я не узнавал кузена, который до того относился ко мне скорее холодно,
от апатии его не осталось и следа, глаза заблестели, битье Валека по морде ему
понравилось, и я ему понравился; потомственный барин проглянул в вялом и
скучающем студенте, он будто втянул в ноздри запах леса и мужицкой толпы.
Поставил свечу на окно, сел в ногах постели с сигаретой в зубах. — Любят, —
сказал он. — Любят! Бить можно, надо только чаевые давать — без чаевых я битья
не признаю. Отец и дядя Северин в свое время в «Гранде» бивали по морде
швейцара. — А дя-
271
дя Евстахий, — сказал я, —
надавал по морде парикмахеру. — Никто лучше не бил по мордасам, чем бабушка
Эвелина, но это когда было. Вот недавно Хенричек Пац нажрался и разукрасил
вывеску контролеру. Знаешь Хенричека Паца — он малый без претензий. — Я
ответил, что знаю нескольких Пацев, все они необыкновенно естественные и без
претензий, а Хенричека до сих пор встречать мне не доводилось. А вот Бобик
Питвицкий в «Какаду» выбил стекло физией официанта. — Я только один раз заехал
в мурло билетеру, — сказал Зигмунт. — Знаешь Пиповских? Она дикая снобка, но
эстетична необычайно. Завтра можно бы пойти на куропаток. (Где Ментус? Куда он
пошел? Почему не возвращается?). — Но, судя по всему, кузен вовсе не собирался
уходить, отмеренная Валеку пощечина сблизила нас, как рюмка водки и болтовня с
сигаретой в зубах, что, мол, мордобой, куропатки, Пиповская, без претензий,
Татьянки и Коломбина, Хенричек и Тадик, надо жизнь знать, быть реалистом,
сельскохозяйственная школа и деньжата, когда кончу курс. Отвечал я примерно тем
же. А он на это опять то же самое. И я то же самое. Так, он снова о мордобое,
что надо знать, когда, с кем и за сколько, после чего я опять, что в ухо лучше,
чем по щеке. Но во всем этом что-то лживое, и я несколько раз пытаюсь ввернуть
в наш треп, что, дескать, вообще-то это не то, неправда, никто никого сегодня
не бьет, этого уже нет, а может, и никогда не было, легенда, барские фантазии.
Я, однако, не могу, слишком нам сладко болтается, барская фантазия уцепилась и
не отпускает, болтаем, как барчук с барчуком! — Порой бывает недурно заехать в
рожу! — В морду заехать — очень полезно! — Нет ничего лучше, чем двинуть в харю
272
какому-нибудь типу! — Ну,
мне пора, — сказал наконец Зигмунт. — Засиделся... Будем видеться в Варшаве. Я
тебя познакомлю с Хенричеком Пацем. Подумать только, скоро уже двенадцать. Друг
твой что-то засиделся... захворал, наверное. Спокойной ночи.
Он обнял меня.
— Спокойной ночи,
Юзек.
— Спокойной ночи,
Зигмусь, — ответил я.
Почему не
возвращается Ментус? Я отер со лба пот. С чего бы это разговор с кузеном? Я
выглянул в форточку, дождь перестал, больше чем на пятьдесят шагов ничего не
видно, только кое-где угадывал я в сгустках ночи очертания деревьев, но
очертания их, казалось, были еще темнее темноты и еще неопределеннее. За шторой
накрапывал сыростью мрак, насквозь пробитый пространством глухих полей,
затаившийся и неведомо какой. Не разгадав, каково же то, на что я смотрю,
смотря и ничего не видя, кроме формы, которая темнее ночи, я отступил в глубину
комнаты и захлопнул форточку. Зря все это. Зря я ударил парня. Зря был треп.
Воистину, здесь мордобой был, словно рюмка водки, он совершенно не похож на
демократические и сухие городские пощечины, Что же представляет собою, черт
возьми, морда слуги в старом дворянском доме? Это ужасно, что я выманил наружу
рожу лакейчика пощечиной, да еще оговорил его перед барчуком. Где Ментус?
Явился он около часа
ночи; не вошел сразу, сначала заглянул в приоткрытую дверь — не сплю ли я, —
проскользнул, как с ночной гулянки, и тут же прикрутил фитиль лампы. Раздевался
торопливо. Я заметил, когда он наклонился к лампе, что рожа его претерпела
новые гадкие изменения — с левой стороны налилась
273
и набухла, напоминала
яблочко в компоте, и все у него было вроде как измельчено, словно крупа.
Чертовское умаление! И еще раз в своей жизни я увидел его, на сей раз на лице
друга! Он отведал страшного пижонства — так это у меня сформулировалось, — он
отведал страшного пижонства. Какая же могучая сила могла его так разделать? На
мой вопрос он ответил тоном немного слишком высоким, визгливо:
— Я был в буфетной.
Побратался с парнем. Он дал мне по роже.
— Лакейчик дал тебе
по роже? — спросил я, не веря собственным ушам.
— Дал, — подтвердил
он с радостью, но натужной и все еще чересчур хилой. — Мы братья. Наконец-то я
нашел общий язык. — Но говорил он это, как Sonntagsjдger*, как городской
чиновник, который хвастает, что пил на деревенской свадьбе. Похоже,
сокрушительная и разрушительная сила помяла его — но отношение его к ней было
неискренним. Я поприжал его вопросами, и тогда он неохотно, прикрыв лицо
руками, пояснил:
— Я велел.
— Как это? — Кровь
во мне взыграла. — Как это? Ты велел ему бить тебя по лицу! Он же подумает, что
ты сумасшедший! — Ощущение у меня было такое, будто я сам получил пощечину. —
Поздравляю! Если тетя и дядя узнают!
— Это из-за тебя, —
ответил он мрачно и кратко. — Не надо было бить. Ты начал. В барина тебе
поиграть захотелось. Мне пришлось взять у него по роже, потому что ты ему
дал... Без этого не было бы равенства, и я не смог бы с ним по...бра...
Погасив свет, он
выплевал клочковатыми фразами историю своих отчаянных страданий. Он застал
________________
* Горе-охотник, плохой стрелок (нем.).
274
парня в буфетной за чисткой
господской обуви и присел подле него, но лакейчик встал. Da capo* повторилось — опять
он заводил разговор, старался растормошить его, разговорить и сдружить с собой,
но слова, еще не соскользнув с губ, вырождались в слащавую и бессмысленную
идиллию. Парень отвечал как умел, но видно было, это начинает ему надоедать, и
он не понимает, чего хочет от него тронутый господин. Ментус в конце концов
запутался в дешевых словесах родом из французской революции и Декларации прав,
втолковывал, что люди равны, и под этим предлогом требовал, чтобы парень подал
ему руку, но тот решительно отказался. — Моя рука не про вас, барин. — Тогда в
голову Ментусу пришла шальная мысль, что, если ему удастся заставить парня дать
ему по роже, лед тронется. Дай мне по морде, — взмолился он, уже плюнув на все,
— по морде дай! — и, склонившись, подставил лицо его рукам. Лакейчик все же
отбрыкивался. — Ии, — говорил он, — почто мне бить барина? — Ментус молил и
молил, наконец заорал: — Дай, сволота, раз я тебе приказываю! Что это такое, черт
возьми! — И в тот же миг потемнело у него в глазах, потом искры и звон — это
парень звезданул ему по роже! — Еще раз, — крикнул он, — сукин ты сын! Еще раз!
Мрак, искры, звон. Открывает глаза и видит, что лакейчик стоит перед ним с
руками, готовый к выполнению приказов! Но пощечина по приказу не была истинной
пощечиной, — это напоминало наливание воды в таз и снятие ботинок, и краска
стыда покрыла краску, залившую его после удара. — Еще, еще, — прошептал
мученик, дабы парень наконец по...братался на его лице. И снова — мрак, искры,
звон — о, это битье по
_______________
* Здесь: снова (лат.).
275
роже в пустой буфетной,
среди мокрых тряпок, над лоханью с горячей водой!
К счастью, сына
народного рассмешили барские фанаберии. По всей видимости, он пришел к выводу,
что барин тронулся головой (а ничто так не приободряет толпу, как психическое
нездоровье господ), и принялся по-мужицки посмеиваться, что создало дружескую
атмосферу. Вскоре паренек побратался до такой степени, что стал тыкать Ментуса
под ребро и вымогать несколько грошей.
— Дайкось, барин, на
махорочку!
Но все это не то,
все — враждебное, небратское и недружеское, по-народному язвительное,
убийственное, далекое от вожделенного братания. Ментус, однако, терпел, лучше
уж, считал он, пусть парень им помыкает, а не он, Ментус, по-барски будет
помыкать лакейчиком. Из кухни вылезла кухонная девка, Марцыська, с мокрой
половой тряпкой и принялась дивиться потехе:
— Ой, Иисусе! Вот те
на!
Дом спал — и они
безбоязненно могли предаваться играм с этим господином, который нанес им
буфетный визит, глумиться над ним крестьянской, народной насмешкой. Ментус сам
им в этом помогал и смеялся вместе с ними. Но понемножку, издеваясь над
Ментусом, они перешли к насмешкам и над своими господами. — Господа-то, эво,
таковские! — говорили они, подвизгивая, по-народному, по-кухонному,
по-буфетному. — Эво, каковские! Господа-то, эво, не работають, все лопають да
лопають, вот их и разносить! Лопають, хворають, вылегиваются, по покоям ходють
и цегой-то гомонять. И цего ж тут не налопаться-то! Мать Божия! Я бы и
вполовину того не выжрал, хоть и обнаковенный мужик. То тебе обед, то полодник,
а то конфет, а то варенья, а то яйца с луком на второй завтрак. Оценно госпо-
276
да прожорливые и сластены —
брюхами в небо лежать, вот и хворобы у них от энтого. А господин-то помещик,
как была охота, на лесника залез! На лесника залез! Лесник Вицента стояли за
ими с другой, вишь, двухстволкой, господин помещик в кабана пальнул, кабан на
господина помещика скокнул, а господин помещик двухстволку кинули и на Виценту
залез — цыц — ты, Марцыська, — на Виценту, вишь, залез! Дерева, вишь, никакого
вблизи не было, на Виценту и влез! Потом господин помещик злотый ему дал,
цтобы, это, рта не разевал, а то, мол, уволить. — О, Иисусе! Тьфу ты пропасть! Цыц-ты,
колики у меня колються. — Марцыська схватилась за бока. — А барышня-то так и
ходить и поглядываеть — гулять ходить. Господа, вишь, так ходють и смотрють.
Господин Зигмунт, он на мене поглядываеть, тока цто ему цесть — то раз мене
ципанул, да куды-там! Озиралси, озиралси, мол, кто на его не пялються, прямо у
мене колики закололись, я и удрала! Потом, вишь, дал мне злотый, наказывал
никому-никому не говорить, что напившись был! Ой-ли, напившись! — завел
паренек. — Иные-то девахи тоже с ним не хоцуть, он, вишь, все озирается. Есть
там у его одна старая Юзефка, в деревне, удова, и с им-то в кустах сходиться
подле пруда, но он ей наказал божиться, никому-никому, мол, не пискни — аккурат
так! — Хи-хи-хи-хи! Цыц ты, Валюсь! Господа оценно цветные! Господа оценно
деликатные! — А и деликатные, то-то им нужно носы, вишь, обтирать, сами-то
ницево не сделають! И подай, и придвинь, и принесь, пальту им надо поддевать,
сами-то не управляются. Как я к им поступил, мне аж цудно сделалось. Цтоб так
кто подле меня хозяевал и болтал, я б, правду говорю, луцше бы скрозь землю
провалился. Господина помещика по вецерам мазью должон обмазывать. — А я
барышню придавливаю, — взвизгнула девка, — барышню руками
277
придавливаю, уж оцень
хлипка. Господа, вишь, мягенькие, а руцки-то у их! Хи-хи-хи, такие руцоцки! —
О, Иисусе! Гуляють, жруть, парлюють парлефранцетом и скуцають. — Цыц ты,
Валюсь! Не болтай, вишь, зазря, помещица добрая! — А и добрая, когда людев
душить, — как же, доброй-то не быть! В деревне голод, аж пищить все. Людев
душуть. Да, каждый на их работаеть, помещик на поле выйдить, во и глядить, как
люди на его жилу рвуть. — Госпожа помещица коровы боиться. Госпожа помещица
коровы боиться!!! Господа уж так разговаривають! Господа ходють — хи-хи-хи —
такие они белюсенькие!.. — Девка визжала и дивилась, разошедшийся парень болтал
и гримасничал, но тут вошел Франтишек...
— Франтишек вошел? —
воскликнул я. — Камердинер?
— Франтишек! Черти
его принесли, — пропищал Ментус тоненько. — Его, видно, разбудил визг
Марцыськи. Мне, естественно, ничего сказать не осмелился, но обложил парня и
Марцыську, что не время на болтовню, пошли вон, работать, ночь на дворе, а еще
посуда не вымыта. Они сразу и убежали. Это низкий прислужник!
— А он слышал?
— Не знаю, может, и
слышал что. Это неинтересный тип — прислужник с бакенбардами и в стоячем
воротничке. Бакенбардный мужик — предатель. Предатель и доносчик. Если услышал
— донесет. А так хорошо болталось, — пропищал Ментус.
— Жуткий скандал из
всего этого может выйти... — тихо сказал я. Но он дискантом яростно провизжал:
— Предатели! Ты тоже
— предатель! Все предатели, предатели...
Я долго не мог
заснуть. Над потолком, на чердаке с грохотом носились куницы или крысы, и я
слышал их
278
писк, неожиданные кульбиты,
погоню и побеги, кошмарные фальшивые голоса этих животных, распираемых
дикостью. С крыши капало. Собаки выли механически, а комната, старательно
законопаченная, была коробочкой темноты. На той кровати лежал Ментус и не спал,
я на этой лежал и не спал, навзничь, руки за голову, лицо влепленное в потолок
— оба мы бдели, о чем свидетельствовало еле слышное наше дыхание. Что он делал
под покровом темноты — да, что он делал, ибо раз не спал, значит, что-то делал
— и я тоже делал. Человек, который не спит, действует, не может не действовать.
О чем он думал? О чем мечтал визгливо и худосочно, возбужденный, напряженный,
словно клещами схваченный. Я молил Бога, чтобы он уснул, ибо тогда, пожалуй, он
стал бы менее тихим и более открытым, менее зажатым — расслабился бы немного,
расковался...
Мучительная ночь! Я
не знал, что делать! Удирать, как только рассветет? Я был убежден, что старый
слуга Франтишек донесет тетке и дяде о беседах и мордобитии с парнем. И тогда
уж точно начнется инфернальная баталия, разлад, фальшь, игры демонов, рожа,
рожа заново начнется! И попочка! За тем я разве улизнул от Млодзяков? Мы
пробудили зверя! Разнуздали домашнюю прислугу! В ту страшную ночь, мучась в
постели бессонницей, я открыл тайну сельской усадьбы, помещичьего и
землевладельческого уклада, тайну, многообразные и смутные симптомы которой с
первой же минуты вызвали у меня тревожное предчувствие похмелья после рожи и
предчувствие рожи! Тайной этой была прислуга. Хамство было тайной господства.
Против кого дядя зевал, против кого засовывал в рот лишнюю сладкую клубничку?
Против хамства, против собственной прислуги! Почему не поднял упавшего
портсигара? Чтобы ему его подняла прислуга. Почему с такой навязчивой киндер-
279
штубой любезничал с нами,
откуда столько вежливости и внимания, столько манер и хорошего тона? Чтобы
отличить нас от прислуги и против прислуги поддержать свой барский норов. И
все, что бы они ни делали, было как бы с оглядкой на прислугу и по отношению к
прислуге, применительно к прислуге домашней и прислуге на их земле.
Да и разве могло
быть иначе? Мы, в городе, и не чувствовали даже, что мы господа-собственники,
все одинаково одетые, с одинаковой речью, жестами, и множество незначительных
полутонов объединяло нас с пролетариатом: сходя по ступенькам лавочника,
трамвайщика и извозчика, можно незаметно сойти на самое дно — к мусорщику; а
здесь господство росло, словно одинокий голый тополь. Мостков между господином
и слугой не было, ибо управляющий жил на фольварке, священник — в приходском
доме. Гордое родовое барство дядюшки вырастало прямо из хамской почвы, в
хамстве черпало оно свои соки. Услуги в городе оказывались путем окольным и в
формах неявных — каждый прислуживал каждому понемногу, — но тут у господина был
конкретный и личный хам, которому он протягивал ногу, дабы тот ему почистил
ботинок... И дядя, и тетя наверняка знали, что о них говорят в буфетной, —
какими видят их зенки хамов. Знали — но не позволяли этому знанию распоясаться,
давили его, душили, загоняли в подвалы мозга.
Быть оглядываемым
собственным хамом! Быть обдумываемым и сбалтываемым хамом! Неустанно
преломляться в хамской призме слуги, имеющего доступ в комнаты, слушающего твои
разговоры, наблюдающего за твоим поведением, допущенного с кофе к твоему столу
и ложу, — быть темой грубых, простоволосых, безвкусных кухонных сплетен и никогда
нельзя объясниться, поговорить на равных. Воистину, только через
280
прислугу, через лакея,
кучера, горничную можно познать сам корень, из которого произрастает
землевладелец. Без лакея не поймешь помещика. Без горничной не познаешь
духовный тип усадебных барышень, тональность их высоких порывов, барчук же
выводится из девки. Ох, наконец-то я понял причину их престранной робости и
ограниченности, столь поражающих всякого, кто из города заглянет в усадьбу. Это
хамство их устрашало. Хамством они были ограничены. У хамства они сидели за
пазухой. Вот— истинная причина. Вот — вечное тайное раздражение. Вот —
подпольный бой не на жизнь, а на смерть, приправленный всеми ядами подпольных и
скрытых от глаз баталий. Бой этот, стократ более тяжкий, нежели конфликты на
чисто финансовой почве, порожден был непохожестью и чуждостью — непохожестью
тела и чуждостью духа. Души их среди душ крестьянских были в лесу; барские и
нежные тела их среди тел толпы были в джунглях. Руки брезговали лапами хамов,
ноги господские ненавидели ноги хамские, глаза — зенки, пальчики — пальчища
хамские, и это вызывало тем больший стыд, что постоянно они были ими дотыкаемы,
«обделываемы», как выразился парень, холимы и смазываемы мазями... Иметь подле
себя в доме непохожие, чуждые части тела и не иметь никаких иных — ведь в
радиусе нескольких километров только мужицкие конечности, только мужичья речь,
«а тока», «а вишь», «вцерась», «боциноцек», «матуля», «татуля», и, пожалуй,
лишь приходский священник да управляющий на фольварке и были помещикам своими.
Но управляющий был чиновник, а священник был, в сущности, в юбке. Разве не
одиночеством объяснялось ненасытное радушие, с каким нас удерживали после
ужина, — с нами они себя чувствовали лучше. Мы были их союзниками. Но Ментус
изменил господским лицам с простонародной рожей парня.
281
Тот злокозненный
факт, что лакей бил по лицу Ментуса — как не крути, господского гостя и барина,
— должен был вызвать и злокозненные последствия. Извечная иерархия держалась на
превосходстве господских частей, и это была система жесткой и феодальной
иерархии, когда рука господина равнялась роже хама, а нога тянула на полмужика.
Иерархия это была древняя. Пакт, канон и закон вековые. То была мистическая
скоба, скреплявшая части господские и хамские, освещенная вековым обычаем и
только в вышеназванной структуре господа могли прикасаться к хамству и с ним
соприкасаться. Отсюда же и магия мордобития. Отсюда чуть ли не религиозный
культ мордобития у Валека. Отсюда барский разгул Зигмунта. Разумеется, сегодня
уже не били (хоть Валек и признался, что порой берет от дяди), но потенциальная
возможность пощечины засела в них крепко, и это удерживало их в барстве. А
теперь разве хамская лапа не развалилась панибратски на господском лице?
И прислуга уже
поднимала голову. Уже пошли кухонные сплетни. Уже простонародье, раззадоренное
и развращенное панибратством частей тела, гласно поносило господ, набирала силу
хамская критика — что будет, что случится, когда это доберется до тетушки и
дядюшки и господское лицо окажется один на один с тяжелой народной рожей?
ГЛАВА XIV
РАЗЗУДИСЬ-РОЖА И НОВАЯ ПОИМКА
Потому-то на
следующий день после завтрака тетка отвела меня в сторонку. Утро было свежее,
солнечное, земля — влажная, черная, островки деревьев, покрытых синеватыми
осенними листьями, расположились на просторном дворе; под деревьями домашние
куры копались и клевали. Время задержалось на утре, и золотистые полосочки
стелились по полу курительной комнаты. Родные собаки лениво слонялись из угла в
угол. Родные голуби ворковали. Волна возмущения подтачивала тетушку изнутри.
— Деточка, — сказала
она, — объясни мне, пожалуйста... Франтишек говорил, будто твой приятель
водится в кухне с прислугой. Может, он какой-нибудь агитатор?
— Теоретик! —
вмешался Зигмунт. — Не стоит волноваться, мама, — теоретик жизни! Приехал в
деревню с теориями — городской демократ!
Он был все еще весел
и довольно барствен после вчерашнего.
— Зигмусь, это не
теоретик, а практик! Вроде бы, Франтишек говорит, он Валеку руку подавал!
К счастью, старый
лакей не сказал всего, а дядю, насколько я сумел разобраться, вообще не
поставили в известность. Я прикинулся, будто ничего не слышал,
283
рассмеялся (как часто жизнь
понуждает нас к смешкам), сказал что-то о левой идеологии Ментуса, и на время
все успокоилось. С Ментусом, естественно, никто об этом не говорил. До обеда мы
играли в кинга, ибо Зося для развлечения предложила эту светскую игру, нам же
никак нельзя было отказаться, — и до обеда игра сковала нас друг с другом.
Зося, Зигмунт, Ментус и я, томясь и смеясь, выкладывали карты на зеленое сукно
стола, старшие на младших, в масть либо козыри-черви. Зигмунт играл четко,
сухо, по-клубному, с сигаретой во рту и бросал карту прицельно и горизонтально,
а взятки с треском загребал белыми пальцами. Ментус слюнил пальцы, карты мял, и
я заметил, что он стыдился кинга, игры чересчур господской, все поглядывал на
двери, не видит ли парень — он бы предпочел сыграть в дурака на полу. Больше
всего я опасался обеда, ибо предвидел, что Ментус не выдержит конфронтации с
парнем за столом, — и опасения эти меня не обманули.
На закуску подали
бигос, затем помидоровый суп, незаправленный, телячьи котлетки, груши в
ванильном соусе, все приготовленное хамскими пальцами кухарки, а прислуга
прислуживала на цыпочках — Франтишек
в белых перчатках и лакейчик босиком с салфеткой. Побледневший Ментус с
опущенными глазами ел изысканные и перекулинаренные блюда, которые подсовывал
ему Валек, и терзался оттого, что Валек кормил его деликатесами. Вдобавок
тетка, желая тонко указать ему на неуместность его выходок в буфетной,
обращалась к Ментусу с исключительной вежливостью, расспрашивала о семье и
покойнике отце. Вынужденный складывать круглые фразы, он отвечал удрученно, как
можно тише, чтобы парень не слышал, и не смел взглянуть в его сторону. И
оттого, может, за десертом, позабыв ответить тетке, он за-
284
смотрелся и забылся с
тоскливой и покорной улыбкой на пискливой и смиренной своей роже — с ложечкой в
руке, Я не мог толкнуть его, ибо сидел по другую сторону стола. Тетка умолкла,
а парень фыркнул конфузливым народным смешком, как это обычно делает народ,
когда господа глядять, и рукой прикрыл рот. Камердинер дал ему оплеуху. В этот
именно миг дядюшка зажег сигарету и затянулся дымом. Заметил ли он? Это
случилось у всех на виду, и я испугался, не велит ли он Ментусу выйти из-за
стола.
Но Константин
выпустил клуб дыма из носа, не изо рта!
— Вина, — крикнул
он, — вина! Дайте вина!
Он пришел в хорошее
расположение духа, развалился на стуле, побарабанил пальцами по столу.
— Вина! Франтишек,
велите принести из подвала «Бабушку Хенрикову» — выпьем по стаканчику! Валек,
черный кофе! Сигара! Закурим-ка сигарочку — к черту сигареты!
И, чокнувшись с
Ментусом, он принялся рассказывать, как в свое время с князем Северином
охотился на фазанов. И, чокаясь именно с ним, не обращая внимания на остальных,
рассказывал еще о парикмахере из гостиницы «Бристоль», лучшем из парикмахеров,
с каким ему приходилось когда-либо иметь дело. Он разошелся, разомлел, а
прислуга удвоила внимание и проворными пальцами подливала и подливала. Ментус,
как труп с рюмкой в руке, чокался, не зная, чему приписать неожиданное внимание
дяди Константина, терзался ужасно, но должен был поглощать старое, нежное вино
с букетом, увядшим, однако, в присутствии Валека. И меня тоже поведение дяди
обескуражило. После обеда он взял меня под локоть и привел в курительную.
— Твой друг, — изрек
он простецки и вместе с тем аристократично,— педе... педе... Гм... Подбирается
к
285
Валеку! Заметил? Ха-ха. Ну,
только бы дамы не узнали. Князь Северин тоже время от времени себе позволял!
Он вытянул длинные
ноги. Ах, с каким же аристократическим лоском он это изрек! С какой барской
опытностью, на которую поработали четыреста официантов, семьдесят парикмахеров,
тридцать жокеев и столько же метрдотелей, с каким удовольствием выказывал он
свои переперченные ресторанные знания о жизни бонвивана, грансеньора. Истинно
породистая барственность, когда дознается о чем-либо а-ля извращение или
половая распущенность, так и только так демонстрирует свою мужскую житейскую
опытность, которой она обязана официантам и парикмахерам. Но меня переперченная
ресторанная житейская мудрость дядюшки вдруг разъярила, как кот собаку, и
возмутила меня циничная легковесность наиболее удобной, наиболее барской
интерпретации случившегося. Я позабыл о всех своих опасениях. И назло сам
выложил все! Пусть мне Бог простит — под воздействием этой ресторанной зрелости
я скатился в зелень и решил попотчевать его кушаньем, не так хорошо пропеченным
и прожаренным, как подают в ресторанах.
— Это вовсе не то, о
чем вы, дядя, думаете, — наивно ответил я, — он с ним так бра...тается.
Константин удивился.
— Братается? Как это
— братается? Как ты это понимаешь — «братается»? — Выбитый из седла, он
исподлобья смотрел на меня.
— Бра...тается,—
ответил я.— По...брататься с ним хочет.
— Братается с
Валеком? Как это братается? Может, ты хочешь сказать — агитирует прислугу?
Агитатор? Большевизм — да?
— Нет, он братается,
как мальчик с мальчиком.
Дядюшка встал,
стряхнул пепел и умолк в поисках слов.
286
— Братается, —
повторил он. — Братается с народом, да? — Он пробовал это назвать, сделать
возможным, с точки зрения света, общества и жизни, братание чисто мальчишеское
было для него неприемлемо, он чувствовал, что такого в хорошем ресторане не
подадут. Более всего его раздражало, что по примеру Ментуса я выговаривал слово
«бра...тается» с каким-то стыдливым и робким заиканием. Это окончательно выбило
его из колеи.
— Братается с
народом? — спросил он осторожно.
А я: — Нет, с
мальчиком братается. — С мальчиком братается? Ну и что? В мячик, что ли, с ним
хочет поиграть или как? — Нет. Он только как приятель, как мальчик — они
братаются, как мальчик с мальчиком. — Дядя покраснел, кажется, впервые с тех
пор, как стал ходить к парикмахеру, о, этот румянец a rebours* взрослого человека,
тертого калача перед лицом наивного юнца — он вытащил часы, посмотрел на них и
стал заводить, подыскивая научный, политический, экономический, медицинский
термины, дабы заточить в него сентиментально-скользкую материю, как в
коробочку. — Извращение какое-то? Что? Комплекс? Бра...тается? Может,
социалист, из партии? Демократ, да? Бра...тается? Mais qu'est-ce... que c'est бра-тается? Comment бра-тается? Fraternitй, quoi, egalitй, libertй?** Он начал
по-французски, но не агрессивно, а напротив, как тот, кто спасается и буквально
«прибегает» к французскому. Он был беззащитен перед лицом мальчика. Зажег
сигарету и потушил, положил ногу на ногу, поглаживая усики.
— Братается? What is that*** бра...тается?
Черт побери! Князь Северин...
____________
* Навыворот (франц.).
** Но
что это такое?.. Как... Братство, э-э, равенство, свобода? (франц.).
*** Что
это такое? (англ.).
287
Я с мягкой настойчивостью все повторял и
повторял «бра...тается» и уже ни за что не отрекся бы от зеленоватой, нежной
наивности, какой я обмазывал дядюшку.
— Котя, —
добросердечно сказала тетя, которая остановилась на пороге с сумочкой конфеток
в руке, — не нервничай, он, верно, во Христе братается, братается в любви к
ближнему.
— Нет — упрямо
ответил я. — Нет! Он бра...тается голым, без ничего!
— Так, значит, он
все-таки извращенец! — воскликнул дядя.
— Вовсе нет. Он
бра...тается вообще без ничего, также и без извращения... Как мальчик
братается.
— Мальчик? Мальчик?
А что это такое? Pardon, mais qu'est-ce que c'est*, мальчик? — строил он из себя дурачка. — Как
мальчик с Валеком? С Валеком и в моем доме? С моим лакейчиком? — Он вышел из
себя, позвонил. — Я вам покажу мальчика!
Лакейчик влетел в
комнату. Дядя подошел к нему с вытянутой рукой и, возможно, двинул бы ему в
рожу резко, без замаха, но на полпути остановился и смешался, духовно
заколебался и не мог ударить, не мог в этих условиях установить контакт с рожей
Валека. Бить мальчика за то, что он мальчик? Бить за то, что «братается»?
Исключено. И Константин, который без раздумий ударил бы за пролитый кофе,
опустил руку.
— Вон — заорал он.
— Котя! —
добросердечно воскликнула тетя. — Котя!
— Тут ничего не
поможет, — сказал я. — Напротив, мордобитие только подкрепит бра...тание. Он
любит мордобитых.
Дядя захлопал
глазами, будто стряхивал пальцем гусеницу с жилета, но промолчал; этот виртуоз
салон-
______________
* Виноват, но что такое (франц.).
288
но-ресторанной иронии,
пронизываемый иронией снизу, напоминал фехтовальщика, на которого напала утка.
Пообтершийся в свете землевладелец оказался детски наивным в наивности. Еще
любопытнее, что, несмотря на житейскую опытность и опыт, ему и в голову не
пришло, что я мог сговориться против него с Ментусом и Валеком и наслаждаться
его барскими ужимками, — ему была присуща лояльность высшего общества, которая
не допускала возможности предательства в своем кругу. Вошел старый Франтишек,
бритый, с бачками, в сюртуке, и остановился посреди комнаты.
Константин, который
немного увлекся, при виде его принял обычную небрежную позу.
— Ну что там,
Франтишек? — спросил он милостиво, но в голосе его можно было почувствовать
барское усердие в отношениях со старым, выдержанным слугой, такое же, что и по
отношению к старому, выдержанному вину. — С чем же Франтишек пришел? — Слуга
посмотрел на меня, но дядя махнул рукой. — Говори, Франтишек.
— Вельможный пан
говорил с Валеком?
— Да говорил,
говорил, Франтишек.
— Это, я только и
хотел заметить, хорошо получилось, что вельможный пан с ним поразговаривал. Я
бы, вельможный пан, и минуты его тут не держал! Вытолкал бы в шею. Оченно уж он
запанибратствовал с господами! Вельможный пан, люди уже болтают!
Три девки пробежали
по двору, сверкая голыми коленками. За ними хромая собачонка, лаяла. Зигмунт
заглянул в курительную.
— Болтают? — спросил
дядя Константин. — Что болтают?
— Про господ
болтают!
— Про нас болтают?
289
Но старый слуга, к
счастью, не захотел сказать ничего больше. — Про господ болтают, — говорил он.
— Валек распустился с энтим молодым господином, что приехал, вот теперя,
извиняйте, болтают про господ без никакого уважения. Перво-наперво Валек и
девки с кухни. Сам я ведь слыхал, как вчерась болтали с энтим господином до
самой ночи, все, ну все, выболтали. Болтают, что на язык лезет, чего только
могут, то и болтают! Болтают, уж не знаю и как! Вельможный пан, а энтого пакостника
я бы сей секунд взашей выставил, — представительный слуга покраснел, как пион,
весь пятнами пошел, о, этот румянец старого лакея! Тихо и нежно ответил ему
румянец господина. Господа сидели немо — не пристало расспрашивать, — но может,
еще добавит, — они повисли у него на губах — не добавил.
— Ну, ладно уж,
ладно, Франтишек, — проговорил наконец Константин, — можешь идти.
И слуга как пришел,
так и вышел.
«Болтают про
господ», — большего они не узнали. Дядя ограничился кислым замечанием,
обращенным к тете: — Слишком мягка ты со слугами, душенька, что ж это они так
распустились? Какие-то небылицы? — и ни слова об этом больше, долго еще после
ухода слуги они обменивались банальными наблюдениями и пустыми замечаниями
вроде: где Зося? Почта пришла? — и всячески не придавали значения, дабы не
показать, до какой степени точно угодила им в слабое место недосказанная
реляция Франтишека. Лишь после почти четверти часа непридавания значения
Константин потянулся, зевнул и неторопливо зашагал по паркету в сторону
гостиной. Я догадывался, кого он там искал — Ментуса. Он должен был поговорить,
душа его требовала незамедлительного объяснения и прояснения, не мог он больше
в этой мути. За ним пошла тетя.
290
Ментуса, однако, в гостиной
не было, только Зося с учебниками рационального выращивания овощей на коленях
сидела и смотрела на стену, на муху, — не было его также ни в столовой, ни в
рабочем кабинете. Усадьба погрузилась в послеобеденную дрему, а муха жужжала,
на дворе куры кружили по увядшим газонам, стукали клювами о землю, крохотный
пинчер пинал пуделя в хвост и покусывал. Дядя, Зигмунт и тетя неприметно
расползлись по дому в поисках Ментуса, каждый в одиночку. Достоинство не
позволяло им признаться, что они ищут. Однако вид господ, запущенных в движение
внешне небрежное, но все-таки настойчивое, был ужаснее, нежели вид бешеной
погони, и я ломал голову, как бы предотвратить скандал, набухавший, словно
чирей, на горизонте. У меня уже не было к ним доступа. Они уже замкнулись в
себе. Я уже не мог с ними об этом говорить. Проходя через столовую, я увидел,
что тетка остановилась под дверью в буфетную, из-за которой как обычно
доносились гомон, писк и крик девок, мывших посуду. Задумчивая, настороженная,
она стояла с выражением хозяйки дома, подслушивающей собственных слуг, и от
обычной ее доброты не осталось и следа. Заметив меня, она кашлянула и отошла. А
тем временем дядюшка приплутал к кухне со двора и остановился недалеко от окна,
но когда кухонная девка сунула в окно голову, — Зелинский! — заорал он, —
Зелинский! Прикажите Новаку залатать этот желоб! — И неспешно удалился по
грабовой аллее с садовником Зелинским, семенившем позади с шапкой в руке.
Зигмунт подошел ко мне и взял под локоть.
— Не знаю, нравится
ли тебе иногда такая старая, перезрелая чуток деревенская баба — мне нравится —
Хенричек Пац ввел эту моду — люблю я бабу — периодически, должен сказать, люблю
бабу — j'aime
291
parfois une simple* бабу, люблю, черт возьми,
бабу! Люблю бабу! Ха-ла-ли, ха-ла-ли, люблю обыкновенную бабу и чтобы она чуток
была старовата!
Ага, — он испугался,
не наболтали ли слуги про его перестарку, про «удову» Юзефку, с которой он
встречался в кустах над озером; капризами моды подстраховывался, молодого Паца
втягивал. Я не ответил, видя, что
ничто уже не в состоянии удержать заведенных господ от чудачеств, эта безумная
звезда вновь взошла на моем небосклоне, и я вспомнил все приключения с момента,
когда Пимко меня укантропопил, — но это было хуже всех. Мы отправились с
Зигмунтом на двор, где вскоре появился дядя из грабовой аллеи с садовником
Зелинским, семенившим позади с шапкой в руке.
— Чудесная пора, —
крикнул он нам в воздухе чистом. — Просохло.
Действительно, пора
была великолепная, на фоне небесного простора деревья слезились рыже-золотой
листвой, крохотный пинчер любезничал с пуделем. Ментуса, однако, не было.
Пришла тетя с двумя грибами в руке, которые она показывала издали с мягкой и
доброй улыбкой. Мы сгрудились около крыльца, а поскольку никто не хотел
признаваться, что, в сущности, все мы ищем Ментуса, воцарились между нами
исключительная деликатность и вежливость. Тетя добросердечно спрашивала, не
холодно ли кому. Галки сидели на дереве. На усадебных воротах сидели детишки с
грязными пальцами, всаженными в рыльца, и глазели на ходивших господ, а также о
чем-то болтали, пока Зигмунт, затопав ногами, не прогнал их; но спустя минуту
они стали глазеть из-за изгороди, так что он еще раз прогнал их, после чего
садовник Зелинский прогнал их камнями — они удрали, но от колод-
______________
* Я иногда люблю простую (франц.).
292
ца опять принялись глазеть,
тут уж Зигмунт махнул рукой, Константин велел принести яблок и начал
демонстративно их есть, разбрасывая по сторонам кожуру. Ел он против детишек.
— Тереперепумпум, —
замурлыкал он.
Ментуса не было,
чего словами никто из нас не выпячивал, хотя все испытывали потребность в
конфронтации и выяснении. Если это и была погоня, то погоня неслыханно вялая,
изумительно самоуверенная, почти не трогающаяся с места и потому — грозная.
Барственность преследовала Ментуса, но господа и дамы едва передвигали ногами.
Однако же дальнейшее пребывание на дворе представлялось бесцельным, в
особенности же оттого, что детишки все глазели из-за забора, и Зигмунт подал
мысль заглянуть за гумно.
— Пройдемся по
двору, — сказал он, и мы прогулочным шагом направились в ту сторону, дядя
Константин с садовником, семенившим позади с шапкой в руке, а детишки перенесли
глазение от забора в окрестности амбара. За воротами началась грязь, и гуси нас
окружили, но на них налетел управляющий: хромая собачонка ощерилась и зарычала,
но выскочил ночной сторож. Цепные псы у конюшни принялись лаять и подвывать,
выведенные из себя необычностью костюмов, — действительно, на мне все было
серое, городское, воротничок, галстучек, ботиночки, дядя был в летнем пальто,
тетя — в плерезе с мехом и шляпке лодочкой, Зигмунт — в шотландских чулках и
брюках гольф. Крестный то был путь и неспешный, самая тяжелая дорога, которую
мне когда-либо приходилось одолевать; вы еще узнаете о моих приключениях в
прериях и среди негров, но никакой негр не идет ни в малейшее сравнение с этим
странствованием по болимовскому двору Нигде — более скверной экзотичности.
Нигде — более едкого яда. Нигде под ногами не
293
расцветали более болезненные
фантазии и цветы — орхидеи, нигде — столько восточных бабочек, о, никакой
пернатый колибри несопоставим по экзотичности с гусем, к которому не
прикасалась рука человека. О, ибо ни к чему тут не прикасались наши руки,
батраки у овина — не тронутые касанием, девки у амбара — не тронутые, не
тронутые скотина, птица, вилы, вальки, цепи, ремни и мешки. Дикие птицы, кони —
мустанги, дикие девки и дикие свиньи. В лучшем случае рожи батраков могли быть
тронуты прикосновением дяди, а также рука тети была тронута прикосновением
батраков, которые запечатлевали на ней народные и вассальные свои поцелуи. Но
кроме того, ничего, ничего и ничего — одно неведомое и неизведанное! Мы шли на
своих каблуках, а в ворота прогоняли коров, огромное стадо заполнило двор до
краев, гонимое и подгоняемое деревенскими мальчишками, и мы оказались среди
скотины неведомой и неотведанной.
— Atention!
— закричала тетя. — Atention,
laissez les passer!*
— Атасенлесепа!
Атасенлесепа! — передразнивали детишки из-под амбара, но ночной сторож с
управляющим бросились и отогнали как детишек, так и коров. У коровника
неотведанные девки грянули народной припевкой — ой, дана! — но слов нельзя было
разобрать. Может, они про барчука пели? Но более всего неприятно было то, что
господа находились как бы под опекой народа, и хотя они господствовали, владели
вместе со всей своей экономической эксплуатацией, внешне все это выглядело
нежно, словно бы хамство пестовало господство, а господа были баловнями хамов —
и управляющий, как раб, переносил тетю через лужи, а чудилось все же, что он ее
нянчит.
_______________
* Осторожно... Осторожно, пусть пройдут! (франц.)
294
Высосали народ
экономически, но кроме экономического сосания вершилось еще и сосание по своему
характеру инфантильное, не только кровь сосали, но и молочко тоже, и напрасно
дядя твердо и бескомпромиссно обложил батраков, напрасно тетя, будто мама, с
патриархальной добротой давала целовать себе руки — ни патриархальная доброта,
ни самые жесткие приказания не смогли приглушить впечатления, что помещик
сынком приходится народу, помещица — доченькой. Ибо здешний народ не был еще
так истискан интеллигенцией, как та слободская голь, которая со всех ног
удирала от нас; он был древний и неиспорченный, в себя водворенный, так что,
даже проходя в отдалении, мы ощущали мощь как бы ста тысяч батрачьих лошадей,
запряженных в одну упряжку.
Неподалеку от
курятника экономка впихивала в индюка мускатные орешки, откармливая его сверх
меры, дабы потрафить господским вкусам и приготовить лакомое блюдо для господ.
У кузницы цуговому жеребцу для шика отрубали хвост, Зигмунт похлопал его по
крупу, заглянул в зубы, ибо конь был одним из тех немногих объектов, прикасание
к которым было позволительно для барчука, — а непознанные и высосанные девки
завели ему еще громче: ой, дана, дана, дана, дана! Но мысль о перестарке
отравила ему барчуковское его самосознание, пришибленный, отпустил он лошадиную
шею и подозрительно посмотрел на девок, не смеются ли они, случаем, над ним.
Старый, жилистый мужик, тоже непознанный и немного высосанный, подошел и
поцеловал тетю в дозволенную часть тела. Процессия наша достигла границ гумна.
За гумном — дорога и лоскуты полей, простор. Издалека, издалека углядел нас
высосанный батрак, который остановился было с плугом и тут же огрел кнутом
лошадь. Сырая земля не благоприятствовала усажива-
295
нию и сидению. По правой
барской рученьке — отваленные пласты земли, стерня, пустошь и торфяники, по
левой рученьке — вечнозеленый лес, хвойная зелень. Ментуса нигде не было. Дикая
родная курица клевала овес.
Внезапно в двухстах
шагах от нас вынырнул из лесу Ментус — не один, с лакейчиком вместе. Нас не
заметил — света белого не видел, заглядевшись на парня, заслушавшись парня,
забывшись в парне. Вертелся и подпрыгивал щеголем, словно заведенный, то и дело
за руку его хватал и в глаза ему засматривал. Парень вовсю язвил мужицкой,
народной насмешкой и панибратски похлопывал Ментуса по плечу. Шли они опушкой
рощи. Ментус с парнем — нет, парень с Ментусом вместе! Ментус самозабвенно
лазил постоянно зачем-то в карман и что-то совал парню, по всей вероятности —
злотые, а парень, фамильярничая, тычка ему давал.
— Пьяные! —
прошептала тетя...
Не пьяные. Солнечный
шар, клонясь к закату, проливал свет и подчеркивал. Парень треснул Ментуса по
щеке на закате солнца...
Зигмунт хлестко
крикнул:
— Валек!
Лакейчик дал
стрекача в лес. Ментус словно резко затормозил на всем ходу, из чар вырванный.
Мы пошли ему навстречу по стерне напрямик, ввиду чего и он пошел навстречу нам.
Но Константин не хотел чинить расправу в чистом поле, ибо детишки продолжали
глазеть с гумна и высосанный мужик пахал.
— Погуляем в лесу, —
предложил он неожиданно исключительно вежливо, и прямо с поля мы вошли в темную
рощу. Молчание. Расправа наступила между густо посаженными елями — в
несусветной тесноте
296
сгрудились мы все вместе.
Дядя Константин внутренне весь трясся, но вежливости прибавил вдвойне.
— Я вижу, что
компания Валека вам по вкусу, — начал он с тонкой иронией.
Ментус ответил
визгливо и с тусклой ненавистью:
— По вкусу...
В колючей хвое, с
рожей, прикрытой ветками, прямо загнанная облавой лиса, — в двух шагах от него
тетя в хвойном деревце, дядя, Зигмунт... Но дядя заговорил в высшей степени
холодно и с едва уловимым сарказмом:— Вы, кажется, бра...таетесь с Валеком?
Визг ненавидящий,
бешеный:
— Бра...таюсь!
— Котя, — отозвалась
тетя добросердечно, — пойдем. Тут сыро!
— Роща густая. Надо
будет каждое третье срубить, — сказал Зигмунт отцу.
— Бра...таюсь! —
заскулил Ментус.
Я не предполагал,
что они приговорят его к этой муке. Для того и влезли в рощу, чтобы прикинуться
глухими? Затем и преследовали, чтобы, настигнув, облить презрением? Где же
объяснения? Где расправа? Коварно вывернули наизнанку роли, не кончали с ним — так они были горды, так
спешили облить презрением, что даже отказались от выяснения. Не придавали
значения. Пренебрегали. Не замечали — ах, баре, бешеные и низкие баре!
— А вы на лесника
влезли! — крикнул Ментус. — Влезли на лесника, испугавшись кабана! Я знаю! Все
говорят! Тереперепумпум! Тереперепумпум, — стал он дразниться, в гневе теряя
остатки самообладания.
Константин поджал
губы и — молчание.
— Валек будет
выброшен ко всем чертям! — холодно объявил Зигмунт отцу.
297
— Да, Валек будет
уволен, — сдержанно согласился дядя Константин. — Жаль, но я не привык терпеть
развращенной прислуги.
Они отыгрывались на
Валеке! Ах, коварные и низкие господа, не соблаговолили Ментусу даже ответить,
только Валека прогоняли — Валеком его прикончили. Не так ли и старый Франтишек
в буфетной ни слова ему не сказал, а Валека и девку распек? Ель затряслась, и
Ментус наверняка набросился бы на них — но тут лесник в зеленой куртке с ружьем
на плече вынырнул из чащи около нас и поприветствовал всех по всей форме.
— Залезайте-ка на
него! — закричал Ментус. — Залезайте-ка на него, а то кабан! Кабан!!!...
Перестарка, перестарка, Юзефка! — бросил он еще Зигмунту и сломя голову
бросился в лес. — Я понесся за ним. — Ментус, Ментус! — тщетно кричал я, а хвоя
хлестала, била меня по роже! Ни в коем случае нельзя было мне оставить его один
на один с лесом. Я перепрыгивал через поваленные деревья и овражки, через норы,
расщелины и корни. Из рощи мы прибежали в бор, Ментус увеличил скорость и
несся, как обезумевший кабан.
Вдруг я увидел Зосю,
которая гуляла по лесу и, скучая, собирала на мхах грибы. Мы неслись прямо на
нее, и я испугался, как бы, доведенные до бешенства, мы не сделали ей чего
дурного. — Беги! — закричал я. Голос мой, видимо, пронял ее, ибо она кинулась
наутек, — а Ментус, видя, что она удирает, стал ее догонять и преследовать! Я
выбивался из последних сил, чтобы по крайней мере вовремя догнать его, когда он
ее догонит, — к счастью, он споткнулся о корень и улегся на маленькой полянке.
Я добежал.
— Чего? — буркнул
он, прижимаясь лицом ко мху. — Чего?
298
— Возвращайся домой!
— Баре! — сплюнул он
этим словом сквозь зубы. — Баре! Иди, иди! Ты тоже — барин!
— Нет, нет!
— Ой, да! Вишь!
Барин! Барин!
— Ментус, иди домой
— надо это прекратить! Несчастье будет! Надо прервать, отрезать — начать
по-другому!
— Барин! Господа,
зараза! Не дадуть! Сволочь! О, Иисусе! И тебя тоже перелицевали!
— Перестань, это не
твой язык! Как ты говоришь? Как ты со мной говоришь?
— Мой, мой... Не
дамси! Мой! Оставь его! Выгонить хочуть Валека! Выгонить! Не дамси — мой — не
дамси! — ...
— Иди домой!
Бесславное
возвращение! Разнюнился, размямлился, разнылся, завел почвеннически — ой,
батюшки, ой, доля, ой доля! На гумне девки, батраки дивились и насмешничали,
видя господина, который по-ихнему голосит. Смеркалось, когда мы проскользнули
через садовую веранду; я велел ему ждать в нашей комнате наверху, сам же пошел
поговорить с дядей Константином. В курительной я встретил Зигмунта, руки в
карманы, ходит из угла в угол. Барчук весь бушевал внутри, а снаружи был
холоден. Из его сдержанных замечаний я узнал, что Зося прибежала из лесу едва
жива и — как представляется — подхватила простуду, тетя измеряет ей
температуру. Валеку, который вернулся уже на кухню, запрещен доступ в комнаты,
а завтра ранним утром состоится увольнение и вышвыривание. Он далее объявил,
что не считает меня ответственным за скандальные выходки «господина
Ментальского», хотя — по его мнению — мне следовало бы тщательнее выбирать
друзей. Он огорчен, что
299
больше не сможет
наслаждаться моим обществом, но не думает, чтобы дальнейшее пребывание в
Болимове было бы для нас приятным. Завтра в девять утра отходит поезд в
Варшаву, распоряжения кучеру даны. Что же касается ужина, то мы, по всей
видимости, предпочтем съесть его у себя наверху, соответствующие приказания
Франтишек уже получил. Все это он довел до моего сведения тоном, не допускающим
возражений, полуофициально и как сын своих родителей.
— Что до меня, —
процедил он, — я отреагирую иначе. Позволю себе немедленно проучить господина
Ментальского за оскорбление отца и сестры. Я принадлежу к корпорация «Астория».
И выплюнул угрозу
пощечины! Я понял, что его заботило. Он хотел дисквалифицировать то лицо,
которое принимало от простонародья по морде, хотел битьем вычеркнуть его из
реестра почетных господских лиц.
К счастью, дядя
Константин, войдя в комнату, услышал его угрозы.
— Какого «господина
Ментальского»? — воскликнул он — Кому ты хочешь дать пощечину, Зигмунт, дорогой
мой? Недоделанному хлюстику школьного возраста? По попочке дать сопляку! — И
Зйгмунт покраснел, поперхнулся своим почетным предприятием. После этих слов
дяди он не мог дать пощечину, действительно, будучи двадцати с лишним лет от
роду, не мог он, не уронив собственного достоинства, двинуть подростка неполных
восемнадцати весен, тем более что эта его черта, восемнадцатилетие, была
подчеркнута и акцентирована. Самое паршивое, однако, в том, что Ментус, по
существу, был в переходном возрасте, и если господа могли посчитать его
сопляком, то для простолюдинов, которые вызревают быстрее, он уже был зрелой
барской рожей, ли-
300
цо его обладало, с их точки
зрения, всеми достоинствами господского лика. Так что же получается — лицо
достаточно хорошо, дабы Валек бил по нему как по господскому, и недостаточно
хорошо, дабы господа могли получить на нем удовлетворение? Зигмунт одарил отца
злобным взглядом за эту несправедливость природы. Но Константин и мысли не
допускал, что Ментус мог бы быть чем-то иным, не щенком, он, Константин,
который панибратски чокался с ним за обедом на гомоэротической почве, теперь
открещивался от всякой с ним общности, видел в нем молокососа, сопляка, не
придавал значения его возрасту! Гордость не позволяла! Порода восставала,
порода! Господин, у которого История неумолимо отбирала поместья и власть,
оставался тем не менее породистым душой и телом, в особенности же телом! Он мог
снести сельскохозяйственную реформу и общее политико-правовое подравнивание, но
кровь у него закипала при мысли о личном и физическом равенстве, о братании
личном. Тут подравнивание вступало уже в область, погруженную в сумерки
личности — в извечные дебри породы, на страже которых стояли инстинктивный,
ненавистью пропитанный рефлекс, отречение, ужас, отвращение! Пусть берут
состояние! Пусть проводят реформы! Но пусть же господская рука не ищет руки
парня, пусть же щеки не ищут лапы. Как это, добровольно, из чистой только тоски
рваться к простонародью? Измена расе, культ прислуги, непринужденный, наивный
культ членов, жестов, выражений слуги, влюбленность в хамскую сущность? И в
каком же положении был господин, слуга которого стал объектом столь бурных
оваций иного господина, — нет, нет, Ментус никакой не господин, обыкновенный
сопляк, молокосос! Это сопливые выходки под влиянием большевистской агитации.
301
— Вижу,
большевистские настроения господствуют в среде школьной молодежи, — сказал
дядя, словно Ментус был учеником-революционером, а не классным любовником. — По
попочке! — засмеялся он. — По попочке!
И вдруг в открытую
форточку ворвались топот ног и визг, доносившиеся из кустов неподалеку от
кухни. Вечер был теплый, суббота... Парни с фольварка пришли к кухонным девкам
и озоровали... Константин просунул голову в форточку.
— Кто там? — крикнул
он. — Нельзя!
Кто-то шмыгнул в
заросли. Кто-то рассмеялся. Камень, брошенный физическою силою, упал под окном.
И кто-то за кустами голосом, нарочно измененным, завопил во всю мочь:
Трясогуска на дубу, трясогуска на дубу, эй, ай!
Эй, Ай, барин в рожу, барин в рожу принимай!
Ху, ха!
И еще раз кто-то взвизгнул, засмеялся! Весть уже разошлась в народе. Они знали. Кухонные девки, должно, наболтали, вишь, парням. Этого следовало ожидать, но нервы помещика не выдержали наглости, с которой пели под окнами. Он перестал не придавать значения, красные пятна проступили у него на щеках, он молча вытащил револьвер. К счастью, тетя явилась вовремя.
— Котя, — закричала
она добросердечно, не теряя времени на расспросы. — Котя, положи это! Положи
это! Прошу тебя, положи это, я терпеть не могу заряженного оружия, если хочешь
иметь это при себе, вынь пули!
И точно так же, как
минуту назад он не придал значения угрозам Зигмунта, так теперь она не придала
значения ему. Поцеловала его — и он с револьвером в руке стал расцелованным, —
поправила ему галстук,
302
чем окончательно обезоружила
револьвер, закрыла форточку, а то сквозняки, и совершила еще множество подобных
неутомимо умалявших и раздроблявших поступков. Она бросила на чашу событий всю
округленность своей персоны, источающей нежное материнское тепло, которое
обкладывало человека, как вата. Отвела меня в сторонку и украдкой дала мне
несколько конфеток, которые лежали у нее в маленькой сумочке.
— Ой, шельмы,
шельмы, — прошептала она с добродушным упреком, — что ж вы это натворили! Зося
больна, дядя взволнован, ох, уж эти ваши романы с народом! С прислугой надо
уметь себя вести, нельзя панибратствовать, их надо знать — это люди темные,
невоспитанные, как дети. Кикусь, сын дяди Стася, также пережил период мужикомании,
— добавила она, вглядываясь в меня, — а ты похож на него, о, вот, вот, кончиком
носа. Ну, я не сержусь, на ужин, однако, не приходите, дядя не хочет, я вам в
утешение варенья пришлю — а помнишь, как тебя побил наш старый лакей,
Владислав, зато, что ты его обзывал «грязнулей»? Гадкий Владислав! Меня и
сейчас трясет! Я его сразу же уволила. Бить такого ангелочка! Сокровище ты мое!
Ты мое все! Ты мой бесценный!
Она поцеловала меня
во внезапном приливе растроганности и опять дала конфет. Я быстро удалился с конфетами
детства во рту, а удаляясь, еще слышал, как она просила Зигмунта пощупать ей
пульс, и барчук взял ее за запястье и щупал, поглядывая на часы, — он щупал
пульс матери, которая, откинувшись на спинку дивана, глядела в пространство. С
конфетами возвращался я наверх и чувствовал себя не очень-то реально, но подле
этой женщины каждый становился нереальным, она обладала поразительным умением
растапливать людей в доброте, расплавлять
303
их в болезнях и смешивать с
частями тела других людей — не из страху ли перед прислугой? «Добрая, коли
душит», — припомнилось мне определение Валека. «Душит, так как же ей не быть
добродушной?» Положение становилось угрожающим. Они взаимно не придавали друг
другу значения, дядя из гордости, а тетя из страха, и только этому следовало
приписать, что до сих пор не прозвучал выстрел — ни Зигмунт не шарахнул
Ментуса, ни дядя не шарахнул из револьвера. Я с радостью думал об отъезде.
Ментуса я застал на
полу с головой, втянутой в плечи, — у него теперь появилась склонность закрывать
голову, обрамлять, окружать ее руками, он не шевелился, с втянутой головой тихо
голосил и постанывал — молодо и почвенно.
— Гей-та, гей-та, —
бормотал он. — Айда, айда! — и другие слова безо всякой связи, серые и грубые,
как земля, зеленые, как молодой орешник, крестьянские, народные и молодые. Он
потерял уже всякий стыд. Даже приход Франтишека с ужином не прервал его
причитаний, и тихих деревенских жалоб; он дошел до такого предела, за которым
мы уже не стыдимся тосковать по прислуге при прислуге и вздыхать по лакейчику в
присутствии старого лакея. Никогда до того не видел я ни одного интеллигента в
состоянии такого упадка. Франтишек даже не взглянул в ту сторону, когда ставил
на стол поднос, но руки дрожали у него от отвращения, и он, выходя, хлопнул дверью.
Ментус не притронулся к еде и никак не мог утешиться — что-то в нем щебетало,
квакало, что-то тосковало и истосковывалось, что-то затуманивалось, с чем-то он
там сражался, охал, какие-то выводил законы... А то опять обыкновенная хамская
злоба хватала его за горло. Только тете и дяде приписывал он свой неуспех с
парнем, господа виноваты, господа, если бы не их помехи и отвращение, наверняка
бы он побратался!
304
Зачем они ему
помешали? Зачем прогнали Валека? Тщетно втолковывал я ему, что завтра надо
уезжать.
— Не пояду, вишь, не
пояду, ишшо цаво! Пущай сами они уезжають, коли хоцуть! Тут Валек, тута и я
буду. С Валеком! С Валеком моем единственным, ой, дана, дана, с пареньком!
Не мог я с ним
договориться, он был помрачен парнем, для него перестали существовать какие бы
то ни было светские соображения. А когда наконец понял, что остаться нельзя, он
испугался, стал молить не бросать парня.
— Без Валека не
пояду! Валека ним не оставю! Возьмем его — зарабатывать стану на жисть, на дом
— чтоб я сдох, не пояду без Валека мово! Юзек, Бога ради, из-за Валека не!
Сгонють со двора, в деревне сыщу кватеру, у перестарки, — добавил он ехидно, —
у перестарки осяду! А чаво! С деревни не погонють! В деревне кажный имееть
право!
Я не знал, что со
всей этой штуковиной делать. Вовсе не было исключено, что он поселится у этой
несчастной перестарки Зигмунта, у «удовы», как говорил лакейчик, и оттуда
станет преследовать усадьбу и компрометировать тетю с дядей, разносить
господские тайны хамским языком, он — предатель и доносчик — хамам на смех!
И тут гигантская
пощечина прогремела за окном во дворе. Забренчало, собаки отозвались скопом. Мы
прильнули к стеклам. На крыльце, в свете, льющемся из дома, стоял дядя
Константин с охотничьей винтовкой, вглядываясь в мрак. Еще раз приложил
винтовку к щеке и выстрелил — грохот разнесся в ночи, как от ракеты. И поплыл
дальше в темные окрестности. Собаки разошлись.
— В парня палить! —
Ментус схватил меня судорожно. — В Валека метить!
305
Константин стрелял
для устрашения. Снова ли слуги с фольварка что-нибудь пропели? Или он стрелял,
ибо нервы сдали, ибо выстрел рвался из него с того самого момента, как в
курительной он вытащил из ящика револьвер? Кто знал, что в нем творилось? Или
это был акт террора, рожденный гордостью и спесью? Рассвирепевший господин
грохотом извещал всех окрест, до самых дальних дорог и одиноких верб на межах,
что он бодрствует, вооруженный до зубов. Тетя выскочила на крыльцо и торопливо
угостила его конфетками, шарфом шею укутала, втащила домой. Но грохот уже распространился
бесповоротно. Когда усадебные собаки на мгновение стихли, я услышал вдали эхо
деревенских собак и вдруг представил себе переполох, охвативший людей, — и
парни, и девки, и мужики, спрашивающие друг друга, а це эта, пошто на дворе
палять? Помещик палить? Цаво палить? И сплетня о мордобое, мол, молодой барин в
морду принял от Валека, разраставшаяся, переходящая из уст в уста, подгоняемая
шумным демонстративным выстрелом. И я никак не мог взять себя в руки. Принял
решение о безотлагательном побеге, мне стало страшно ночью в этой усадьбе,
внутренне распоясавшейся, наполненной ядовитыми миазмами. Бежать! Бежать
немедля! Но Ментус не хотел без Валека. И я, лишь бы поскорее удрать,
согласился забрать парня. Его так и так должны уволить. Наконец остановились на
том, что дождемся, пока в доме все уснет, и тогда я пойду к лакейчику, уговорю
его бежать, а если заупрямится — прикажу! Вернусь с ним к Ментусу, и уже втроем
подумаем, как выбраться в поле. Собаки Валека знали. Остаток ночи проведем в
поле, после чего поездом в город. В город, скорее в город! В город, где человек
меньше, лучше пригнан к людям и более похож на людей. Минуты тянулись
бесконечно. Мы упаковыва-
306
ли вещи и подсчитывали
деньги, а почти нетронутый ужин завернули в носовой платок.
В первом часу ночи,
выглянув в окно и удостоверившись, что темнота заполнила комнаты, я снял обувь
и босиком вышел в маленький коридорчик, чтобы, по возможности бесшумно,
пробраться в буфетную. Когда Ментус закрыл дверь, отобрав у меня последний луч
света, когда я приступил к действию и начал украдкой проникать в уснувший дом,
я понял, сколь безумно мое предприятие и нелепа цель — погружаться в
пространство ради похищения парня. Неужели только действие выманивает из
безумия все безумие? Я едва переставлял ноги, пол иногда поскрипывал, над
потолком грызлись и фальшивили крысы. За моей спиной в комнате остался
почвенный Ментус, подо мною, на первом этаже, дядя, тетя, Зигмунт и Зося, к
слуге которых я направлялся бесшумно и босо; передо мной, в буфетной, этот
самый слуга, как цель всех усилий. Надо было постоянно быть начеку. Если бы
меня кто-нибудь накрыл здесь, в коридоре, в темноте, разве я смог бы объяснить
смысл своей выходки? Какие дороги ведут к этим извилистым и ненормальным
дорогам? Нормальность — это канатоходец над бездной ненормальности. Сколько же
скрытого безумия заключает в себе обычный порядок — сам не знаешь, когда и как
ход событий приводит тебя к похищению парня и бегству в поле. Лучше уж было бы
похитить Зосю. Если уж кого мне и похищать, то Зосю, нормальным и правильным
делом было бы похищение Зоси из сельской усадьбы, если уж кого, то Зосю, Зосю,
а не глупого, идиотского парня. И в сумраке коридора нашло на меня искушение
похитить Зосю, завладел мною соблазн прозрачного, чистого похищения Зоси, о, Зосю
похитить прозрачно!
307
Гей, Зосю похитить!
Зосю похитить зрело, по-господски, и по-дворянски, как многократно уже
похищали. Мне пришлось обороняться от этой мысли, доказывать ее
неосновательность — и все же чем дальше я крался по предательским доскам пола,
тем больше нормальность соблазняла, манило простое и естественное похищение в
противовес этому запутанному похищению. Я споткнулся о дыру — под пальцами ног
была дыра, дыра в полу. Откуда дыра? Она показалась мне знакомой. Здравствуй,
здравствуй, — это моя дыра, ведь это я много лет назад пробил эту дыру! На
именины получил я в подарок от дяди маленький топорик, топориком прорубил дыру.
Прибежала тетя. Вот здесь стояла, кричала на меня, мне очень живо припомнились
обрывки ее ругани, интонации крика — а я снизу топориком хрясть по ноге! Ах,
ах, закричала она! Крик ее еще был тут — я замер, словно за ногу меня схватила
сцена, которой уже не было, но которая ведь произошла здесь, на этом самом
месте. Я рубанул по ноге. Я ясно увидел в темноте, как я ее рубанул, сам не
знаю почему, невольно, автоматически, и как она закричала. Закричала и
подскочила. Нынешние мои поступки смешивались и переплетались с поступками,
совершенными в прошлом, в позапрошлом времени, я вдруг весь затрясся, челюсти
сжались. Бог ты мой, ведь я мог бы отрубить ей ногу, если бы посильнее
замахнулся, какое счастье, что не было у меня достаточно сил, благословенная
слабость. Но теперь сила у меня уже была. А что, если не к парню пойти, а к
тете в спальню пойти и рубануть изо всей мочи топором? Прочь, прочь,
ребячество. Ребячество? Да, Боже милостивый, парень тоже был ребячеством, если
я шел к парню, то, в сущности, мог пойти и рубануть тетю, одно другого стоит —
рубануть, рубануть! О, ребячество. Я осторожно нащупывал ногой
308
пол, ибо каждый мало-мальски
громкий скрип мог меня выдать, но мне казалось, я как ребенок нащупываю и как
ребенок иду. О, ребячество. Трояким было ребячество, которое прицепилось ко
мне, с одним я бы справился, но оно было трояким. Первое, ребячество вылазки за
лакейчиком-парнем. Второе, ребячество пережитого тут годы назад. Третье,
ребячество барства, как барин я тоже был ребенком. О, есть на земле и в жизни
места более или менее детские, но сельская усадьба, пожалуй, самое детское
такое место. Здесь барство и народ взаимно держатся и удерживаются в ребенке,
тут каждый каждому ребенок. Продвигаясь все дальше босиком по коридору,
скрываемый чернотой, я шел, словно в дворянское прошлое и в собственное
детство, а чувственный, телесный, инфантильный и непредсказуемый мир обнимал
меня, всасывал и втягивал. Слепота поступков. Автоматизм рефлексов. Атавизм
инстинктов. Барско-ребячья фантазия. Я шел, словно в анахронизм необъятной
пощечины, которая была одновременно и вековой традицией, и инфантильным
шлепком, одним ударом высвобождала господина и ребенка. Я нащупал перила
лестницы, по ним я некогда съезжал, упиваясь автоматизмом езды, — сверху до
самого низу! Инфант, инфантилис — король, ребенок, мчащийся господин-ребенок,
ох, если бы я сейчас рубанул тетю, она бы уж не встала — и я поразился
собственной силе, когтям, ручищам, кулакам, испугался мужчины в ребенке. Что я
делаю тут, на этой лестнице, куда и зачем иду? И опять промелькнула у меня
мысль о похищении Зоси, вот единственный возможный повод вылазки, единственное
мужское решение, единственное предназначение мужчины.. Зосю похитить! Зосю
по-мужски похитить! Я отмахивался от этой мысли, но она меня уговаривала...
жужжала во мне.
309
Внизу, в небольшой
передней, я остановился. Тишина — ничто нигде не шевельнется, они отправились
отдыхать, как и всегда, в обычный час, тетя наверняка разогнала всех по
кроватям и укутала одеялами. Другое дело, что отдых их, по всей видимости,
отдыхом не был, каждый у себя под одеялом перебирал канву пережитых событий. В
кухне тоже тихо, только через щели из буфетной проглядывал свет, лакейчик
чистил ботиночки, а на роже его я не заметил никаких следов переживаний, она
была обыкновенная. Я осторожно проскользнул в буфетную, прикрыл дверь, приложил
палец к губам и, соблюдая всяческие предосторожности, шепотом в самое ухо
приступил к уговорам. Чтобы он прямо сейчас взял шапку, бросил все и пошел с
нами, что в Варшаву едем. Кошмарная роль, я предпочел бы все что угодно этим
уговорам, глупым, да вдобавок еще и шепотом. Тем более что он упирался. Я говорил,
что господа его выгонят, что для него лучше всего сбежать куда-нибудь подальше,
в Варшаву, с Ментусом, который даст ему на жизнь, — он не понимал, не мог
понять.
— На что мне все это
ваше убегание, — говорил он с инстинктивной неприязнью ко всяким господским
выдумкам, и у меня опять сверкнула мысль, что Зося согласилась бы легче, с
Зосей этот ночной шепот был бы не таким бессмысленным. Нехватка времени не
располагала к долгим уговорам. Я треснул его по роже и приказал, тогда он
послушался — но я треснул через тряпку. Через тряпку треснул его по щеке, мне
пришлось приложить тряпку и по ней треснуть, чтобы избежать шума — о, о! —
через тряпку ночью бил я по морде парня. Он послушался, хотя тряпка и вызвала у
него некоторые сомнения, простонародье не любит отклонений от нормы.
310
— Идем, сволота, —
прикрикнул я и вышел в переднюю, он за мной. Где лестница? Темно, хоть глаз
выколи.
Где-то скрипнула
дверь, и голос дяди спросил:
— Кто там?
Я быстро схватил
лакейчика и втолкнул его в столовую. Мы притаились за дверью. Константин
медленно приближался и вошел в комнату, прошествовал прямо рядом со мной.
— Кто там? —
повторил он осторожно, не желая попасть в смешное положение, если тут никого
нет. Бросив вопрос, он последовал за ним в столовую. Остановился. Спичек у него
не было, а тьма непроглядная. Повернул назад, но, сделав несколько шагов,
остановился и затих — уловил специфический, народный запах парня, а может,
нежная господская кожа почувствовала лапы и рожу? Он был так близко, что мог бы
дотронуться до нас рукой, но это именно и заставило его держать руки при себе,
слишком близко он был, близость заманивала его в ловушку. Замер, а его
неподвижность поначалу потихоньку, а потом все скорее стала конденсироваться в
выражение тревоги. Не думаю, что он был трус, хотя, как говорили, и влез со
страху на лесника, — нет, не потому не мог он шевельнуться, что боялся, но
боялся потому, что не мог шевельнуться, — ибо, раз уж стих и остановился, с
каждой секундой начать движение заново по причинам чисто формального свойства
становилось для него делом все более затруднительным. Ужас сидел в нем давно и
только теперь вылез наружу и сковал его, тонкие косточки помещика костью стали
у него поперек горла. Парень и не пискнул. Так мы и стояли втроем в полуметре
друг от друга. Кожа проснулась, волосы встали дыбом. Я не прерывал этого.
Рассчитывал, что в конце концов он совладает с собой и отступит, дав нам
возможность тоже отступить и удрать через переднюю
311
наверх, но я не принял во
внимание, что нарастающая тревога действует парализующе, — ибо теперь, я знал
это точно, наступило внутреннее переиначивание и выворачивание наизнанку, и он
уже не потому боялся, что не мог шевельнуться, но не мог шевельнуться от
страха. Я догадывался, что на его лице серьезность ужаса, лицо у него должно
было быть сосредоточенным, бесконечно серьезным... и я в свою очередь начал
бояться — не его, но его тревоги. Если бы мы отступили или только чуть
пошевелились, он мог броситься и схватить нас. Если у него был револьвер, мог
пальнуть — хотя нет, для выстрела мы были слишком от него близко, он мог
физически, но не мог психически — ибо человек должен упредить выстрел
внутренним, душевным выстрелом, а для этого дистанция была мала. Он, однако,
мог кинуться на нас с кулаками. Он не знал, что притаилось перед ним и куда он
вляпается руками. Мы знали, что он такое — он не знал, что такое мы. Мне
хотелось объявиться, хотелось сказать «дядя» или что-нибудь в этом роде. Но по
прошествии стольких секунд, а может и минут, я уже не мог, слишком поздно — как
объяснить молчание? Мне хотелось смеяться, словно меня кто-то щекотал.
Разрастание. Увеличение. Увеличение во мраке. Распирание и расширение в
сочетании со съеживанием и стягиванием, выкручивание и какое-то общее и частное
вылущивание, застывающее напряжение и напряженное застывание, зависание на
тоненькой ниточке, а также преобразование и переделка во что-то, претворение, а
дальше — попадание в систему концентрации и выпучивания и словно на узенькой
дощечке, поднятой на высоту шестого этажа, с возбуждением всех органов. И
щекотанье. В передней послышалось шлепанье, но невозможность пошевельнуться
дошла до такого предела, что никто из нас не пошевелился. Зигмунт приближался в
туфлях. — Есть тут кто? — спросил он с порога.
312
Сделал шаг вперед,
повторил: — Есть тут кто? — и утих, застыл, почуяв, что что-то здесь
происходит. Он знал, что отец где-то тут, ибо должен был прежде слышать шаги и
вопросы Константина — так почему же отец не откликается? Но отца закупорили
извечные страхи и тревоги, ха, ха, ха, он не мог, он не мог, ибо боялся! А сына
закупорил страх отца. Он испугался всей массой уже произведенного страха и утих
как бы навеки. Может, впрочем, сперва он почувствовал себя неопределенно, но
тут же неопределенность преобразилась в определенность страха и стала расти из
самой себя. Da capo вылущивание, набухание, увеличение, возведение в 101 степень,
разрастание и стягивание, размягчение, поглаживание, напряжение, вслушивание в
монотонность, выпучивание и зависание — без конца, без конца, без предела, погружающееся
вниз и вверх, с Зигмунтом немного дальше. Удушье, непроходимость, торможение,
поддержание головы, распадение и растрескивание, долгое вычитание, сложение,
выталкивание и завершение, перерабатывание и напряжение, напряжение... Минута?
Час? Что будет? В голове моей проносились миры. Я вспомнил: ведь здесь некогда я спрятался, чтобы напугать няньку —
то самое место, — и едва не рассмеялся. Цыц! Откуда смех? Хватит уже, надо
кончать, прервать, что будет, если ребячество вдруг выявится наконец, если меня
накроют после столь долгого молчания с лакейчиком, странное дело, необъяснимое,
о, Зося, с Зосей быть, с Зосей, а не с ним рядом сдерживать дыхание! С Зосей не
было бы по-детски! Внезапно я нахально сдвинулся с места и укрылся за
портьерой, будучи уверен, что они не осмелятся пошевелиться. И они в самом деле
не решились. В темноте наступила, помимо страха, какая-то нелепость, кроме
всего прочего, нелепо им было нарушить тишину, быть может, и было у них та-
313
кое намерение, быть может,
они думали об этом, но не знали, как к этому подступиться. Я говорю тут об их собственной тишине.
Ибо свою я прервал передвижением. Быть может, они раздумывали теперь лишь о
формальной стороне проблемы, искали видимость, предлог, внешнее обоснование,
хуже всего, что один связывал другого своим присутствием, и оба мыслителя
стояли, не умея перестать и прервать, а выталкивание и выпутывание продолжалось
без устали. Обретя возможность двигаться, я решил схватить парня, потянуть его
за собой и быстро выйти в переднюю, но прежде чем я осуществил свое решение, —
свет! свет! — на полу слабенький свет, скрип, шлепанье, Франтишек, Франтишек
идет со светом, проступает нога дядюшки, к свету, к свету, к гласности!!!
Счастье, что я был за портьерой! Но старый слуга вытащил их на свет со всем,
что происходило в потемках! И они объявились: дядя, Зигмунт, лакейчик —
пришлось им объявиться! Дядя со слегка привставшими волосами, в шаге от парня,
они лицом друг к другу — и Зигмунт, торчащий поближе к середине комнаты, словно
шест.
— Ходит кто? —
ворчливо спросил камердинер, светя себе маленькой керосиновой лампой; но
спросил задним числом, только того ради, чтобы оправдать свой приход. Он ведь
видел их как на ладони.
Константин
пошевелился. Что подумал Франтишек, видя его рядом с лакейчиком? Почему они
стояли рядышком? Дядя не мог сразу же отступить, но шевелением своим он
стряхнул с себя Валека; после чего сделал шаг в сторону.
— Ты что тут
делаешь? — закричал он, сменив в себе страх на злобу.
Лакейчик не отвечал.
Не нашел никакого ответа. Стоял он с необычайной легкостью, но языка в пасти
как не бывало. Он был один с господами. И молчание
314
сына народа, его
необъяснение отбрасывало подозрительную тень. Франтишек взглянул на дядю —
господа в потемках с Валеком? Неужто и помещик с ним фамильярничает? — старый
слуга, вытянувшись с лампой в руках, потихоньку покрывался краской и запылал,
словно зарево в сумерках.
— Валек! — заорал
Зигмунт.
Все эти
восклицательные знаки не были удачно расставлены во времени, появлялись то
раньше, то позже, и я сжался за портьерой.
Я услышал, что
кто-то тут ходит, — начал Зигмунт бестолково. — Услышал, что кто-то ходит.
Ходит. Ты что здесь делал? Что ты делал тут? Говори же! Чего здесь хотел?
Отвечай!!! Отвечай, подлюга! — распалялся он ужасно беспорядочно.
— Известно что, —
после долгого, убийственного молчания проговорил красный, как огонь, слуга. —
Известно, что, ваши милости. Он погладил бакенбарды.
— Серебро столовое в
ящике. А завтра ваши милости хотят его уволить со службы. Так он собирался...
стибрить.
Стибрить! Украсть
хотел! Толкование найдено — хотел украсть и был пойман. Всем, не исключая и
Валека, полегчало, и у меня за портьерой тоже немного отлегло. Константин
отодвинулся от лакейчика и сел на стул у стола. Он вновь обрел господское
отношение к парню и вместе с ним — самоуверенность. Украсть хотел!
— А ну, иди сюда, —
сказал Константин, — а ну, иди сюда, говорю... Ближе, ближе... — Он уже не
боялся сближения и откровенно наслаждался тем, что не боится. — Ближе, —
повторил дядя, — ближе, — а Валек подходил недоверчиво и вяло, — еще ближе, — и
парень уже почти касался его, и тогда он развернулся и треснул, сидя, треснул
по роже, как Мене, Текел,
315
Фарес!* — Я тебя научу
красть! — О, наслаждение удара при свете после того страха во тьме, бить по
роже, которая пугала, бить в рамках, очерченных ясным понятием воровства! О,
наслаждение от нормального отношения после стольких ненормальных отношений!
Зигмунт, следуя примеру отца, двинул в зубы, как в висячие сады Семирамиды!
Хлестнул шлепком! Я весь сжался за портьерой, будто меня на катушку намотали.
— Не крадил я! —
проговорил парень, хватая ртом воздух.
Того они и ждали.
Это позволило им использовать видимость кражи до донышка. — Не крал? — сказал
Константин и, наклонившись на стуле, двинул в морду. — Не крал? Не крал? — И с
этим вопросом, повторявшимся без конца, без перерыва, они били, и руками искали
рожу, и находили ее, и хлестали резко, пружинисто или с размаху, с треском!
Валек закрывался руками, но они умели добраться до него! Долгое время у них был
доступ лишь к роже, но я чувствовал, что он расширится; и в самом деле помещик
проломил плотину, схватил его за волосы, стал толочь его лбом о буфет. — Я
научу тебя, как красть! Я научу тебя, как красть!..
Ха, и началось!
Проклятая распирающая ночь! Проклятая, увеличивающая темнота, темнота
извлекающая, без этого купания в темноте ничего бы и не было. Был на этом
осадок темноты. Разгулялся Костек-помещик. Под предлогом воровства он метелил
за страх, за ужас, за румянец, за бра…тание с Ментусом, за все им выстраданное.
— Это мое! Мое! — повторял он, прикладывая парня к ящикам, выступам, резьбе,
________________
* В Ветхом Завете рассказывается, что эти слова появились на стенах
чертога вавилонского царя Валтасара во время пира, предвещая смерть царя и
гибель государства.
316
карнизам. — Мое, сволочь! —
И постепенно менялся смысл этого «мое», не известно было, идет ли речь о
серебре и вилках или также о теле и душе, волосах, обычаях, руках, барстве,
лоске, культуре и породе, он уже мордовал парня не о ящик, мордовал о
пространство — отбросил предлог! Казалось, что, побивая и добивая парня, он
собою хочет овладеть, собою, не серебром и не имением, но собою. Собою он
овладевал! Террор! Террор! Терроризировать, овладеть, пусть не смеет
бра...таться, и языком чесать, и выкобениваться, пусть воспримет господ как
божество! Нежная господская ручка вваливает ему в морду сущность свою. Так
индюк прививает воробью индюка! Так фокстерьер прививает дворняжке культ
фокстерьера! Сова — сойке! Буйвол — собаке! Я тер глаза за портьерой, хотелось
кричать, взывать о помощи, но я не мог. А Франтишек маленькой керосиновой
лампой светил сбоку. Тетя! Тетя! Не обманывают ли меня глаза, не тетю ли с
конфетками я вижу в дверях курительной. Промелькнула у меня надежда, что тетка,
может, спасет, смягчит — нейтрализует. Нет! Она воздела руки, словно собиралась
крикнуть, но не крикнула, улыбнулась ни с того ни с сего, махнула рукой, еще
какие-то неопределенные жесты сделала и отступила в курительную. Притворилась,
что ее вовсе и нет, не приняла она того, что видела, не восприняла, доза была
слишком велика — и растворилась в себе, а также растворилась в глубине комнаты,
но скорее вылилась назад таким странным образом, что я засомневался, да была ли
она. Константин обессилел — и опять кинулся овладевать, — а Зигмунт подскакивал
сбоку и тоже овладевал собою, овладевал и овладевал, насколько мог дотянуться
до парня рукой. Когда дядя отваливался, он наваливался и овладевал изо всех
сил, мощно, могущественно! Сквозь стиснутые
317
зубы они испускали, задыхаясь,
словечки, такие, например:
— А, так я на
лесника влез! На лесника влез! А, так бра.. .таться захотелось!
— А, так у меня
перестарка!
И они колошматили,
чтобы раз и навсегда пробить и превозмочь все это! Овладевали, но, соблюдая
правила, никогда по ноге, никогда по спине, только руками избивали, добивали и
вбивали в рожу! Они не бились с ним — не били его, — только били в морду! И то
им было разрешено. Это формально исстари так было установлено. А старый
Франтишек светил, и когда руки у них стали ватными, он тактично заметил:
— Их милости отучать
красть! Их милости отучать!
Наконец они
прекратили. Сели. Парень тяжело дышал, сукровица текла из уха, рожа и голова
его были обработаны по всем правилам. Они угостили друг друга сигаретой, а
старик подошел со спичками. Казалось, они завершили. Но Зигмунт выпустил
колечко!
— Старку подай! —
крикнул он. — Старку подай! Ошалели они, что ли? Как он им старку подаст?
Парень заморгал
налитыми кровью зенками.
— Дык на деревни,
барин!
Я потер себе лоб. Но они имели в виду не
деревенскую, стыдливую перестарку Юзефку, а ту, выдержанную, зрелую,
превосходную и господскую «Старку», которая стояла в буфете, в бутылке! И когда
лакейчик все-таки понял и кинулся к шкафу, достал бутылку, рюмки, Зигмунт
чокнулся с отцом, и они выпили по рюмке благородной, изысканной «Старки». А
потом еще рюмочку! И третью, и четвертую!
— Мы уж его научим!
Выдрессируем его!
И пошло, пошло... я
даже усомнился, не обманывают ли меня чувства. Ибо ничто так не обманывает, как
чувства. Могло ли это быть правдой? Укрытый порть-
318
ерой, босиком, я не был
уверен, правду ли я вижу, или все это продолжение темноты, — да можно ли
босиком видеть правду, босиком? Сними ботинки, спрячься за портьерой и смотри!
Смотри босиком! Ужасный кич! Не забывая зрелую, выдержанную «Старку», они
принялись за дрессировку, за выделку из парня зрелого лакейчика. — Это, то
принеси! — кричали они. — Рюмки! Салфетки! Хлеб, булки! Закуску! Ветчину!
Накрой! Подай! — Парень бегал и метался как ошпаренный. — И они начали перед ним
есть, смаковать, попивать и закусывать — овладевали едой, овладевали едой
господской. — Господа пьють! — закричал Константин, опрокидывая рюмку. —
Господа едять! — вторил ему Зигмунт. — Мое ем! Мое пью! Ем свое! Мое, не твое!
Мое! Знай господина! — орали они и подсовывали ему под нос самих себя,
овладевали всеми своими свойствами, чтобы до конца жизни не смел он критиковать
и ставить под сомнение, насмешничать и дивиться, чтобы принял их как вещь в
себе. Ding an sich!* И кричали: — Что господин прикажет, слуга должен!
— и бросались приказаниями, а парень исполнял и исполнял! — Целуй меня в ногу!
— целовал. — Поклонись. Падай в ноги! — падал, а Франтишек, словно на трубочке,
им тактично подыгрывал:
— Их милости
дрессирують! Их милости научать!
Дрессировали! За
столом, залитым «Старкой», при свете маленькой керосиновой лампы! Позволено
было, поскольку деревенского парня они натаскивали на лакейчика. Я хотел закричать, что — нет, нет,
хватит, — и не мог. Стыдился выдать себя, что вижу. Я не знал, вижу ли я все так, как есть, не ошибаюсь ли, сколько
моего в киче, который разыгрывался передо мною, может, если бы я в ботинках
смотрел, не заметил бы этого. И я трясся, страшась, как бы чей-нибудь чужой
_______________
* Вешь в себе (нем.).
319
взгляд, взгляд третьего
лица, не прихватил меня вместе с этой сценой, как часть самой сцены. Я
съеживался от помордасов, которые получал парень, меня душили отчаяние и
тревога, и, однако же, смех меня разбирал, я невольно смеялся, будто мне кто-то
щекотал пятки, о, Зося, Зося, если бы она была здесь, Зосю похитить, бежать с
Зосей как взрослый мужчина! А они все дрессировали, дрессировали зрело,
по-господски, незрелого мальчика, элегантно, с блеском даже, развалившись за
столом, попивая выдержанную «Старку».
Ментус показался в
дверях!
— Пущайте яво!
Пущайте!
Не крикнул. Пискнул
гортанно. Двинулся на дядю! Вдруг я заметил, что все видно! Видно! За окном
была толпа. Парни, девки, батраки, мужики и бабы, экономки, прислуга с
фольварка, из усадьбы, все смотрели! Окна не были занавешены. Ночной галдеж
приманил их. Смотрели уважительно, как господа гоняють Валека — как его учуть,
муструють и дрессирують на лакейчика.
— Ментус, осторожно!
— крикнул я. Слишком поздно. Константин еще успел презрительно повернуться к
нему боком и лишний раз хлестануть по морде лакейчика. Ментус бросился,
обхватил парня, обнял его, прижал к себе. — Мой! Ня дам! Ня дам! — Пущайте! —
скулил он. — Пущайте яво! Ня дам! — Сопляк! — взревел Константин. — По попочке!
По попочке! По попочке получишь, сопляк! — И дядя с Зигмунтом, вдвоем, кинулись
на него. Детский скулеж Ментуса привел господ в ярость. Умалить его по попочке!
Лишить всякого смысла его бра...тание, при Валеке и на глазах простолюдинов за
окном нашлепать по попочке! — Эй-та, эй-та, эй-та! — взвизгнул Ментус, странно
скорчившись. Спрятался за парня. А
320
тот, словно обретя в
результате братания с Ментусом твердость духа и смелость по отношению к
господам, с неожиданной фамильярностью звезданул в морду Константина.
— Цаво прешь? —
вульгарно крикнул он.
Раскололась
мистическая скоба! Рука слуги обрушилась на господский лик. Круги, звон и искры
из глаз. Константин настолько не был к этому готов, что повалился с ног.
Незрелость затопила все вокруг. Звон разбитого стекла. Темень. Камень,
брошенный метко, разбил лампу. Окна не выдержали — народ овладел ими и стал
помаленьку влезать, загустело во мраке крестьянскими частями тела. Душно, как в
канцелярии управляющего. Лапы и ступни — нет, у простолюдинов нет ступней, —
лапы и ноги, огромное множество лап и ног, массивных, тяжелых. Народ,
привлеченный необыкновенной незрелостью сцены, потерял уважение и тоже
возжаждал бра...таться. Я еще услышал визг Зигмунта, а также визг дяди —
кажется, народ прибрал их к рукам и взялся за них довольно-таки неторопливо и
неумело, но я не видел, ибо темно... Я выскочил из-за портьеры. Тетя! Тетя!
Тетю я вспомнил. Побежал босиком в курительную, схватил тетю, которая на диване
старалась не существовать, и давай тянуть, пихать ее в кучу, дабы она смешалась
с кучей.
— Деточка, деточка,
что ты делаешь? — молила, брыкалась и конфеткой угощала, но я именно как
ребенок тяну и тяну ее, тяну в кучу, впихиваю, она уже там, они ее уже держат!
Тетка уже в куче! Уже в куче! Я бросился наутек. Не удирать — гнать, лишь
гнать, ничего больше; лишь гнать, гнать, погоняя себя и шлепая босыми ножками!
Вылетел на крыльцо! Луна выплывала из-за туч, но это была не луна, а попочка.
Попочка неимоверных размеров над верхушками деревьев. Детская попочка над
миром. И попочка. И все,
321
только попочка. Там они катаются
скопом, а тут попа. Листики на кустах дрожат на легком ветерке. И попочка.
Смертельное отчаяние
меня схватило и прижало к себе. Я был оребячен вдребезги. Куда бежать?
Возвращаться в усадьбу? Там ничего — шлепки, хлопки, перекатывание кучи. К кому
обратиться, что делать, как расположиться в мире? Где поместиться? Я был один,
хуже, чем один, ибо оребячен. Не мог я долго один, без связи с ничем. Побежал
по дороге, перепрыгивая через сухие прутики, словно кузнечик. Я искал связи с
чем-нибудь, новой, хотя бы временной структуры, дабы не торчать торчком в
пустоте. Тень оторвалась от дерева. Зося! Схватила меня!
— Что там произошло?
— зашептала она. — Крестьяне напали на родителей?
Я схватил ее.
— Бежим! — ответил
я.
Вместе удирали мы
полями в неведомую даль, и она была, как похищенная, и я — как похититель. Мы
бежали по меже, пока хватило нам сил. Остаток ночи провели на крохотном лужку у
воды, забравшись в камыши, дрожа от холода и стуча зубами. Кузнечики верещали.
На заре новая попочка, стократ краше, румяная, появилась на небосклоне и залила
мир лучами, заставив все предметы отбрасывать длинные тени.
Неизвестно было, что
делать. Я не мог объяснить и изъяснить Зосе, что произошло в усадьбе, ибо
стыдился, да к тому же и не находил слов. Она, пожалуй, более или менее
догадывалась, ибо тоже стыдилась и просто не могла высказаться. Сидела в
камышах над водой и покашливала, ибо сыростью тянуло от камышей. Я пересчитал
деньги — у меня было около 50 злотых и еще немного мелочью. Теоретически
рассуждая, следовало бы дойти пешком до какой-нибудь
322
усадьбы и там просить
помощи. Как же, однако, изъясниться в такой усадьбе, как изобразить всю
историю, стыд не позволял слова вымолвить, и я предпочел бы скорее провести
остаток дней в камышах, чем предстать со всем этим перед людьми. Никогда! Лучше
уж посчитать, что я ее похитил, что мы вместе бежим из родительского дома, это
было куда более зрелым — более легким для восприятия. И, допустив это, я не
должен был ей ничего ни объяснять, ни втолковывать, поскольку женщина всегда
допускает, что ее любят. Под этим предлогом мы могли бы тихой сапой добраться
до станции, поехать в Варшаву и начать там новое житье втайне перед всеми — а
тайна эта была бы оправдана моим похищением.
Итак, я запечатлел
поцелуй на ее щеке и признался ей в страстном чувстве, стал просить прощения,
что похитил ее, втолковывал, что ее семья никогда не согласилась бы на союз со
мною, поскольку я не был достаточно состоятелен, что с первого же мгновения я
воспылал к ней чувством и понял, что и она пылает ко мне тем же самым.
— Не было иного
выхода, кроме как похитить тебя, Зося, — говорил я, — убежать вместе.
Поначалу она
немножко удивилась, но спустя четверть часа объяснений стала строить мины,
поглядывать на меня, поскольку я на нее поглядывал, и перебирать пальцами. О
крестьянах и анархии в усадьбе совсем позабыла, ей уже казалось, что она
действительно мною похищена. Безумно ей это льстило, ибо до сих пор она только
рукодельничала, или училась, или сидела и глазела, или скучала, или ходила на
прогулки, или смотрела в окно, или играла на фортепьяно, или занималась
филантропией в организации «Сполем»*, или сдавала экза-
_________________
* Союз потребительских кооперативов, основанный в Варшаве в 1908 г.
323
мены по выращиванию овощей,
или флиртовала и танцевала под звуки музыки, или ездила на курорты, или вела
беседы и смотрела через оконные стекла вдаль. И совсем потеряла надежду найти
такого, кто даст ей надежду! А такой тут не только нашелся, но еще и похитил!
Итак, она мобилизовала все свои способности полюбить и полюбила меня —
поскольку я ее полюбил.
А тем временем
попочка воспаряла вверх и сияла миллиардом искрящихся лучей над миром, который
был вроде бы как макетом мира, вырезанным из картона, покрашенным в зеленый
цвет и освещенным сверху жарким огнем. Глухими тропками, избегая человеческих
поселений, стали мы прокрадываться к станции, а путь был далек — двадцать с
лишним километров. Она шла, и я шел, я шел, и она шла, итак, шли мы, сообща
поддерживая наше шествие, шли под лучами беспощадной, лучистой и сверкающей
попочки, ребячьей и оребячьивающей. Кузнечики прыгали. Сверчки трещали в траве.
Птички сидели на деревьях или порхали. При виде какого-нибудь человека мы
сворачивали или прятались в придорожных кустах. Но Зося уверяла меня, что знает
дорогу, так как тысячу раз ездила туда в повозке или открытом экипаже, в бричке
или на санях. Жара нас допекла. К счастью, мы сумели тайно подкрепиться
молоком, высосав придорожную корову. И опять шли. И все время, по причине
объявления о любовных чувствах, мне приходилось поддерживать любовный разговор
и ухаживать, скажем, оказывать помощь на досках, переброшенных через ручей,
отгонять мух, спрашивать, не устала ли, — и выкидывать много иных знаков
расположения и благосклонности. На что она подобным же образом спрашивала,
обмахивала меня и выказывала мне. Я страшно устал, ох, только бы добраться до
Варшавы, освободиться от Зоси и начать жить сызнова. Я хотел
324
ее поэксплуатировать
единственно как предлог и видимость, дабы относительно зрело отдалиться от кучи
в усадьбе и добраться до Варшавы, где спустя некоторое время я уже смог бы
устроиться сам. Но пока мне предстояло интересоваться ею и вообще вести
интимную беседу двух людей, которые находят друг в друге наслаждение, а Зося,
как говорилось, охваченная моим чувством, становилась все активнее. А попочка,
неправдоподобно жарившая и вознесенная на высоту шести миллиардов кубических
километров, опустошала долину мира.
Это была деревенская
барышня, воспитанная своей матерью, а моей теткой, Гурлецкой, урожденной Лин, а
также прислугой — до сего дня она либо немного училась и посещала Высшую школу
садоводства и Торговые курсы, либо чуток варила варенье, либо помаленьку
собирала смородину, либо развивала ум и сердце, либо немного сидела, либо
подрабатывала в конторе в качестве технической сотрудницы, либо капельку играла
на фортепьяно, либо чуть-чуть ходила и говорила что-нибудь, но прежде всего она
ждала и ждала того, кто придет, полюбит, похитит. Это была великая специалистка
по ожиданию, мягкая, податливая, робкая, и оттого у нее часто болели зубы, так
как она великолепно подходила к приемной стоматолога, а зубы ее знали об этом.
И вот теперь, когда наконец ожидавшийся явился и похитил, забрезжил этот
торжественный день, она развернула интенсивную деятельность и принялась
красоваться, выказывать, выворачивать наружу все козыри и демонстрировать их,
чуть гримасничая, улыбаясь и подпрыгивая, закатывая глаза, смеясь зубами и
радостью жизни, жестикулируя или напевая мелодию под нос, дабы дать
свидетельство своей музыкальной культуры (ибо она немного играла на
325
фортепьяно и умела исполнить
«Лунную сонату»). Кроме того, она выдвигала и выставляла те части тела, которые
были получше, худшие прятала. А я должен был смотреть и поглядывать,
прикидываться, будто меня это забирает, и вбирать это в себя... А попочка,
возвышенная и высокая, на безбрежной голубизне небес господствовала над миром и
светилась, яснела, блестела и, пригревая, припекая, иссушала травы и растения.
А Зося, поскольку она знала, что люди в любви счастливы, была счастлива — и
поглядывала лучистым, ясным взглядом, и я тоже должен был поглядывать. И она
шептала:
— Я бы так хотела, чтобы всем было хорошо и
чтобы все были счастливы, как мы, — если все будут добрые, то все будут
счастливы.
Или говорила:
— Мы молоды, любим
друг друга... Нам принадлежит мир! — И льнула ко мне, а я к ней должен был
льнуть.
И в убеждении, что я
люблю, она раскрылась передо мною, и разоткровенничалась, и стала говорить со
мною искренне и доверительно, чего никогда ни с кем себе не позволяла. Ибо до
сих пор она панически боялась людей, и, будучи воспитана моей, уже захваченной
кучей теткой, Гурлецкой, урожденной Лин, а также прислугой в известной
аристократической изоляции, она никогда ни с кем не откровенничала из опасения
подвергнуться критике или быть истолкованной неправильно, и она была словно бы
внутренне неустроенной, не определенной и не обозначенной, не
проконтролированной и не уверенной в том впечатлении, которое она производит.
Она непременно нуждалась в доброжелательстве, не могла без доброжелательства,
могла говорить только с тем, кто загодя и a priori был настроен к ней
доброжела-
326
тельно, тепло... Но теперь,
видя, что я люблю, и полагая, что нашла себе теплого поклонника a priori, абсолютного,
который все, что она ни скажет, примет с любовью, ибо любит, она стала
откровенничать и выворачиваться наизнанку, рассказывала о своих печалях и
радостях, вкусах и симпатиях, энтузиазме, иллюзиях и разочарованиях, восторгах,
чувствах, воспоминаниях и обо всех мелких подробностях — ха, нашла-таки того,
который любит, перед кем можно выговориться, уверенная в безнаказанности,
уверенная, что все будет принято без последующего наказания, с любовью,
тепло... А я должен был подтверждать и принимать, восторгаться...
И она говорила: —
Человек должен быть всесторонним, совершенствоваться духовно и физически,
должен всегда быть прекрасным! Я за полноту человечности. По вечерам я люблю
упереться лбом в оконное стекло и закрыть глаза, я так отдыхаю. Я люблю кино,
но обожаю музыку. — Я же должен был подтверждать. И она продолжала щебетать,
что утром, проснувшись, она обязательно трет себе носик, уверенная, что носик
не может оставить меня равнодушным, и заливалась смехом, и я тоже заливался. А
потом печально говорила: — Знаю, что я глупа. Знаю, что ничего как следует не
умею. Знаю, что некрасивая... А я должен был отрицать. А она знала, что я
отрицаю не во имя действительности и не ради правды, но только потому, что
люблю, и она принимала эти отрицания с наслаждением, восхищенная, что нашла
абсолютного поклонника a priori, который любит, который соглашается,
принимает и воспринимает все-все доброжелательно, тепло...
О, мука, которую мне
приходилось выносить, дабы спасти по крайней мере видимость зрелости на этих
тропках, бегущих по стерне, когда там, вдалеке,
327
катались и гадко тузили друг
друга народ и господа, а высоко подвешенная попочка, жуткая, безжалостная,
зенитилась, сияла наконечниками лучей, миллиардами стрел — о, теплое
доброжелательство, убивающая, стреноживающая нежность, взаимное восхищение,
влюбленность... О, наглость этих бабенок, таких падких к этой сыгранности
любви, так скорых на то, чтобы стать объектом восторга... Как она смела, будучи
мягкой, ничтожной и никакой, соглашаться на мой пыл и принимать культ, лакомо,
алчно насыщаться моим поклонением? Существует ли на земле и под попочкой,
раскаленной и пышущей жаром, вещь более страшная, чем это женское теплецо, это
стыдливое, доверчивое самообожание и втягивание в себя?.. И что еще хуже, дабы
ответить взаимностью и подкрепить соглашение о восторге, она стала восторгаться
мною — и с интересом, со вниманием принялась расспрашивать меня обо мне не
потому, что действительно интересовалась, а брала реванш — ибо знала, что, если
она будет мною интересоваться, я тем более буду интересоваться ею. Так я был
принужден говорить ей о себе, а она слушала, положив головку мне на плечо, и
время от времени перебивала вопросами, чтобы подчеркнуть, что слушает. И в свою
очередь кормила меня своим восторгом, прильнув ко мне, влюбленная, что, мол,
так я ей нравлюсь, что сразу же я произвел на нее впечатление, что она любит
все больше, что я такой смелый, такой отважный...
— Ты меня похитил, —
говорила она, упиваясь своим говорением. — Не всякий на такое решился бы.
Полюбил и похитил, ни о чем не спрашивал, только похитил, не испугался
родителей... нравятся мне твои глаза, смелые, бесстрашные, хищные...
И под ее восторгом я
извивался, как под кнутом
328
дьявола, а попочка,
огромная, инфернальная, светила и пронизывала сверху, словно универсальный знак
вселенной, ключ ко всем загадкам, абсолютный знаменатель вещей. Вот, прильнув
ко мне, она лепила меня для себя и тепло, несмело, неумело превращала меня в
миф по своему вкусу, и я чувствовал, что она неумело обожает мои достоинства и
добродетели, отыскивает их и находит, распаляется и разжигает себя... Взяла мою
руку и стала ее ласкать, и я тоже ласкал ее руку — а попочка, инфантильная,
инфернальная, подбиралась к зениту, к кульминации и жарила сверху вертикально
вниз.
И, подвешенная у
самой вершины пространства, она испускала свои золотистые, серебристые лучи на
всю юдоль от горизонта до горизонта. А Зося все крепче прижималась ко мне, все
теснее соединялась со мной и вводила меня в себя. Спать мне хотелось. Я не мог уже ни идти дальше, ни слушать,
ни отвечать, однако же, должен был идти, слушать, отвечать. Мы шли по каким-то
лугам, а на этих лугах трава была зелено-зеленая и зеленеющая, вся в желтых
калужницах, но калужницы были робкие, прильнувшие к траве, а трава немного
скользкая, влажная и чуточку подмокшая, жарко курившаяся под неумолимым пеклом
сверху. Много появилось и примул по обеим сторонам тропинки, но примулы были
какие-то чайные и квелые. Много на склонах анемонов, много дынь. В воде, во
влажных канавках водяные лилии, бледные, выцветшие, нежные, белесые, в
полнейшем покое и в припекающем, душном зное. А Зося все льнула и
откровенничала. А попочка покушалась на мир. Низенькие деревца, само вещество
которых было как бы худосочным и хворым, походили скорее на грибы и были так
напуганы, что, когда я дотронулся до одного, оно тут же треснуло. Тьма
чирикающих воробьев. Сверху
329
облачка, розовые, беловатые
и голубоватые, а может, муслиновые, плохонькие и чувствительные. И все
неопределенно в своих очертаниях, все так размазано, тихо и стыдливо, все такое
притаившееся в ожидании, нерожденное и неопределенное, что, в сущности, ничего
здесь не было отделено и выделено, но каждый предмет соединялся с другими в
сплошное месиво, белесое, пришибленное, тихое. Хилые ручейки журчали, омывали,
иссякали и испарялись, либо кое-где побулькивали, образуя пузырьки и пену. И
мир этот уменьшался, словно бы становился теснее, сжимался, а сжимаясь,
напрягался и напирал, даже стискивал шею, как нежно душащий ошейник. А попочка,
абсолютно инфантильная, отвратительно покушалась сверху. Я потер лоб.
— Что это за
местность?
А она повернула ко
мне свое бедное, хрупкое, усталое лицо и ответила стыдливо и нежно, тепло
прильнув к моему плечу:
— Это моя местность.
У меня перехватило
горло. Сюда она меня привела. Ах, так, все это, значит, было ее... Но мне
хотелось спать, голова моя свесилась, не было сил — ох, оторваться,
отодвинуться хотя бы на шаг, отпихнуть на расстояние руки, ударить злобой,
сказать что-нибудь недоброжелательное, разбить — быть злым, ах, быть нехорошим
для Зоси! Ах, быть нехорошим для Зоси! Я должен, должен, — думал я сонно, а
голова моя упала на грудь, — я должен быть нехорошим для Зоси!» О, холодное как
лед, спасительное, живительное недоброжелательство! Самое время быть нехорошим.
Нехорошим должен я быть... Но как же быть мне для нее нехорошим, когда я
хороший — когда она меня завоевывает, пронизывает меня своею добротой, а я
своею ее пронизываю, и
330
льнет ко мне, и я к ней
льну... помощи ниоткуда! На этих лугах и полях среди робкой травы только мы
двое — она со мной, и я с нею, — и нигде, нигде никого, кто бы спас! Я только один с Зосей — и с попочкой,
словно бы замершей на небосклоне в своем абсолютном постоянстве, лучистой и
излучающей, ребячьей и оребячьивающей, замкнутой в себе, погруженной в себя,
сосредоточенной в себе и зенитной в застывшей кульминационной точке...
О, третий! На
помощь, спасите! Прибудь, третий человек к нам двоим, приди, избавление, явись,
дай мне уцепиться за тебя, спаси! Пусть же он прибудет сюда сейчас же,
немедленно, третий человек, чужой,
незнакомый, сдержанный и холодный, чистый, далекий и нейтральный, пусть он, как
морская волна, ударит своей чужеродностью в эту душную свойскость, пусть
оторвет меня от Зоси... О, третий, приди, дай мне опору для сопротивления,
позволь зачерпнуть из тебя, приди, живительное дуновение, приди, сила, оторви
меня, отцепи и отдали! Но Зося прильнула ко мне еще нежнее, теплее, ласковее.
— Чего ты зовешь и
кричишь? Мы одни...
И подставила мне
рожу свою. А у меня недостало силы, сон напал на явь, и я не мог — должен был
поцеловать своею рожею ее рожу, ибо она своею рожею мою рожу поцеловала.
А теперь прибывайте,
рожи! Нет, я не прощаюсь с вами, чужие и незнакомые морды чужих, незнакомых
морд, которые будут меня читать, я приветствую вас, приветствую, прелестные
букеты из частей тела, теперь пусть только и начинается — прибудьте и
приступите ко мне, начните свое тисканье, пристройте мне новую рожу, чтобы
снова надо было мне удирать от вас в других людей и гнать, гнать, гнать через
все человечество. Ибо некуда удрать от
331
рожи, кроме как в другую
рожу, а от человека спрятаться можно лишь в объятиях другого человека. От
попочки же вообще нельзя удрать. Преследуйте меня, если хотите. Я убегаю с
рожею в руках.
Вот и всё — пропел
петух,
А читал кто, тот лопух!
В. Г.
ОТ
ПЕРЕВОДЧИКА
Мое восхищение Витольдом Гомбровичем началось с ошеломленности его
языком: «неверным», нарушающим, казалось бы, все нормы и правила, но
удивительно свободным, точным и никогда не отступающим от законов и духа
польской речи. Стоит только вслушаться, вчувствоваться в прозу Гомбровича, в
этот бурно скачущий фантасмагорический поток слов и фраз, выстраивающихся в
некую чудовищно четкую, безжалостную картину душевного и духовного мира
«героев» автора Фердидурка, как
начинаешь понимать, что Гомбрович и не прозаик вовсе, а поэт, обладающий к тому
же даром пророчества. Оттого-то его проза так красива и лирична даже тогда,
когда она повествует о безобразном, оттого-то
она так бередит душу, оттого-то его прозу, как и подлинную поэзию, невозможно
пересказать «своими словами». Разумеется, это представляет немалую трудность
для переводчика, но и способно доставить ему много по-настоящему счастливых
минут.
Фердидурка в России, вернее, еще в Советском Союзе, впервые была напечатана в первом номере журнала Иностранная литература за 1991 год — на
самом излете горбачевской перестройки. В издательстве Художественная литература готовился уже и трехтомник Витольда
Гомбровича, но, увы, этому не суждено было осуществиться.
И вот теперь, спустя десять лет, и у нас в стране Фердидурка наконец-то выходит книгой. Странно, но этот временной
срок — 10 лет — словно преследует самое знаменитое и самое мощное создание
Витольда Гомбровича.
В первый раз роман увидел свет в 1937 году в Варшаве (Тоwarzystwo Wydawnieze Rόj; помечено, однако, это издание было 1938-ым годом).
В 1947 году Фердидурка вышла
в испанском переводе в Буэнос-Айресе (Издательство Argos). Готовя роман к печати, писатель заново отредактировал его, в частности,
существенно переработал IV главу.
В 1957 году роман Витольда Гомбровича во второй раз был издан в Польше,
переживавшей тогда краткий период «оттепели» (Warszawa, Panstwowy Instytut
Wydawniczy). Именно это польское
333
издание,
готовившееся с учетом авторской редакции 1947 года и при деятельном участии
жившего тогда в Аргентине писателя, можно считать «каноническим». Оно было
повторено и в Собрании сочинений Витольда
Гомбровича, вышедшем в Польше в 80-ые годы (Witold Gombrowicz Dziela, tom II, Wydawnictwo Literackie, Krakόw-Wroclaw, 1986). С этого издания и сделан настоящий
перевод.
Редакторы Собрания сочинений в
комментариях к Фердидурке подробно
рассказали об изменениях, внесенных Витольдом Гомбровичем в испанское издание
романа 1947 года. Ниже приводятся наиболее существенные из них. (Ссылки на страницы
и абзацы даются по настоящему изданию.)
ГЛАВА II
С. 45. (3-й абзац сверху) — текст со слов «Мы невинны?» и до конца абзаца — отсутствовал в первом издании.
С. 56. (перед 3-им абзацем
снизу, начинающимся словами «Он
расклеился») — автор вычеркнул следующий
текст:
«— Не бойся, Ментек, — утешал его Гопек, — я им покажу! Надерусь и
отколошмачу кого-нибудь! Ментек, вот увидишь, я им покажу! Я им покажу отрока!
Ментус похлопал его по плечу: — Покажешь! Покажешь! Иди, покажи, покажи
— деточка. Деточка! Что вы говорите? Что это вы такое говорите? Кто нам велит
все это говорить? Да вы себя-то слышите? Или все потому, что Сифон говорит
что-то этакое... так и нам что ли надо?»
С. 59—61. Текст, начинающийся словами «— А если я вовсе не восхищаюсь...(с. 66) и кончающийся первым абзацем
на с. 69 («— Ну вот видишь...»), в первом
издании был в следующей редакции:
«— А если я вовсе не восхищаюсь? Вовсе не восхищаюсь? Не захватывает
меня! Не могу прочесть больше двух строф, не захватывает и все. И тете тоже
неинтересно. И дядюшке не. У нас дома этого никто и в руки не возьмет. И
приятели тоже не! Святые угодники, спасите, как это я восхищаюсь, когда вовсе
не восхищаюсь? — Он вытаращил глаза и осел, словно погружаясь в какую-то
бездонную пропасть. На это наивное признание все сочувственно заулыбались, а
учителя прямо закупорило. Глазом, налившимся ужасом, он покосился на дверь и
цыкнул:
— Тише, Бога ради! Я ставлю Галкевичу кол! Галкевич погубить меня
хочет? Галкевич, видимо, и сам не понимает, что он такое сказал? Галкевич
позволил себе оскорбить поэта-пророка!
Галкевич:
— Но я не могу понять! Но я не могу понять! Тра-ля-ля, тетя, дядюшка,
приятели, никто, никто, нигде никто! Не видел я, чтобы кто! Я никогда! О Боже,
Боже!
334
Преподаватель:
— Бога ради тише! Галкевич, у меня жена и ребенок! Да вы, Галкевич,
хоть ребенка-то пожалейте.
Галкевич:
— Да не могу я.
Преподаватель:
— Галкевич, обращаю внимание, что он не только поэт, но и пророк. Боже
милостивый, да ведь я часами втолковывал, в чем состоит бессмертная красота вершин
поэзии. Да мы же проходили стихотворение за стихотворением.
Галкевич:
— Мы проходили а в меня никак не проходит.
Преподаватель:
— Ну, это, Галкевич, ваше личное дело. Вы, Галкевич, видно,
неинтеллигентны! Но пусть Галкевич
Галкевич:
— Да ведь никого ничего! Честное слово! Никого, Господи Иисусе! Даю
честное слово, не преувеличиваю — хоть бы разок в жизни увидеть, что кто-то по
доброй воле читает, без принуждения... да ведь никто же! Интеллигенты тоже не!
О Боже! — Обильный пот оросил лоб преподавателя, он вытащил из бумажника
фотографию жены с ребенком и пытался тронуть ими сердце Галкевича, но тот лишь
твердил и твердил свое: — не могу, не могу. И это пронзительное — не могу
растекалось, росло, заражало, и уже из разных углов пополз шепот — мы тоже не
можем, и нависла угроза всеобщей несостоятельности. Преподаватель оказался в
ужаснейшем тупике. В любую секунду мог произойти взрыв — чего? —
несостоятельности, в любой момент мог раздаться дикий рев нежелания и достичь
ушей директора и инспектора, в любой миг могло обрушиться все здание, погребя
под развалинами ребенка, а Галкевич как раз и не мог, Галкевич все не мог и не
мог. — Несчастный Бледачка почувствовал, что ему тоже начинает угрожать
несостоятельность. — Пылашчкевич! — закричал он. — Ты должен немедленно
доказать мне, Галкевичу и всем вообще красоту какого-нибудь замечательного
отрывка! Поторопись, ибо реriculum
in mora! Всем слушать! Если кто пикнет, устрою
контрольную! Мы должны мочь, мы должны мочь, ибо иначе с ребенком будет
катастрофа. — Пылашчкевич встал и начал: — В первой строфе поэт обращается к
прошлому. Он ищет в себе силы!
Сифон ни в малейшей степени не поддался всеобщей и столь внезапной
несостоятельности, напротив — он мог всегда, поскольку именно в
несостоятельности черпал он свою состоятельность. Так что он продолжал и
продолжал совершенно свободно, словно и не было вовсе никакого тупика. Во
второй строфе он находит эту силу в слиянии с
335
высшими
духами светозарности, в чем просматривается влияние Товянщины. В третьей
строфе, исполненный сил, он бросает вызов всему миру, а также утверждает, что
его Бог — не Бог ползучих гад, но Бог гигантских птиц летающих с громоподобным
шумом, и не обуздывать коней он рад. В четвертой и пятой строфах он страдает
над недолею Отчизны угнетенной, а потом, в шестой, в бунтарском порыве
провозглашает себя королем Народа В этом отрывке вдохновение его достигает
вершин, при этом поэт прибегает к дактилю, перемежаемому ямбическим размером, а
рифмы — мужские и женские. В седьмой строфе, испытывая еще больший подъем, он
вызывает на бой Мицкевича, у которого стремится вырвать властительство над
душами! В восьмой строфе... В девятой строфе... Горы, леса, деревцо, горки,
ямки, колыбельки, долина, чернила, кинжал, угроза несостоятельности была
отброшена, ребенок спасен, жена тоже, и уже каждый соглашался, каждый мог и
только просил — кончить. И тут я заметил, что сосед мажет мне руки чернилами —
свои собственные уже намазал, а теперь подбирается к моим, ибо ботиночки
снимать было трудно, а чужие руки тем ужасны, что, в сущности, такие же, как
собственные, ну так что ж с того? Ничего. А что с ногами? Болтать? И какой
толк? Спустя четверть часа сам Галкевич застонал, довольно, мол, он, дескать,
может, он уже признает, схватил, сдается, соглашается, извиняется и может. —
Вот видите, Галкевич?! А теперь, господа, я перехожу ко второму, несравненно
более важному пункту своего изложения. Мы восторгаемся и любим потому, что он
великий поэт, но мы любим и почитаем потому, что он пророк! Пророком он был!
Пророчествовал! Прошу вас записать — он был пророком! Насущное слово!»
ГЛАВА III
С. 76. Вместо фразы «— Не успел я кончить, как он заорал» (11-ая
строка сверху) в первом издании был такой текст:
«— Почему?
— Банально!
Не успел я кончить, он обанальнял как бы нарочно и отрезал: »
С. 77. (3-я строка снизу.) — После первой фразы (— Ты бы хотел...) стояло: — Я
бы хотел!
Следующая фраза начиналась с новой строки.
С. 79. (1-й абзац снизу.) —- После второй фразы (...ты их строишь идеалам?) автор изъял следующий отрывок:
«Черт, черт... не волнуй меня, пожалуйста, не волнуй, неужели ты не
можешь не раздражать меня? О чем ты грезишь, паренек ты мой милый? Ну чего тебе
стоит взглянуть на меня, орел ты мой? Крайне трудно беседовать с тем, кто
глядит в пространство».
336
Фраза («Не соблаговолишь ли
взглянуть на меня?») в первом издании имела
продолжение:
«...на меня, скромного слугу твоего — вот, тут, подле тебя?»
С. 81. (12-ая строка сверху.) — В 3-ей фразе после слов «...этого новенького» вместо «который сегодня прибыл в школу.» было:
«с которым, как вы утверждаете, мне предстояло строить мины. Это
великий знаток мин, пусть он и решает в случае каких-либо сомнений».
С. 88. (3-й абзац сверху.) — («Один
лишь Копырда...»). После слов «ногами
своими» автор опустил одно слово: «домой».
С. 90. (1-й абзац снизу.) — Первая фраза: «Сифон не обращал на это внимания...»
звучала так: «Сифон вовсе не обращал внимания...»
ГЛАВА IV
С. 102. Начиная со второго абзаца и до конца главы, в первом издании
вместо существующего был следующий текст:
«Вот тут и коренится фундаментальная, капитальная и философская
причина, побудившая меня воздвигнуть сочинение мое на принципе отдельных
частей. Нет уж, — если говоря, я не могу не противостоять действительности,
если форма, стиль, композиция и конструкция всего лишь мистификация, то я
предпочту откровенную искусственность в основании обычных частей тела вашим
«реалистическим» и «аутентичным» стилям, которые, в конце концов, после
длительных упражнений, так и льются из вашей души. Говорили мне бабы, будто в
разговорах и на бумаге я был чересчур мутен и сложен. Гуси гогочут, не прилагая
к тому никакого труда, — но пусть уж они не принуждают человека, серьезного, в
сущности, влезать в каждое слово, которое соскользнет у него с языка. Вы,
однако, возразите мне на это: — Позвольте! Что же в том дурного? Если каждый
призван существовать частью, отчего нам бунтовать против естественных законов
(ибо того, что общепринято, никто не должен стыдиться). Разве призвание
писателя не в том как раз, чтобы — конструировать себя, а также конструировать
других? Что нам за дело до житейских мелочей, как то — читатель, ноготь, муха
либо телефон, мы служим вечным, абсолютным ценностям Красоты, Добра, Правды, мы
преклоняем колени пред алтарем Искусства, а если кто-то нас не признает, тем хуже
для него, мы беседуем с Богом, читатель же только привесок, в Боге черпаем мы
ценность свою. Господа, если бы и вправду в ваших силах было черпать ценность
из чистого источника Творца. Но это неправда. Ой, неправда, пожалуй, ой,
неправда! И вот, указывая на то, что неправда, укажу также и на то, почему я
воздвиг свою конструкцию не на частях вообще, но на частях тела, да к тому же
не на частях тела вообще, а на частях тела человеческого.
337
Ибо тот Бог, перед которым вы стоите на коленях, никакой для вас не Бог
вовсе — никакой не абсолют — это всего лишь часть, а точнее говоря, средство
для обретения человека, и я утверждаю, что если бы у вас была возможность
добиться благосклонности человеческой с помощью дьявола, вы с тем же
благоговением стояли бы на коленях перед дьяволом. Для вас искусство не
существует само по себе, оно всего лишь мостик к человеку. Мы слишком склонны
забывать, что чувственно окончательно запутались в человеческих частях, склонны
забывать о промежуточности, о врожденной второстепенности, а ведь это мысль,
без которой и шагу ступить нельзя. Каждый, кто водит пером по бумаге, мнит себя
художником и на этом-то основании чувствует свою близость с такими гигантами
духа, как Шекспир и Гете, повторяет их, не слыша, что их слова в его устах —
соловьиная трель в клюве воробья. Не спорю, Данте, Шекспир, Гете в искусстве —
как у себя дома, и верю, что, когда они пишут драму или поэму, искусства вполне
им хватает, сиюминутность превращается в вечность, часть в целое. И в своем
творчестве они реальны вдвойне — ибо они в состоянии самовыражаться в чистом
искусстве, а творения их, тем не менее, имеют объективную ценность, остаются
жить. И потому, стало быть, хотя им порой не может не докучать заурядная
частичность, они достаточно могучи, чтобы осуществиться в самой лучшей своей
частице. И они могут любить искусство, поскольку искусство любит их; они могут
любоваться словом, поскольку слово служит им — божественное наслаждение
великих! А вы, господа? Вы со своими частями тела?
Но сначала скажите мне — любите ли вы, когда по улице шествует оркестр,
бубны бьют бум, бум, бум, флейты — фью, фью, фью, трубы хуу, ху, ху, муху,
муху, а люди стоят у окон, или сидят, вслушиваясь
в звуки и мелодию? Где, в чем реальность второстепенного писателя? В чем он
настоящий? Рядовой производитель дешевой бульварной сенсации, способный
пробуждать в массах волнение, оказывать на них воздействие, в сравнении с таким
второстепенным титан действительности. Вот те, кого признал человек. А Шекспир
и Гете, принцы Божьей милостью, это те, кого признал Господь. А вы,
промежуточные? Вы слишком трудны и сложны, чтобы оказать влияние на широкие
читательские массы вы слишком мелки, чтобы обрести реальность духа. Кандидаты и
соискатели величия, вечные неумехи, вечные троечники, слуги и эпигоны мастеров,
повторяющие их правды, которые они выразили вдесятеро лучше, почитатели и
поклонники искусства, не пускающего вас дальше своей передней. Воистину,
страшно смотреть, как вы стараетесь и как у вас ничего не выходит, как всякий
раз вам говорят, что еще не совсем, а вы опять лезете с новым произведением,
как вы стремитесь навязывать эти свои произведения, как спасаетесь кошмарно
второсортными успехами, как раздаете друг другу комплименты,
338
устраиваете
художественные вечерочки, водите за нос себя и окружающих все новыми и новыми
поделками собственного неумения. Вы даже лишены радости сознавать, что то, что
вы пишете и варганите, имеет хоть какое-то значение. Ибо все это, повторяю,
лишь подражательство, все подсмотрено у мастеров, — это категории величия, в
которых только величие истинно. И я допускаю, что Гете, когда он писал Фауста, в процессе писания не скучал. Но
вам должно быть безумно скучно, когда вы складываете своих крохотных и
сереньких Фаустиков, взяв за образец чужой гений, и произносите слова,
выражаете мысли и чувства, которые вам, что апельсины свинье. И я допускаю, что
Шекспир и Гете скорее подали бы руку автору заурядного детектива или дорожного
чтива, а не вам. Ведь детектив, если он популярен, держится на собственных
ногах, на ногах своих читателей а вы вцепились в Достоевского, хватаете его за
полу, убого передразниваете то, что он сказал хорошо, устраиваете изобилие,
толкотню, давку там, где толкотне места нет. Ваше положение ложно, и будучи
ложным, оно с неизбежностью приносит горькие плоды — и вот уже в вашем кругу
нарастает взаимная неприязнь, пренебрежение, злословие, всякий презирает других
и себя в придачу, вы братство самопрезрения — так что, в конце концов, ваше
самопренебрежение убьет вас. Ибо на чем еще, в сущности, зиждется положение
второсортного писателя, если не на всеохватном великом отпоре? Первый и
безжалостный отпор дает ему рядовой читатель, который решительно не желает
наслаждаться его произведениями. Второй и позорный отпор дает ему собственная
его действительность, которую он не сумел выразить. А третий отпор и пинок,
самые позорные изо всех, он получает от искусства, в котором он укрылся, но
которое презирает его как неумеху и недоросля. И это переполняет чашу позора.
Тут уж начинается полная бездомность. Это доводит до того, что второстепенный
становится объектом всеобщих насмешек, ибо попадает под перекрестный огонь
отпоров. Воистину, чего ждать от человека, трижды получившего отпор, да еще
один другого позорнее? Разве отделанный таким образом человек не должен уехать,
забиться в угол, убраться с глаз долой? Разве ничтожество, выставляющее себя на
всеобщее обозрение, жадное до почестей может быть здоровым, и разве не должно
оно вызывать у природы икоту?
Но сначала ответьте мне — разве, по вашему мнению, Бере лучше и сочнее
Ананасовки, или, скорее, склонны ли бы отдать предпочтение одному сорту груш
перед другим? И любите ли вы есть их, удобно сидя в плетеном кресле на веранде? Позор, позор, господа, позор и
позор! Я не философ и не теоретик — я о вас говорю, о вашей жизни думаю, так
поймите же, меня мучит лишь ваше личное положение. Нельзя оторваться.
Невозможно перерезать пуповину, соединяющую тебя с людским неприятием.
Отторгнутая душа — не вынюханный
339
цветок —
конфетки, которым хотелось понравиться, а они не понравились, — отвергнутая
женщина — все это неизменно вызывало у меня прямо-таки физическую боль, я не
могу вынести своего неудовлетворения — и когда я встречаю в городе кого-нибудь
из художников и вижу, что заурядный отпор лежит в основании его существования,
что каждое движение, слово, вера, энтузиазм, запятая, обида, гордость, жалость,
горечь отдают заурядным, обидным отпором, мне делается стыдно. И стыдно мне не
потому, что я ему сочувствую, но потому, что я с ним сосуществую, что
призрачность его задевает меня и так же точно задевает каждого, в чье сознание
она проникает. Верьте, самое время разработать и утвердить позицию
второсортного писателя, ибо иначе всем людям будет плохо. А вот три главные
общественные последствия троякого отпора: первое, это то, что, как я отметил,
личная жизнь такого человека представляет собою скандал, который должен
деморализовать окружающих. Второе, это то, что человек, пребывающий в
обстоятельствах во всех отношениях убогих, не в состоянии произнести ни одного
слова, которое не было бы барахлом; и мы, в самом деле, видим, что плоды,
выращиваемые этими людьми, — дешевка, самая опасная, какую только можно себе
представить, ибо это дешевка, сводящая к банальностям высочайшие ценности
культуры, причем до такой степени, что остается удивляться, отчего закон до
сего времени не взял под свою защиту от плагиата высокий дух. Третье, это то,
что подобное перманентное воровство вершится в сфере, необыкновенно ценной для
каждого, — в сфере человеческой речи, — что тут жертвою становится язык.
В сущности, пусть слово будет либо инструментом реального интереса
личности, либо же пусть оно откровенно и бескорыстно служит чистому созерцанию
и высшему, объективному познанию; когда, однако, кто-то лжет, не добиваясь
ложью никакой реальной выгоды, напрашивается вопрос, зачем он лжет и зачем
вообще живет? Разве не должен человек стремиться к возможно наиболее точному
выворачиванию себя наружу? Если в голове другого человека возникает ложное
представление о тебе, разве это не самый большой урон жизни? Ибо если ты
фальшив в его глазах, то и он должен в твоих глазах выглядеть фальшивым, а уже
потом все тут оборачивается сном, пронизанным ложью. Однако, глядя на вас,
могло бы показаться, будто человек страшится действительности как своего смертельного
врага, что его призвание издеваться над нею, раздувать ее по своей прихоти, что
пишущий человек нужен не для отыскания реалий, но для того, чтобы выдуманными
сказочками оболгать мир до невозможности, сверх всякой меры. Неужели вы не
понимаете, что последовательный, твердый курс на правду — это постулат не
только жизни, но и достоинства? Посмотрите, как неутомимо великая и неумолимая
действительность, темная стихия
340
разоблачает
и компрометирует тех, кто во что бы то ни стало хочет запереться в своей
частичке, — ложь убивает их на месте! Какое же это бесстыдное вранье! Какой же
циничный и глупый вздор! Наша частица никак не может быть нами; она либо хуже
нас, и тогда мы лучше ее; либо же она лучше, и тогда хуже мы. Наши произведения
всегда компрометируют нас — потому, что они или лучше, или хуже нас. Мы
выплевываем слово, книгу, произведение, фразу, которые не наши, а что-то
случайное, равнодействующее тысяче факторов, и только после этого лихорадочно
приспосабливаем себя к этому, создаем себе реальносгь на принципах части, дабы
она создавала нас. Так постоянно в истории рождаются бесподобные чудачества
высшего света, все эти кринолины, брюки гольф, фраки и помпоны интеллигентов,
забившихся в бутылку частицы. Посмотрите на народ, который, едва выросши из
земли, не так уж и почитал части — насколько же меньше, чем вы, осмеял он себя
за века. Святой и добрый народ всегда был более или менее реальным и
нормальным, одна интеллигенция, оседлав частицу, шутовски носилась под
потолком. Воистину, могло бы почудиться, будто чем человек умнее и способнее,
тем более подвержен он глупости, преступлению и безумию. Такой человек, вместо
того, чтобы просто-напросто признать, что он солгал, не остановится перед
кровью, убийством, поджогом, чужой смертью, да и собственной тоже, — лишь бы
придать реальность лжи, и в этой убогой смерти за бахвальство попытается
усмотреть еще одно свое право на превосходство. А затем всех вокруг примется
заталкивать в эту часть per
fas et nefas, будучи готов, скорее, весь мир подогнать под себя, чем себя под мир,
— а поскольку каждый делает это на свой лад что захочет его рука, нога,
попочка, возникает уморительная суматоха, начинается взаимное мордобитие, все
более настойчивое и до такой степени фальшивое, что даже страдание перестает быть
важным, а смерть превращается в психическую процедуру. Как же много сегодня
людских сообществ, насильно загнанных в частичку, скачущих на частичке, словно
на коне, в темное будущее, — а рядовой прохожий не понимает, что случилось,
почему эта частичка, а не другая, отчего не та, почему таким вот образом велят
ему одурманиваться, а не каким-нибудь иным, отчего это, а не то, — и, сидя на
земле, он плачет, а одновременно шествует, распевая гимн, тогда как бубны бьют
бум, бум, бум, флейты фью, фью, фью, а трубы и тромбоны муху, муху, муху, ме,
ме, ме — и части его тела запущены и крутятся все скорее и яростнее, а сам он
между тем сидит на земле, обливаясь
горючими слезами.
Господа, если бы мне было позволено тут, на этом самом месте, описать
второсортного творца, я бы сказал вот что. Заплутавшись в туманных общих
местах, теориях и иных концепциях, которые неутомимо производят тысячи
эстето-философствующих знатоков, вы утратили спасительное чувство реальности и
ошибочно видите реальность ваше-
341
го
мастерства там, где ее нет и в помине, то же, что представляет собою подлинный
смысл ваших начинаний, вы склонны считать неприятным приложением. Второсортный
творец на старый лад, по примеру гениев и мастеров, Искусство почитает высшей
целью, а то, что его, творца, не хотят и над ним издеваются, он называет ударом
судьбы и объясняет это низким культурным уровнем публики. Странная претензия,
от которой мир наверняка не изменится, и если гора не хочет идти к Магомету, не
должен ли Магомет идти к горе? Если же над вами смеются, выставьте целью своего
творчества то, чтобы не смеялись, а коли вас не хотят, то озабоченность,
которую это у вас вызывает, превратите в главный и официальный мотор
творчества, откровенно стараясь добиться того, чтобы вас захотели. Итак, вместо
горделивой и высокомерной позиции освященного высшим духом Творца я предлагаю
вам общительность, позицию убогую и низкую, позицию человечишки, который
сладкоречием своим ставит себя в смешное положение, компрометирует себя, но
который стремится не быть посмешищем и не позволять себя компрометировать. И
тогда, быть может, вы станете не так смешны, как сейчас, более естественны и
легче заслужите милость Божескую, да и человеческую тоже. Ибо комизм
осознанный, комизм, который оборачивается капитальной проблемой жизни, не
позорит в такой степени, как комизм, без спросу выползающий из-под воротничка.
И точно так же осознанное неуменье перестает быть позором. И миллионы людей,
испытывающих те же муки, что и вы, господа, но страдающих меньше вас из-за
отсутствия формы и сноровки выворачивать наружу свое нутро, с чувством
облечения будут приветствовать такое откровенное признание, эту писательскую
позицию, стократ более правдивую и достойную, чем прежняя. Ошибка, которую
нахально и повсеместно мы допускаем, состоит в том, что мы чересчур поспешно
отождествляем себя с нашей случайной формой и чересчур наслаждаемся ее
фальшивым блеском. Не забудем, однако, что второсортный писатель, как на то
указывает само это определение, не тот, кто владеет формой — он всего лишь жертва
которая, унижаясь, терпя насмешки и обливаясь потом, старается дотянуться до
формы, он тот, кто взбирается, но еще не взобрался, и тот, кто выпрямляется, но
еще не выпрямился. Так откуда же эта мина, будто все в вас уже было улажено,
урегулировано, упорядочено, откуда эта тяга к законченности? Неужели это так
трудно — вместо того, чтобы бахвалиться произведениями, стыдиться своих
произведений — и все-таки писать их?
Но утвердилось общее, хотя и ошибочное суждение, будто сладкопевец
обязан спрятать свою личность под своим произведением, будто он обязан скрывать
перед людьми амбиции, раздражения, всякие мелкие слабости и все, что служит
истинным мотором писания, и лишь произведение, взятое само по себе, отторгнутое
от человека,
342
представляет
собою истинную ценность. Какой убогий абсурд! И что же, жалкое, искусственное,
бездарное произведение должно прикрывать собою истинную, живую, реальную
личность, придуманная сказка — живую действительность? Если тягомотная драма,
которую ты написал, это сказочка, высосанная из пальца, — единственный ее
поистине драматический элемент состоит в том, что она не удалась, это драматизм
твоей бездарности. Люди в твоих романах вялы, неправдивы, неубедительны и
оторваны ото всего на свете — ты сам единственный твой персонаж, единственный
твой реальный герой. И если вы скажете, что ваша драма как раз и заключается в
несостоятельности драмы, что вы забавны и остроумны потому, что неспособны на
настоящую шутку и иронию, я соглашусь с вами; но не старайтесь поражать и
смешить нас чем-либо, кроме как самим собой. Однако же, к сожатению, вы
предпочитаете поставлять суррогаты и заменители, а не удовлетворять собою
непосредственно, и еще думаете, будто ваши недоношенные творения хорошо служат
Искусству. Господа, кто надает пощечин попочке, которую вы смеете обращать к
людям, падая на колени пред алтарем Искусства?
Итак, сладкопевец второй гильдии и второго хора — это не поставщик
Красоты или иных абсолютных потрясений, это человек, как и все, неискушенный и
неоперившийся, который всю жизнь тщится выговориться и что-то сообщить людям,
обрести форму и сделаться для ближних съедобным, приманить их к себе и стать
сносным в обществе и в своей среде, но которому это не совсем удается. И в этом
он схож с другими людьми, для которых речь — прежде всего инструмент, служащий
их личной выгоде, и которые говорят, чтобы протащить себя в других людей и
утвердиться в них. Разница только в том, что если другие люди прибегают ради
этого к помощи языка и действуют в узеньком кружке своих знакомых, писатель работает
пером и у него более широкая аудитория. И как в обыденной жизни люди
воспитываются и учатся на собственных и чужих ошибках, точно так же общество
может учиться необходимому стилю и способу жизни на ошибках писателя и,
наблюдая за его духовной схваткой с читателями за быт, делать из этого
эстетические и этические выводы. Но в таком случае необходимо, чтобы
второсортный не провозглашал никаких универсальных и космических правд, ибо тут
он солжет, но ограничивался одними только правдами личными, субъективными, ибо
тут он правдив. И не нужно ему придумывать своих героев, это ни к чему, он
постоянно должен иметь в виду самого себя, т?, каков он в отношениях с людьми;
не должен он своими второсортными размышлениями и философиями засорять
бездонные свалки библиотек, пусть говорит лишь тогда, когда ясно видно, что к
этому его толкает его собственный, личный
343
и житейский
интерес. И можете мне поверить — если бы я не чувствовал себя лично
оскорбленным общепризнанной сегодня позицией писателя, если бы не ощущал, как
она сковывает и искажает любое мое высказывание, как она меня компрометирует,
едва только я берусь за перо, я никогда и словечком не коснулся бы этой
материи. Но поскольку она меня затрагивает, поскольку это мое личное дело, я
вправе и буду высказьшаться до тех пор, пока солнце житейских реалий не оживит
нашу жизнь. Ибо так, как дело обстоит сегодня, это только позор и оскорбление
для всякого, кто вступает на литературное поприще, а стало быть, и для меня.
О, когда же, наконец, широкие массы станут рассматривать литературное
произведение в тесной связке с личностью его создателя, а личность создателя в
тесной связке с другими людьми. Когда же, наконец, они поймут, что всякое
слово, всякая форма не восходят к одной только личности, но рождаются из отношений
человека к человеку, что один и тот же автор может повести себя мудро либо
глупо, возвышенно либо низко, в зависимости от того, как на него нажмет, как
его ограничит другой человек. Что всякое произведение — всего лишь ничтожная
частичка человека, подобно тому, и человек — только частичка человечества.
Неужели мы никогда и не спустимся с позорящих нас облаков на почву
психологическо реализма? О, тяжко и глупо творить, когда все, что бы ты ни
сказал приписывают тебе целиком, будто никто иной и не говорил через тебя, лишь
ты сам, как будто твоя форма не была всего только искоркой между тобой и твоим
читателем, — когда ты никогда не мо жешь быть сам собою, то есть изменчивым,
недоразвитым, незрелым, живым, а должен выступать в фарсе какой-то надуманной неподвижности;
когда все полагают, будто ты пишешь не затем, чтобы меняться, лепить, развивать
и создавать, но именно потому, что ты уже создан и вылеплен. Неужели никогда
подлинное чувство одинаковости, зависимости, развития, перемены не облагородит
сегодняшнюю наивную и формалистическую концепцию мира и человека как чего-то
предопределенного и предустановленного, чего-то, что не шевелится, не живет?
Каким же еще должен быть писатель, которого природа не одарила духом
божественной гениальности? Такой писатель должен представать перед людьми во
всем своем живом несовершенстве, в своей незавершенности и неопределенности —
отбросьте фикцию законченности форм в искусстве второго ряда, пусть форма
создается только в соприкосновении с людьми и на глазах общества, пусть же
разгорится схватка между правдой частной и правдой общественной, и пусть в этой
схватке очистятся и та, и другая правды. Не приготовляйтесь, не оттачивайте
ничего в запертой комнате, дабы только потом
344
предстать
перед людьми готовыми и отточенными, предложив им произведение совершенное,
поскольку это (как учит опыт) не в ваших силах. Не пытайтесь писать книг
законченных и рассчитанных на целую вечность, пусть каждая книга будет книгой
сиюминутной, рожденной вашим нынешним положением в обществе и своем кругу. И
даже не пытайтесь забыть о людях из-за отвлеченностей, до которых вы не доросли
душой, напротив, пусть книга станет вашей игрой с человеком и пусть она будет
не результатом якобы бескорыстного созерцания жизни, но вашего личного, жизненного
интереса. Отбросьте объективные романы, драмы и всякие эпосы, примитесь за
более субъективные формы общения с людьми — пишите им письма, откровенничайте с
ними и исповедуйтесь им, дразните и провоцируйте их пером, чтобы и они вас
провоцировали, наслаждайтесь ими, чтобы и они вами наслаждались, расправляйтесь
с их помощью со своими комплексами, чтобы и они с вашей помощью могли
расправляться со своими, — вовсю используйте динамику и могучую оздоровляющую
мощь другого человека, заботьтесь о том, чтобы между вами и читателем возникло
такое нервное напряжение, когда обе стороны взаимно друг друга обтесывывают,
шлифуют, лепят. Как было до сих пор? А так, что писатель, чтобы стать
прославленным и приятным людям, — тайком творил искусство, а теперь, напротив, пусть
сладкопевец открыто борется с людьми за свою красоту и пусть из этого только,
на фоне этой житейской истории, как бы случайно и рождается искусство. И пусть
это происходит не на бумаге, а в живом человеке, пусть каждое произведение
что-то меняет в вашем отношении к людям, чтобы, выйдя утром в город, ты уже
почувствовал, что вот — что-то новое возникло между тобой и толпой. Отвоюйте
себе священное право на глупость, ошибку и неспособность: бросьте учить — пусть
они учатся на вас, мораль же пусть вытекает из вашего состязания с людьми,
отшельнический труд замените живым сотрудничеством с человеком.
И тогда только вы действительно послужите народу, государству, роду
человеческому — ведь род куда меньше печется о том, что в вас уже сглажено,
окультурено, упорядочено, чем о том, что не обуздано, индивидуально, не стадно.
И послужите высшей и всеобщей морали, ибо всякий, кто покорно смирится со своим
несовершенством, признает тем самым закон высшей нравственности. А тот, кто
несет в общество собственную действительность, полностью отдавая себе отчет в
том, что его частная правда, частичная и неполная, должна в любой момент
уступить высшей и всеобщей правде, тот самой жизнью своею оживляет великую
общечеловеческую правду, которая не произрастает из какой-то одной доктрины, но
всегда результат постоянно соперничающих друг с другом мил-
345
лионов
частных истин и жива жизнью своих частиц. И чем жизнеспособнее личность, чем
она правдивее, крепче укоренена в действительности и лучше осознает сама себя,
тем сильнее и правдивее человеческое сообщество, а вот декламация чужих
сокровищ, даже самых прекрасных, не ведет ни к чему. И как только, господа, вы
займете эту скромненькую, но верную позицию, честь ваша будет спасена. Ибо
произведение станет в таком случае всего лишь средством вашего общения с
людьми, ничем больше, сами же вы будете в чем-то лучше и в чем-то выше вашего
произведения. И если случится вам написать нечто никчемное и глуповатое,
скажите: — Превосходно! Я написал глупо, но я ни с кем не подписывал контракт
на поставку одних только мудрых, совершенных произведений. Я выразил свою
глупость и радуюсь этому, поскольку неприязнь и суровость людей, каковые я
вызвал против себя, формируют меня и лепят, как бы создают заново, и вот я еще
раз рожден заново. Разве такой ответ не погружает вас в божественную свежесть
жизни и реальности, разве вы не видите, как стремительно начинают увядать все
насмешки и оскорбления? Да, вот он путь, им и надо идти! Я требую, чтобы вы
отбросили прочь убеждение, будто писатель обязан быть слугою своего искусства
(удовольствие ли быть слугою плохого искусства?) — пусть же с этой минуты он
станет его господином, а не слугою. Я требую, чтобы вы перестали биться над
тем, чтобы приспособиться к произведению, перестали отождествлять себя с формой,
запираться в частице. Вместо того чтобы навязывать себе и другим эту вашу
случайную и скверную форму, сговоритесь с людьми, чтобы погубить ее, и я верю,
настанет такой день, когда человечество научится говорить и вполне осознанно
добьется успеха — слово перестанет быть ни рыбой ни мясом, седлом на корове. И
я требую, чтобы творчество из отшельничества, как сейчас, превратилось в дело
основательное, общественное, чтобы оно прислушивалось к импульсам реальной
жизни общества, людей, а не было бы бесконечным повторением одного и того же и
подражательством мастерам. И я требую, чтобы вы прекратили, наконец, запихивать
себя в собственную же вашу часть. Требую, — но кто же это требует? Я, который и
трех слов безыскусно связать не может? И от кого же я это требую? От вас,
господа? От теоретиков и закоренелых учителешек, от просидевших свои седалища
интеллигентов, которые за счастье почитают разбирать и собирать человечество по
грязному образу и жалкому подобию своему? От фигляров, которые «работают над
собой» и вырабатывают в себе «убеждения» и уже через месяц явят себя
провозвестниками глубочайших своих убеждений, от тех, которые вбивают в себя
веру, дабы подбодрить себя, от тех приготовленных, сделанных и
сконструированных на тот или иной фа-
346
сон,
которые уже не в состоянии высвободиться из своей конструкции, каковая так
заскорузла, что тут уж ни бе, ни ме, от существ — законченных? От существ,
которые позапрягали наихудшие свои части, а сами влезли в часть лучшую, которым
представляется, будто целое позволит когда-нибудь втащить себя в свою часть.
Простите, что отнял у вас время, — позвольте пригласить вас к отдельным частям
тела моего Филидора».
ГЛАВА IX
Она
завершалась (см. с. 206) строчками, которые автор изъял: «Копырда, Копырда
Копырда, Копырда Копырда, Копырда Копырда, Копырда».
ГЛАВА XII
В последней
фразе (см. с. 244) отсутствовали заключительные слова:
«...тогда как гром аплодисментов раздался среди
зрителей».
А. Е.
КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ТРУДОВ И ДНЕЙ ВИТОЛЬДА
ГОМБРОВИЧА
1904, 4 августа — Родился в
деревне Малошице (недалеко от г. Опатов, Польша).
1911 — Семья переезжает в
Варшаву.
1916—1923 — Гомбрович учится
в католиче ской школе имени св. Станислава Костки.
1923—1926 — Гомбрович —
студент Варшавского университета (юридический факультет).
1927 — Первое посещение
Парижа. Начало литературного творчества.
1933 — Из печати выходит
первый сборник рассказов Гомбровича «Дневник периода возмужания» (издание было
осуществлено в изрядной степени за счет средств семьи автора).
1934—1935 — Работа над
пьесой «Ивонна, принцесса Бургундская».
1938 — Публикация романа
«Фердидурка», а также пьесы «Ивонна, принцесса Бургундская».
1939, 1 августа — Гомбрович
покидает Польшу.
1939, 21 августа — Прибывает в Буэнос-Айрес (Аргентина).
Начало работы в журнале «Aqui Esta».
1941 — Признан негодным для службы в армии (вердикт военной комиссии,
собравшейся в Польском посольстве в Буэнос-Айресе). По этой причине Гомбрович
лишается пособия.
1944—1945 — Сотрудничает в литературных и проч.
журналах Буэнос-Айреса, среди которых «Artes», «Viva cien anos», «Glos Polski» «La Nacion» и др.
1945, февраль — Польское посольство принимает решение о
возобновлении выплаты пособия, которого он был ранее лишен. Начало работы над
переводом «Фердидурки» на испанский язык.
1947 — Публикация перевода «Фердидурки». Завершение пьесы «Венчание».
Гомбрович приступает к службе в Польском банке Буэнос-Айреса.
1948, ноябрь — Публикация перевода «Венчания» на испанском
языке.
1949—1950 — Гомбрович трудится над созданием романа
«Транс-Атлантик».
1951 — Начинается публикация отрывков из «Транс-Атлантика» в журнале
«Культура» (Париж), издававшемся Польским литературным институтом.
1953 — Публикация полной
версии «Транс-Атлантика» в одном томе с пьесой «Венчание». Начало работы над
«Дневником», которой будет суждено продлиться 13 лет.
1954 — Гомбрович оставляет службу в Польском банке.
1954—1956 — Продолжение работы над «Дневником».
1956—1958 — Гомбрович занят написанием романа
«Порнография».
1958, 4 февраля — Завершение романа «Порнография».
1958 —1960 — Работа над «Дневником».
1960 — Публикация романа «Порнография».
1961, февраль— Начало
создания романа «Космос».
1963, май— 1964, апрель —
Гомбрович работает в Западном
Берлине.
Выступает по радио «Свободная Европа». Развертывание компании против него в
Польше.
1964, май — Прибытие во Францию. Гомбрович живет
сначала в Руамоне, затем в Вансе (ок. Ниццы). Знакомство с Мари-Ритой Лябросс.
1965 — Публикация романа
«Космос».
1966 — Окончание «Дневника».
Создали пьесы «Оперетка».
1968, 26 декабря — Женитьба на Мари-Рите Лябросс.
1969, 24 июля — Гомбрович умирает в Вансе от тяжелого
заболевания легких.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ С ВИТОЛЬДОМ ГОМБРОВИЧЕМ, ИЛИ О ПРЕВРАТНОСТЯХ СУДЬБЫ
НЕКОТОРЫХ КНИГ (И.Мосин).............................5
ТРЕВОЖНОЕ
ОБАЯНИЕ ПАНА ВИТОЛЬДА............................11
Глава I.
ПОХИЩЕНИЕ........................................................19
Глава II. ВОДВОРЕНИЕ В
УЗИЛИЩЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УМАЛЕНИЕ.....................................41
Глава III. ПОИМКА С ПОЛИЧНЫМ
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УМИНАНИЕ.........................................73
Глава IV. ПРЕДИСЛОВИЕ К ФИЛИДОРУ, ПРИПРАВЛЕННОМУ
РЕБЯЧЕСТВОМ....95
Глава V. ФИЛИДОР,
ПРИПРАВЛЕННЫЙ
РЕБЯЧЕСТВОМ................119
Глава VI. СОВРАЩЕНИЕ И
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОНУЖДЕНИЕ
К
МОЛОДОСТИ.................135
Глава VII.
ЛЮБОВЬ...............................................................153
Глава VIII.
КОМПОТ.............................................................167
Глава IX. ПОДСМАТРИВАНИЕ И
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОГРУЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОСТЬ.........................185
Глава X. РАЗЗУДИСЬ-НОГА И
ОПЯТЬ С ПОЛИЧНЫМ.........207
Глава XI. ПРЕДИСЛОВИЕ К
ФИЛИБЕРТУ, ПРИПРАВЛЕННОМУ РЕБЯЧЕСТВОМ................235
Глава XII. ФИЛИБЕРТ,
ПРИПРАВЛЕННЫЙ РЕБЯЧЕСТВОМ ...241
Глава XIII. ПАРЕНЬ, ИЛИ НОВАЯ ПОИМКА..........................245
Глава XIV. РАЗЗУДИСЬ-РОЖА И
НОВАЯ ПОИМКА.............283
ОТ
ПЕРЕВОДЧИКА...................................................................333
КРАТКАЯ
ХРОНОЛОГИЯ ТРУДОВ И ДНЕЙ ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА (Р. Грищенков)........348