БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ
Редакционная коллегия
Ф. Я. Прийма (главный редактор), И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов, Б. И. Бурсов, К. Ш. Кулиев, Э. Б. Межелайтис, В. О. Перцов, А. А. Прокофьев, А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов, М. Т. Турсун-Заде, И. Г. Ямпольский
Большая серия
Второе издание
АРМЯНСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИРИКА
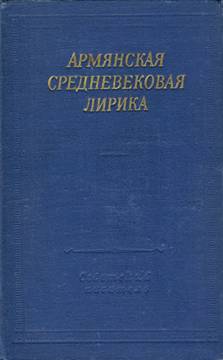
Вступительная статья, составление и примечания Л. М. Мкртчяна
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1972
OCR и вычитка – Александр Продан, Кишинев
19.06.09
Сборник
АРМЯНСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИРИКА
Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1972, 392 стр. План выпуска 1972 г.
№ 322.
Книга открывается образцами армянской языческой поэзии, записанными в V веке, но восходящими ко временам значительно более отдаленным; народная лирика представлена любовными, трудовыми, колыбельными песнями, а также плачами, песнями изгнания и скитальчества. Значительную часть книги составили произведения выдающихся армянских поэтов V—XVII веков — Месропа Маштоца, Григора Нарекаци, Нерсеса Шнорали, Костандина Ерзнкаци, Григора Ахтамарци, Наапета Кучака. Впервые на русском языке печатаются стихотворения Хачатура Кечареци, Керовбе, Нерсеса Мокаци, Мартироса Крымеци и других поэтов. Народные песни, стихотворения поэтов армянского средневековья даны в переводах В. Брюсова, М. Лозинского, Н. Тихонова, П. Антокольского, В. Звягинцевой, Н. Гребнева и других русских поэтов. Многие переводы сделаны специально для настоящего издания, впервые осуществляемого на русском языке в таком объеме.
ОТ «РОЖДЕНИЯ ВААГНА» ДО САЯТ-НОВЫ
1
В 1045 году Григор Магистрос, армянский ученый, философ и поэт, изложил содержание Библии стихами и объяснил, почему он это сделал. Арабский поэт Мануче, с которым Магистрос познакомился в Константинополе, хвастался тем, что Коран написан стихами. Магистрос заключил с ним пари и за четыре дня изложил сюжет священного писания в стихах. Мануче был потрясен, и, как уверяет Магистрос, он, мусульманин, принял христианство.
В этой истории, рассказанной Магистросом, есть одна более чем достоверная мысль: поэзия на самом деле обладает свойством обращать людей в свою веру, и не в христианскую или мусульманскую, а в свою веру высоких человеческих идей. Поэзия издревле участвовала в борьбе за жизнь, помогала людям жить и выстоять. Так было всюду, у всех народов. Так было и в Армении...
Первые сведения об армянских племенах восходят ко второму тысячелетию до нашей эры. В 401—400 годах до н. э. Армению описал Ксенофонт, по сведениям которого армены (так называли армян, хотя сами армяне именовали себя хайами, а Армению — Хайастаном) занимались земледелием и скотоводством и жили в достатке. 1
Во втором веке до н. э. образовалось государство Великой Армении. В конце IV века н. э. (387) страну поделили между собой Персия и Рим (римляне стремились завоевать Армению еще в I веке н. э.). Затем на протяжении веков «одних завоевателей сменяли дру-
1 См.: Ксенофонт, Анабасис, М.—Л., 1951, с. 106—114.
5
гие. Смерчем и ураганом проносились над страной гунны, персы, римляне, арабы, византийцы, сельджуки, монголы, османы». 1
В V веке историк и писатель Мовсес Хоренаци говорил об Армении как о стране сокрушенной: «Оплакиваю тебя, земля армянская, оплакиваю тебя, страна благороднейшая из всех стран севера: у тебя нет более ни царя, ни иерея, ни советника, ни учителя! Мир возмутился, укоренился беспорядок, потряслось православие, невежество утвердило лжеученье». 2 Однако народ никогда не отчаивался. Народ боролся и жил. И если на самом деле стихи пишутся так, как сказано об этом у Анны Ахматовой:
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет, —
то понятно, почему песня была для армянина надеждой, была на протяжении веков символом свободы, символом потерянной и вновь обретенной родины.
Еще в середине XIX века о выдающихся средневековых поэтах Армении знали очень немногие филологи. Века иноземного гнета привели к потере культурных традиций — связь времен оборвалась. Армянский историк XVIII века Аракел Даврижеци с болью писал о том, что книги валялись в каком-либо углу в земле и в пепле, и люди не только не читали, но и не знали «ни писаний, ни силы писаний». 3
Во второй половине XIX века и особенно в наши дни была проделана большая работа, чтобы восстановить связь времен, связь культур — древней и новой.
Об армянской литературе XIV—XVII веков с большим недоверием писал в 1846 году известный литературный и общественный деятель Ст. Назарьянц: «Бросив беглый взгляд на произведения, возникшие под пером малообразованных авторов в продолжение XIV, XV, XVI и XVII веков, равно на попытки, хотя мало успешные, отдельных патриотов к прекращению литературного безначалия и к улучшению духовного быта армян, мы перейдем к рассмотрению
1 «Правда», 1935, 28 ноября.
2 «История Моисея Хоренского». Новый перевод Н. О. Эмина, М., 1893, с. 212. В дальнейшем цитируется первое издание перевода Эмина (1858), так как новый перевод сделан ученым намеренно буквально, в результате чего утрачены, на мой взгляд, гибкость фразы и живость языка.
3 Аракел Даврижеци, История, Вагаршапат, 1896, с. 290.
6
новейшей письменности гайканцев начиная с первой половины XVIII столетия по настоящую пору». 1
Двумя годами раньше тот же автор писал еще более резко: «Вместе с XIII столетием оканчиваются золотые времена гайканской литературы. Невежество и безвкусие заглушили некогда живой, бодрый дух народа». 2
Эти идеи с легкостью были подхвачены А. Худабашевым, автором компилятивной работы «Обозрение Армении в географическом, историческом и литературном отношениях». Худабашев писал, что с «тринадцатым веком кончились цветущие времена армянской литературы». 3
Отдельные литературоведы считали тогда, что светской художественной литературы в Армении средних веков вообще не было. «Но от исторического труда, — писали Ю. Веселовский и М. Берберьян, — богословского трактата или церковного гимна нет прямого перехода к полному жизни и огня лирическому стихотворению и художественной или тенденциозной повести, к остроумной комедии. Все это пришлось впервые создавать тем, кто потрудился в пользу новой армянской словесности». 4
Спустя год Минас Берберьян несколько иначе писал об армянской средневековой литературе. Он называл Г. Нарекаци (X в.) и Г. Магистроса (XI в.), говорил о Нерсесе Шнорали (XII в.) как о «самом выдающемся поэте в средние века». Однако считал, что «после XII века в литературе все меньше уделяется места поэзии, пока наконец с основанием Венецианского монастыря мхитаристов в XVIII веке она не возродилась на ложноклассических основах». 5
В таком же духе писали об армянской литературе энциклопедические словари второй половины XIX века. Так, в «Малом энциклопедическом словаре» со ссылкой на К. Патканова сообщалось, что армянская литература бедна и что, кроме церковных гимнов, заслу-
1 «Обозрение истории гайканской письменности в новейшее время» Степана Назарьянца, Казань, 1846, с. 2.
2 Ст. Назарьянц, Беглый взгляд на историю гайканской литературы до конца XIII столетия, Казань, 1844, с. 49.
3 А. Худабашев, Обозрение Армении в географическом, историческом и литературном отношениях, М., 1859, с. 465.
Об этой книге резко отрицательно отозвался Микаэл Налбандян: «Дух произведений г-на Худабашева принуждает нас обойти его полным молчанием, предоставив самому времени сгустить над ним покров вечного осуждения» (М. Налбандян, Избранные философские и общественно-политические произведения, М., 1954, с. 351).
4 «Армянские беллетристы», М., 1893, с. VI—VII.
5 «Армянские беллетристы, драматурги и поэты», т. 2, М., 1894, с. 434—435.
7
живают внимания два-три поэта и баснописца Армении средних веков (Н. Шнорали, М. Гош, В. Айгекци). 1
В 1898 году даже Аршак Чобанян, многое сделавший позднее как пропагандист и исследователь средневековой армянской лирики, писал: «То, что осталось от древней литературы армян, не в состоянии служить отражением духовной жизни этого народа. Это литература, по преимуществу, церковная... Она сурова и однообразна». 2
Точка зрения, согласно которой художественная литература на армянском языке чрезвычайно скудна или ее вовсе не существует, особенно резко выражена в книге Эм. Диллена «Армянские этюды». Диллен писал, что армянский язык не изучен именно потому, что на этом языке нет литературы. «Армянская литература, — утверждал Диллен, — отличается бедностью: она не обладает никакими возвышенными поэтическими произведениями, не имеет никаких священных книг, не встретим в армянской литературе народных или художественных произведений... Одним словом, армянская литература лишена всех тех характерных черт, которые по теперешним понятиям составляют национальную литературу». 3
Непосредственно перед выходом в свет в 1916 году знаменитой антологии В. Я. Брюсова «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» Ив. Гнуни в своей книге «Очерки армянской литературы» утверждал: «Все дошедшие до нас скудные факты не только не дают хотя бы отдаленного понятия о том, что представляла из себя изящная армянская литература и, в частности, поэзия в древнейшие периоды, но даже не решают спора о ее существовании вообще... Вся историческая жизнь армянского народа — с глубокой древности и вплоть до конца XVIII столетия — очень мало способствовала развитию в стране изящных искусств и поэтических произведений». 4
С выходом в свет брюсовской антологии отпали всякие сомнения относительно средневековой армянской поэзии. Существовала великая поэзия. Издание брюсовской антологии стало возможным благодаря большой работе по собиранию и изучению армянской поэзии средних веков, проделанной многими армянскими учеными XIX века. Это прежде всего издания ученых-мхитаристов, сосредоточивших свою деятельность в Венеции, где в 1717 году был органи-
1 См.: «Малый энциклопедический словарь», т. 2, СПб., 1899.
2 «Братская помощь армянам». Второе издание, М., 1898, с. 474.
3 Эм. Диллен, Армянские этюды. Отношения армянского к иранской группе языков, Харьков, 1884, с. 1.
4 Ив. Гнуни, Очерки армянской литературы, Саратов, 1915, с. 4.
8
зован Мхитаром Себастаци центр по изучению армянской культуры, а позднее — и в Вене. Это работы Н. Эмина, К. Патканова (исследования этих ученых выходили главным образом на русском языке), работы А. Чобаняна, с книгами которого, изданными на французском языке, Брюсов был хорошо знаком. Непосредственно консультировали Брюсова и помогали ему П. Макинцян, К. Микаэлян и другие деятели армянской культуры.
Работа по дальнейшему изучению армянской литературы средних веков была продолжена Мануком Абегяном, а также современными учеными М. Мкряном, М. Авдалбекян, Ас. Мнацаканяном, А. Срапян, А. Саакян, Ш. Назарян и другими литературоведами.
Древнейшие образцы армянской языческой поэзии впервые были записаны Мовсесом Хоренаци в его «Истории Армении» — великом историко-литературном труде, который был завершен в начале 80-х годов V века. Известный армянский ученый XIX века Н. Эмин исследовал «Историю» Хоренаци и пришел к выводу, что языческая Армения «обладала обширными эпическими произведениями, заменившими в этой стране историю в древнейший период ее существования». 1
Хоренаци был одним из немногих ученых той поры, которые рассматривали фольклор как материал по истории данного народа. В дальнейшем такой подход к фольклору стал всеобщим, и не случайно основную проблему фольклористики современные ученые определяют как проблему по сути своей историческую. 2
Мовсес Хоренаци записал фрагменты языческих народных песен («Рождение Ваагна», «О царе Арташесе»), которые в те времена преследовались христианством, провозглашенным в Армении государственной религией в 301 году. История Хоренаци сберегла для нас и древнейшие эпические сказания о Хайке и Беле, об Ара и Шамирам. Христианство делало все, чтобы уничтожить языческую культуру. В работах армянского ученого VII века Анания Ширакаци находим ценные свидетельства того, как высоко была развита наука времен язычества, также преследуемая христианством. «Если же кто-нибудь, — пишет Ширакаци, — пожелает получить от языческих философов наглядный пример, воспроизводящий положение земли, то мне кажется подходящим пример с яйцом: подобно тому, как в
1 «Моисей Хоренский и древний армянский эпос». Исследование Н. Эмина, М., 1881, с. 7—8.
2 См. в кн.: Дж. Коккьяра, История фольклористики в Европе, М., 1960, с. 20—21.
9
середине яйца расположен шарообразный желток, вокруг него — белок, а скорлупа заключает в себе все, точно так же и земля находится в середине, а воздух окружает ее и небо замыкает собой все». 1
Подобные идеи противоречили догматам Священного писания и объявлялись ересью.
Несмотря на преследования, языческая культура, языческое мировосприятие не исчезают сразу и бесследно. Древняя дохристианская Армения унаследовала культуру урартов (государство Урарту образовалось в IX веке до н. э. и пало в VI веке до н. э.). Позднее Армения испытывает благотворное влияние эллинизма. Особого расцвета армянская эллинистическая культура достигает во II—I веках до н. э. Армянский царь Артавазд II (I в. до н. э.) был автором трагедий, речей и исторических трудов, написанных на греческом языке. По сведениям Плутарха, некоторые сочинения Артавазда были известны в начале II века. 2
При Артавазде в Армении были свои театры в городах Арташате и Тигранакерте. Здесь ставили трагедии и самого Артавазда и греческих авторов, например «Вакханок» Еврипида.
На территории современной Армении в Гарни сохранились развалины армянского языческого храма, построенного в I—II веках и свидетельствующего о высоком уровне армянской архитектуры той поры.
Многие века после принятия христианства, вплоть до XIX века, язычество оказывает влияние на культуру Армении. По мнению Н. Я. Марра, в V веке армянские переводчики Библии «восприятие новой религии наследуют от своих народных языческих жрецов и пророков», и поэтому перевод Библии есть «в то же время — богатая сокровищница языческих переживаний армянского народа, армянских народных языческих неоценимых изречений». 3
И сами стихи о рождении Ваагна, языческого бога солнца и грома, есть по сути своей поэтическое описание восхода солнца: 4
В муках рождения находились Небо и Земля;
В муках рождения лежало и пурпуровое Море;
1 «Антология мировой философии», т. 1, ч. 2, М., 1969, с. 642.
2 Плутарх, Избранные биографии, М.—Л., 1941, с. 26.
3 «Язык и история». Сборник первый, Л., 1936, с. 70.
4 М. Абегян считает, что стихи о рождении Ваагна неправомерно отождествлять с описанием восхода солнца. Ваагн, как пишет Абегян, — «бог-громовик» (М. Абегян, История древнеармянской литературы, т. 1, Ереван, 1948, с. 33).
10
Море разрешилось красненьким Тростником;
Из горлышка Тростника выходил дым,
Из горлышка Тростника выходило пламя;
Из пламени выбегал юноша,
У него были огонь-волосы,
Борода была из пламени,
А очи — словно два солнышка...
(Пер. Н. Эмина)
Языческое мировосприятие было во многом поэтическим. О высоком чувстве художественности в народной языческой поэзии говорят стихи о царе Арташесе:
Храбрый царь Арташес на вороного сел,
Вынул красный аркан с золотым кольцом,
Через реку махнул быстрокрылым орлом,
Метнул красный аркан с золотым кольцом,
Аланской царевны стан обхватил,
Стану нежной царевны боль причинил...
(Пер. В. Брюсова)
Арташес, словно удалой добрый молодец, похитил свою возлюбленную, причинив ее царственному тонкому стану боль. Эта последняя деталь придает стихотворению особую прелесть, подчеркивая всю нежность, всю любовь к девушке. И важно не то, что она царского происхождения, а то, что она царственно прекрасна и нежна.
Так поэтично воспел народ любовь царя к аланской царевне. На самом же деле, пишет М. Хоренаци, «у аланов была в большом уважении красная кожа, и потому Арташес, отдав большое количество лайки и много золота, берет царственную деву — Сатиник». 1
Народные певцы, конечно же, не могли воспевать купленную любовь. Это противоречило бы законам эстетики. Поэтому в песне Арташес похитил Сатиник, тогда как на самом деле он отдал за нее много золота.
Образная структура стихотворения построена на реальном материале, казалось бы, малопригодном для высокой поэзии. «Также и о свадьбе, — пишет Хоренаци, — вымышляя, поют певцы следующим образом:
1 «История Армении Моисея Хоренского». Перевел с армянского и объяснил Н. Эмин, М., 1858, с. 122. В переводе В. Брюсова опущено упоминание о том, что аркан был из красной кожи.
11
Золотой дождь шел на свадьбе Арташеса,
Жемчужный дождь лился на свадьбе Сатиник.
У наших царей, — объясняет Хоренаци, — было обыкновение, когда они во время свадьбы приближались к дверям дворца, начинали сыпать деньги, подобно римским консулам; равным образом царицы сыпали жемчуг в своих брачных покоях. Вот смысл, заключающийся в этих словах». 1
Сопоставляя комментарии Хоренаци с самими стихами, нетрудно заметить высокую культуру безымянных певцов древней Армении: они очень искусно, следуя законам красоты, «переплавляли» конкретный жизненный материал в образ, в метафору («жемчужный дождь», «аркан из красной кожи с золотым кольцом»).
Еще Брюсовым было замечено, что армянский песенный фольклор очень напоминает «тонко обдуманные создания какого-нибудь позднейшего поэта, искушенного в стихотворной технике». 2 Такой вывод напрашивается, когда знакомишься с образцами народного творчества. Известно пренебрежительное, а порою враждебное отношение церкви к устному народному творчеству. Этим, в частности, объясняется то, что поздно были записаны народные песни. Кстати, приведенные в «Истории» Мовсеса Хоренаци народные предания о Шамирам и Ара Прекрасном еще совсем недавно передавались изустно и были записаны Г. Срвандзтяном, что также косвенно подтверждает солидный возраст дошедших до наших дней фольклорных произведений. 3
Песня — история народной жизни. Горная, каменистая Армения предопределила нелегкую судьбу крестьян — отсюда множество трудовых песен о жизни крестьян-земледельцев.
Земли было мало, а та, что была, трудно возделывалась и, как правило, была безводной. «Когда бы не волы да плуг, была пустыня бы вокруг», — говорится в одной народной песне. Земля везде требует ухода. В армянских горах она упрямо неподатлива и
1 «История Армении Моисея Хоренского». Перевел с армянского и объяснил Н. Эмин, М., 1858, с. 122.
2 Вступительная статья В. Брюсова к антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», М., 1916, с. 38.
3 См. в кн.: М. Мкрян, Мовсес Хоренаци, Ереван, 1969, с. 112— 125.
12
тверда, здесь всегда приходилось работать особенно много и напряженно:
Дает господь рабам своим
И день и дело вместе с ним. 1
В борьбе с землей, в борьбе за насущный хлеб вол был чуть ли не единственной надеждой крестьян:
...Остается за сохой, ороло,
Борозда в земле сухой, ороло!
Вы, волы, — мои цветы, ороло!
Нету краше красоты, ороло!
И отдам всё без остатка я, ороло,
За мычанье ваше сладкое, ороло!
Вол был героем крестьянских песен, ибо он был кормильцем крестьянской семьи. И не потому ли знаменитый «Судебник» Смбата Спарапета (XIII в.) запрещал отбирать у крестьян волов. «...Имеешь право взять под залог, — сказано в «Судебнике», — то, что тебе захочется. Исключаются только волы, забрать которых нельзя ни при каких обстоятельствах, ибо они являются необходимым условием для труда на жизнь». 2
Пахари пели о своих волах — словно молились им:
Ямы и бугры — зерну помеха,
Вол мой дорогой.
Не оставь ни одного огреха,
Вол мой дорогой!
Песенный фольклор имел, конечно, влияние на армянскую поэзию. Нетрудно заметить это влияние и в стихах современных поэтов. Когда, например, Амо Сагиян пишет о волах, он подчеркивает преемственность своих стихов, их народно-песенную основу:
Был он надеждой семьи бедняков,
На шее ярмо, пот курился с боков,
Нес он луну меж корявых рогов,
Вол был таков.
(Пер. Т. Спендиаровой) 3
1 Стихи, кроме особо оговоренных случаев, цитируются в переводе Наума Гребнева.
2 Смбат Спарапет, Судебник. Составление текста, перевод, предисловие и примечания А. Г. Галстяна, Ереван, 1958, с. 116.
3 Амо Сагиян, Перед закатом, М., 1969, с. 56.
13
Народная песня вообще и армянская народная песня в частности обожествляет все, что связано с работой, что помогает людям жить. Труд в народной песне — это и вопрос чести, и мерило нравственности, и сама мораль. «Песня для народа, — заметил А. И. Герцен, — его светская молитва, его другой выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы». 1
Для армянского песенного фольклора очень характерны стихи о скитальцах — пандухтах, вынужденных покидать землю отцов в поисках крова и хлеба. Часто завоеватели изгоняли земледельцев с насиженных мест, меч и огонь агрессора опустошали страну. Песни эти, называемые пандухтскими, были очень популярны, так как для многих армян судьба уготовила постылую жизнь на чужбине. И то, что писал Аристакэс Ластивертци применительно к XI веку — «утвердившиеся на чужбине ушли во второе изгнание», 2 — характерно для Армении и до и после XI столетия.
Пандухтские песни полны горя, полны слез:
Сердце мое — что разваленный дом,
Груда камней над упавшим столбом,
Дикие птицы устроятся в нем.
Эх, брошусь в реку весенним я днем...
(Пер. Н. Тихонова)
Однако самая распространенная песня «Журавль» (она на устах у каждого армянина) — полна надежды. Это песнь песней скитальческого народа. Образ журавля, посланника родины, священен в Армении. Любовь к потерянной земле — это острое, даже болезненно острое чувство. И может быть, именно поэтому еще и сейчас широко популярны в народе пандухтские песни. Точно так же влюбленные полнее выражают себя в песнях о неразделенной, трагической любви.
Грустные стихи задушевны, потому что они помогают чувствовать всю «сладость жизни». В одном из стихотворений вечность природы противопоставляется быстротечности человеческой жизни, и сама эта соотнесенность природы и человека — напоминание о том, что жизнь коротка и грустна и ее надо уметь прожить:
И услышал я голос, который
Шел откуда-то с самого дна:
1 А. И. Герцен, Собр. соч., т. 10, М., 1956, с. 207.
2 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци». Перевод с древнеармянского, вступительная статья, комментарии и приложения К. Н. Юзбашяна, М., 1968, с. 55.
14
«Оживут еще белые горы,
Ибо снова настанет весна...
Будет солнце, весна еще будет.
Снег сойдет и пройдут холода,
Потому что и горы — не люди,
Умирающие навсегда».
Даже заклинания полны чувства и жажды жизни, удачливой, счастливой. В «Заклятии от сглаза» сказано: «Злого глаза нет! злого шипа нет! Сгинь лихой навет, сгинь лихой совет!» (Перевод В. Брюсова). Так стихами отводили беду.
Давно было замечено, что много общего в устном творчестве даже тех народов, которые в древности, когда активно создавался фольклор, не знали каких-либо экономических и культурных связей. И если даже враждовали правители, все равно народы пели об одном и том же, их идеалы были общими.
Прекрасны любовные народные песни. Они изысканны и сдержанны. Но сдержанность в армянской любовной песне полна страсти и огня, а изысканность — простоты. Благодаря развитому чувству меры народные певцы сумели избежать в любовных стихах (в особенности в тех из них, что были созданы в эпоху раннего средневековья) приторного пышнословия.
Народная песня всегда лаконична, если даже это образец так называемой восточной лирики. Песни с обилием образов, песни, несколько сентиментальные, характерны для армянского фольклора более поздних времен — начало, очевидно, восходит к XIII—XIV векам, а расцвет приходится на XVII—XVIII века.
Трудно переоценить влияние армянского песенного фольклора на стихи армянских поэтов начиная от Григора Нарекаци и Наапета Кучака до Саят-Новы, Ованеса Туманяна и Аветика Исаакяна.
2
Армянская письменная литература возникла сразу же после того, как в 405—406 годах была изобретена Месропом Маштоцем письменность. Общеизвестно литературное значение трудов историков V века — Мовсеса Хоренаци, Павстоса Бюзанда, Егише, Лазаря Парбеци и других ученых.
Первыми армянскими писателями были создатель письменности Маштоц, его сподвижники и ученики. Завершив работу над алфа-
15
витом, Маштоц с учениками занялись литературным творчеством, переводом Библии. Одновременно переводчики сочиняли собственные произведения. Ученик и биограф Месропа Маштоца Корюн пишет: «...Своей превысокой ученостью блаженный Маштоц начал с божьей милостью по духу и существу книг пророков сочинять и распределять разнообразные проповеди для частного чтения, легко повествуемые, вдохновенные, полные прелести истинной евангельской веры». 1
Для формирующейся армянской литературы V века и для армянской литературы последующих веков имела большое значение и собственная дохристианская культура, и многочисленные переводы научных, философских, религиозных, художественных сочинений на армянский язык. Поистине велико значение того «огромного труда, который вложили Саак и Месроп в создание группы высокообразованных и любимых нами переводчиков, которые, горя вдохновенным и неистребимым пламенем любви к небу и земной отчизне, позабыли все наслаждения, соблазны и прелести мира и полностью посвятили свою жизнь, свои труды богу и нации». 2
Исключительное значение деятельности переводчиков для развития национальной культуры было полностью осознано уже в V веке, когда переводчиков причислили к лику святых, когда учредили таркманчац тон — день переводчика. Ежегодно в октябре отмечали этот день как национальный праздник.
Владея языками, деятели средневековой армянской культуры имели возможность приобщиться к достижениям инонациональных литератур и непосредственно по подлинникам. Они читали сирийские, греческие, латинские, персидские, арабские, французские рукописи. «Со всех этих языков соответственно обстоятельствам и требованиям времени были сделаны переводы». 3
В ряде случаев древнеармянский перевод заменяет собою подлинник, не дошедший до наших дней. Так, например, благодаря древнеармянскому переводу обнаружен текст трактата «О природе», принадлежащего перу знаменитого греческого философа Зенона Стоика. 4
1 Корюн, Житие Маштоца. Перевод Ш. В. Смбатяна и К. А. Мелик-Оганджаняна, Ереван, 1962, с. III.
2 Г. Зарпаналян, Библиотека армянских переводов древних авторов (IV—XIII вв.). Венеция, 1889, с. VII (на арм. яз.).
3 Там же, с. X.
4 См.: С. Аревшатян, Трактат Зенона Стоика «О природе» и его древнеармянский перевод. — «Вестник Матенадарана», Ереван, 1956, с. 316.
16
Во второй половине V века были переведены с греческого на древнеармянский «Определения...» Гермеса Трисмегиста, то есть Трижды Величайшего. (Гермес Трисмегист — вымышленный автор теософической литературы.) Приведу некоторые выдержки из «Определений...» Трисмегиста о слове: «Слово есть спутник разума, ибо слово выражает то, чего хочет разум». «Для разума нет ничего недоступного; для слова нет ничего невыразимого». «Слово, рожденное молчанием и разумом, — одно спасение. Слово, рожденное словом, — погибель». 1
Эти высказывания Гермеса Трисмегиста говорят о том, какое значение могли иметь «Определения...» для культуры письма вообще и языка художественной литературы.
Под влиянием Библии создавались в Армении V века духовные стихотворения. Месропу Маштоцу и Сааку Партеву приписывается авторство ряда духовных песен — кцурдов, то есть своеобразных продолжений библейских псалмов и гимнов, названных позднее шараканами. 2 Догматический, религиозный характер этих песен был обусловлен самой эпохой активного утверждения христианской религии и борьбы с ересью. Саак Партев и Месроп Маштоц, как пишет Корюн, «с особым усердием уничтожили их (лживые, еретические книги. — Л. М.)... чтобы дым сатанинский не смешался со светлым учением». 3
Однако самый факт, что приходилось «дописывать» псалмы, придумывать к ним «довески» (кцурды), говорит о сложном душевном мире верующих, о том, что существующие религиозные песнопения были для них, очевидно, недостаточны.
В стихах первых армянских поэтов сквозь религиозное смирение прорываются порой сильные страсти. Так, у Месропа Маштоца есть молитва о том, что его одолевают враги, что всюду его настигает «море жизни», от которого ему не уйти, не спрятаться, и он просит бога помочь ему.
Настойчивость и строгость, с которой армянские средневековые поэты воспевают идеи христианства, объясняется, в частности, тем, что вера была средством объединения и сохранения нации. Ведь уже
1 «Определения Гермеса Трисмегиста — Асклепию». Публикация акад. Я. Манандяна, перевод С. Аревшатяна. — «Вестник Матенадарана», Ереван, 1956, с. 302.
2 Подробнее о кцурдах см. в сб. «Шаракан», Богослужебные каноны и песни армянской восточной церкви. Перевел с древнеармянского языка Н. Эмин. М., 1914. См. также: М. Абегян, История древнеармянской литературы, т. 1, Ереван, 1948, с. 408—442.
3 Корюн, Житие Маштоца, Ереван, 1962, с. 116.
17
в IV веке персы стремились обратить армян в маздеизм и тем самым ассимилировать их. Борьба за веру становилась в подобных случаях и борьбой за родную землю (отсюда в христианских странах клич воинов постоять за веру и за землю).
В частности, в средневековой Армении был популярен сюжет о святой мученице Рипсимэ и ее подругах — христианках. Этот сюжет был положен в основу шаракана Комитаса (VII в.):
Вам — корабль вести, ваш опытен дух,
Стремительна мысль, безвременна плоть...
Вы — ветви лозы виноградной Христа.
Виноградарь небес сберет ваш сок, —
(Пер. С. Шервинского)
пишет Комитас, и в его стихах узнаешь не только верующего, но и истинного поэта. Изобразительная щедрость стиха — отличительная особенность многих шараканов. Можно говорить даже об изобразительной смелости, когда, например, Степанос Сюнеци (VII—VIII вв.) пишет, что богородица сияет подобно жемчужине, что она — это и пальма в выжженной пустыне, и поток золотых лучей... 1
Духовные, религиозные стихотворения сохранила церковь, тогда как светская поэзия раннего средневековья (ее существование не вызывает сомнения) дошла до нас лишь в немногих образцах.
Самый ранний памятник светской поэзии (если не считать стихотворного отрывка, приведенного одним из толкователей «Грамматики» Дионисия Фракийского 2) — это знаменитый «Плач на смерть великого князя Джеваншира», принадлежащий перу Давтака Кертога (VII в.).
Сохранился «Плач...» (у Кертога были, очевидно, и другие произведения, не дошедшие до нас) благодаря тому, что Мовсес Каганкатваци писал в своей «Истории Агван» о князе Джеваншире и процитировал стихи на смерть последнего.
О самом Каганкатваци существовали в научной литературе разные мнения — одни утверждали, что историк жил в VII веке и был современником Кертога, другие склонны были считать его автором
1 Сестра Ст. Сюнеци, Саакандухт, сочиняла стихи-кцурды. Историки литературы говорят о Саакандухт как о первой армянской поэтессе.
2 «Дионисий Фракийский и армянские толкователи». Издал и исследовал Н. Адонц, Петроград, 1915, с. 129.
18
X века, написавшим свой труд по материалам V—X веков. В новейших исследованиях придерживаются той точки зрения, что Каганкатваци писал свою историю в VII веке, а позднее, в X веке, рукопись была продолжена, дополнена новыми данными. 1 В пользу такого решения говорит и то, что историк очень подробно, как очевидец, пишет о событиях, относящихся к VII веку.
Герой «Плача...» князь Джеваншир был предательски убит в 670 году. «Именитые вельможи и вся страна, — пишет историк, — оплакивали князя с воплем и стонами и тяжелыми воздыханиями». 2 Судя по всему, Джеваншир был очень популярен. Он, очевидно, покровительствовал искусствам. Известно, например, что Давтак Кертог находился при дворе царском, когда была получена весть об убийстве князя. Каганкатваци пишет о Джеваншире с большой любовью: «Прославленный, воспетый Джеваншир, славный полководец, подчинял себе всех своей разумностью, наслаждаясь великими земными благами, горделиво возносился своим разумом и храбростью». 3 Поэт Давтак также пишет о смерти князя как о величайшем несчастии, постигшем страну:
Нас стена защищала, но пала стена.
Скалы, нас укрывавшие, ныне разбиты...
Стихотворение Кертога — это плач и о князе, и, в еще большей степени, о его подданных. Кертог настойчиво повторяет мысль о том, что со смертью князя рушатся самые основы жизни:
Покрываются брачные комнаты пылью,
Облачаются в траур земные цари...
И ложится на наши угрюмые лица,
Словно пыль на дороги, бесславия тень.
Джеваншира оплакивает весь свет, весь мир. Однако одический стих Кертога не знает того, что мы называем потоком восхвалений. Давтак — мастер стиха, поэтому и прозван Кертогом (Поэтом). Каганкатваци пишет о нем как об «известном риторе», сведущем в науках. Речь Давтака, свидетельствует историк, «изобиловала
1 См.: Асатур Мнацаканян, О литературе Кавказской Албании, Ереван, 1969, с. 130.
2 «История Агван» Моисея Каганкатваци, писателя X века. Перевод К. Патканьяна, СПб., 1861, с. 182.
3 Там же, с. 179.
19
украшениями в слоге», изъяснялся он красноречиво, «подобно скоропишущему перу». 1 (Имеется, очевидно, в виду импровизаторский дар Кертога.)
«Плач...» имеет еще одну особенность — в подлиннике начальные буквы строф воспроизводят армянский алфавит. Это своеобразный акростих. Но только ли из уважения к своему языку Кертог избрал подобную форму стиха, и нельзя ли предположить, что поэт хотел подчеркнуть таким образом свое отношение к Джеванширу как к государственному деятелю, которого оплакивает он всеми письменами, всеми звуками родной речи?
Армения VIII и IX веков вела борьбу против арабского владычества. В этой борьбе народ завоевал себе свободу, в борьбе создавался величайший памятник народной литературы — эпос «Давид Сасунский». Стихотворный эпос как бы связует собою седьмой век армянской поэзии с десятым, озаренным творческим гением Григора Нарекаци (951—1003). 2
Нарекаци жил в эпоху мощного крестьянского движения, вспыхнувшего в конце IX века в селе Тондрак и известного в истории как тондракийское движение. Тондракийцы выступали против церкви и церковных обрядов, духовенства и сословных привилегий. «Они не приемлют церковь и церковный чин, не признают ни крещения, ни великого и страшного таинства литургии, ни креста, ни поста», — писал о тондракийцах живший в XI веке Аристакэс Ластивертци. 3 Неизвестно, примыкал ли Нарекаци к «еретическому» движению. Полагают, однако, будто он был заподозрен в симпатиях к тондракийцам.
Сохранились сведения о хулителях Нарекаци, которые хотели оклеветать его перед епископом и князьями. Отец поэта епископ Хосров Андзеваци в конце жизни был предан анафеме как еретик.
1 «История Агван» Моисея Каганкатваци, писателя X века. Перевод К. Патканьяна, СПб., 1861, с. 182.
2 Имя Нарекаци образовано от Нарек, окончание ци означает, откуда человек родом или из какой местности, в данном случае Григор из Нарека. (Нарекаци воспитывался при монастыре Нарек и здесь же прожил жизнь.) Аналогично образованы фамилии и ряда других средневековых армянских поэтов — Ерзнкаци, Ахтамарци, Ошаканци и др.
3 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци», М., 1968, с. 127.
20
В стихах Нарекаци, в его «Книге скорбных песнопений» (название «Книги...» передают на русском языке и в несколько иных редакциях — «Книга скорби», «Книга трагедий»; в Армении существует давняя традиция называть «Книгу...» по имени автора «Нареком») отразилось его время, прозвучал протест против всего, что угнетает человека, что есть низкого и греховного в нем.
Нарекаци думал о боге, но говорил о людях, о противоречиях жизни, писал о богоматери — получалось о женщине и ее земной красоте («Грудь светозарна, словно красных роз полна...»). Минуя церковь, поэт хотел непосредственного, личного общения с богом и стремился к прямому, откровенному разговору. Его монологи, обращенные к богу, полны острых, обличительных картин жизни, полны осуждения всего порочного в человеке и стремлений «страданием очиститься».
«Книга скорбных песнопений» Нарекаци — это внутренний монолог личности, раздираемой противоречиями. Поэт видит себя падшим и видит обретающим силу. Решительно все он подчиняет главной своей задаче — полнее раскрыть личность своего героя, поставленного в центре всей «Книги...».
В Армении средних веков «Книга скорбных песнопений» широко читалась и удостоилась многочисленных толкований. До нас дошли толкования XII и последующих веков.
Нарекаци написал историю душевных мук одного человека, написал о своих личных переживаниях, сомнениях и поисках, что оказало влияние на развитие средневековой армянской литературы.
Пристальное, преувеличенно подчеркнутое внимание Нарекаци не просто к человеку, но к жизни его души, противоречивой, обуреваемой страстями, было явлением новым и прогрессивным. Армянские философы-номиналисты всегда подчеркивали значение индивида, что опосредствованным образом влияло на возникновение гуманистического индивидуализма в средневековой литературе. Так, еще в VI веке неизвестный толкователь «Категорий» Аристотеля писал: Аристотель «справедливо назвал индивида сущностью главнейшей, первичной и преимущественной, которая является причиной образования видов и родов». 1 Но это всего лишь научное осознание значения индивида. До художественного осмысления личности и ее внутреннего мира как темы искусства было еще далеко.
1 «Анонимное толкование «Категорий» Аристотеля». Перевод и комментарии С. С. Аревшатяна, Ереван, 1961, с. 23—25; см. также: Ваграм Рабуни, Анализ «Категорий» Аристотеля. Критический текст, перевод и примечания Г. О. Григоряна, Ереван, 1967, с. 30—31.
21
Нарекаци в «Книге скорбных песнопений» воспел, как было сказано, не просто человека, но мир его души, охваченной пламенем противоречий, мир, полный вопросов, неразрешимых и пугающих.
Самобичевание, саморазоблачение не знает у него границ. «Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие?» — сказано в псалме Давида. Нарекаци ссылается на этот псалом и цитирует его вольно: «Кто сравнится со мной в злодеяниях и беззакониях?»
Проблема совести, разъедаемой противоречиями, — основная проблема «Книги скорбных песнопений» Нарекаци. Поэт обращался к богу, к этой «мудрости без тени», но он искал совершенства в человеке, он хотел, чтобы бог жил в нем и чтобы бог слился с ним, с человеком. Нарекаци, как верно заметил Аршак Чобанян, искал приметы, возвеличивающие бога, не в истории, не в известных преданиях о боге, а в своей разгоряченной душе, в своем воображении, и охотнее писал не о том, что сделано богом, а о том, что он может сделать. 1
«Книга скорбных песнопений» Нарекаци — крик о том, что жизнь и человек несовершенны. «И если уж надобно, — писал Горький, — говорить о «священном», — так священно только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть...» 2 Слова Горького помогают понять, чем именно близок нам сегодня Нарекаци с его монологами, обращенными к богу. Монологи поэта — это молитвы о совершенстве, о жизни, осмысленной делами, борьбой и плодами борьбы:
Не дай моему сердцу чрево, что не родит,
И не дай глазам моим иссохшие соски, всемилосерднейший,
Пусть не буду бесплоден я в своих малых трудах,
Как тщетно усердствующий сеятель земли сухой и негодной.
Не дай испытать мне муки родов и не родить,
Скорбеть и не плакать,
Мыслить и не стенать,
Покрыться тучами — и не пролиться дождем,
Идти — и не дойти...
(Подстрочный перевод) 3
1 См.: Аршак Чобанян, Сочинения, Ереван, 1966, с. 283 (на арм. языке).
2 М. Горький, Собр. соч., т. 24, М., 1953, с. 499.
3 Цитируемые здесь и далее подстрочные переводы из Нарекаци выполнены с древнеармянского мною совместно с В. Геворкяном.
22
Нарекаци чувствует себя в ответе за неустроенность мира, за все, что в человеке порочно. Вместе с тем чувство осознанной вины, осознанного преступления есть надежда на жизнь, на воскрешение.
В «Книге скорбных песнопений» и судья и подсудимый — одно и то же лицо. Нарекаци часто пишет о себе во втором и третьем лице:
Наглый во всем, ты бессловесен и нем,
Когда надо ответить за содеянное...
Если услышит, что хотят его смерти,
Говорит «да» и еще раз повторяет «да»...
Это и стилистический прием, и осознание разорванности, раздвоенности своей личности. Двойник Нарекаци — его враг. В поэте трагически совместились враждующие начала, два человека-антипода. Но сам он жаждет цельности, жаждет внутреннего умиротворения: «Я, разделенный на большие расстояния, буду ли вновь единым, увижу ли вновь радостным мое горестное, скорбное сердце?» Но тема творчества Нарекаци — раздвоенная личность. И он верен этому герою, его страданиям и раздвоенности; он избегает благополучных судеб, законченных личностей: в них нет проблем, нет мук человеческих, нет борьбы, падений и взлетов. «Книга скорбных песнопений» Нарекаци — это прежде всего горение страстей, неосуществленные поиски и погибшие стремления:
Хотел еще более убыстрить шаги — стал проваливаться,
Стремился к чрезмерному, но и до своего не дошел.
Пытаясь достичь высочайших вершин, я и с этой скатился —
С небесных высот был низвергнут в бездну.
Остерегался, но жестоко пострадал,
Желал быть беспорочным, по мелочам себя сгубил,
Искал второе, но потерял и первое,
Увлекался незначительным — лишился главного,
Убегая от мелких хищников — попал к большим...
Нарекаци живет страдая, он не хочет и не может облегчить себе жизнь равнодушием. Для таких людей, как Нарекаци, равнодушие — величайший порок. Он сознательно обнажает противоречия.
В его руках по чаше — одна с кровью, другая с молоком,
В его руках две горящие кадильницы —
23
В одной курится ладан, в другой чадит жир,
В его руках два сосуда — один полон сладости, другой — горечи,
В его руках два кубка — в одном вино, в другом — желчь...
Так контрастно он пишет о человеке, но как только речь заходит о жизни, о современной поэту действительности — Нарекаци видит другие контрасты: рядом с черным еще более черное, рядом с ужасным еще более ужасное, рядом со смертью — гибель, уничтожение:
Открыты ему две двери — одна ведет к потерям, другая — к слезам...
Подняты две руки — одна карает, другая лишает...
Горестная ночь двух бед — одна несет слезы, другая — гибель,
Утро траура с двумя воплями — запрета и угрозы,
Два солнца в двух концах мира — одно несет тьму, другое сжигает.
Такой жестокой была действительность и для тех, кто был задавлен, угнетен и унижен. Нарекаци пишет о себе так, словно он говорит от имени бесправных, многое перетерпевших и перестрадавших людей:
Если вижу воина — жду смерти,
Если гонца — жду жестокости,
Если писца — бумаги на гибель,
Если церковнослужителя — проклятий...
Нарекаци молит бога: «Не прибавляй моим слезам боли, не пронзай меня, раненого, не осуждай меня, наказанного, не терзай меня, измученного, не избивай меня, избитого, и не отталкивай меня, упавшего...» Поэт просит бога быть человечным, он знает жизнь и знает, что в жизни часто ранят слабого, осуждают осужденного, терзают измученного; знает, как это ужасно, и очень хочет, чтобы его бог был добрым, был справедливым: «Сочувствуй мне и будь мне как врач, а не как следователь — судья». Поэт знает, что в жизни за дары ругают, за щедрость клевещут, за милости укоряют, знает, что долготерпение — осуждают, высокодушие — высмеивают. Но только господу богу, как уверяет Нарекаци в 82-й главе, за добро не платят злом.
Очень часто в «Книге скорбных песнопений» Нарекаци проявляет поразительно глубокое понимание жизни. «Кладовые убийц — полны, а сокровища защитника разграблены», — пишет он.
24
Нарекаци строил храм своей веры богу, и ценен для нас строительный материал, взятый поэтом из самой жизни. Нарекаци приемлет бога, но не приемлет созданный богом мир и прежде всего не приемлет самого себя как средоточие этого неправедного мира.
Я — высокое, ветвистое, многолиственное дерево,
Но бесплодное,
Точно та смоковница, что иссушена богом.
Таков я...
И если земля, орошенная росой,
Не воздала сторицей земледельцу
И была поэтому покинута, предана забвению,
То ты, мое жалкое «я»,
Ты — разумная земля, живое дерево,
Что не дает плодов, когда время плодоносить, —
Как можешь ты избежать кары,
Ставшей уделом того дерева и той земли?
Ты вобрал в себя плоды ничтожных, суетных дел —
Всех тех дел, что свершили и свершат люди,
Начиная от первого человека и до скончания рода человеческого,
И что ненавистно и противно богу, создавшему тебя.
Трагедия для Нарекаци, следовательно, не в том, что человек ничтожен по природе своей, а в том, что дела его ничтожны; сам же человек — разумная земля, живое дерево и потому он должен «плодоносить», иначе нет ему прощения.
Борение противоречивых стремлений и дерзаний, как пишет Александр Дейч в своей статье о Нарекаци, «смена утверждения человеческой мощи и отчаяния, вызванного ощущением суетности и мелочности людских дел, — ось, вокруг которой медленно и мучительно вращается сознание поэта». 1
Нарекаци терзался миром до самораспятия, до невозможности. Поэтому Нарекаци так трудно писалось, и он говорил: «Бог мой, тебе легче простить мне мои грехи, чем мне писать о них».
Он не замедлил бы стать самоубийцей,
Но эта потеря неспасающий шаг, —
говорил о себе Нарекаци. Так больно, так остро чувствуют только редкие, большие писатели.
1 «Дружба народов», 1969, № 12, с. 251.
25
В своих монологах, обращенных к богу, Нарекаци не брезгует самыми низменными словами (проститутка, собака и т. п.), которые могли бы оскорбить «божественный слух». Поэт не знает запрещенных стилистических пластов. Наиболее характерная черта «Книги скорбных песнопений» — это нагнетание синонимов и нагнетание сравнений, все более и более уточняющих мысль, исчерпывающе выражающих оттенки чувств. То, что у другого писателя воспринималось бы как простое повторение, у Нарекаци выражает могучую энергию стиха, духовную и эмоциональную переполненность его монологов.
3
Творчество Нарекаци — свидетельство начавшегося расцвета армянской культуры. Естественно, что в этот период некоторые авторы стали интересоваться вопросами эстетики. Еще раньше, в V— IX веках, в трудах армянских философов, историков и ученых встречались отдельные высказывания об искусстве, о законах красоты и творчества. 1 Так, философ Давид Анахт (V—VI вв.) говорил: «Когда мастер искусства, желая что-нибудь создать, приступает к делу, он создает первым долгом в самом себе представление о вещи и потом только выполняет ее. А природа никогда не создает в себе представление о вещи». 2
В каком соотношении находятся искусство и природа? — этому вопросу посвящена «Мудрая беседа, которую вел в час прогулки философ Ованес Саркаваг с птицей, именуемой пересмешник». По Ов. Саркавагу (XI—XII вв.), надо следовать природе, ибо природа — основа творчества, основа искусства, и она, природа, недосягаема. «...Созданная художником картина, — пишет Саркаваг, — не в состоянии воспроизвести находящееся в движении живое существо, ибо всякая картина приблизительна, в ней и выдумка и нечто от лжесвидетельства». 3 Саркаваг завидует тому, как поет птица, и просит,
1 См.: А. А. Адамян, Эстетические воззрения средневековой Армении. Период раннего феодализма, Ереван, 1955.
2 Давид Непобедимый (Анахт), Определения философии. Перевод, предисловие и комментарии С. С. Аревшатяна, Ереван, 1960, с. 103.
3 «Антология мировой философии», т. 1, ч. 2, М., 1969, с. 644.
Чрезвычайно любопытны также сетования философа на то, что не всегда слово соответствует вещи, т. е. не всегда оно употребляется сообразно своему значению. «Ведь не слово подтверждает наличие вещи, — говорит Саркаваг, — а наоборот, вещь подтверждает слово... И неправы те, которые употребляют слова вопреки вещам» (там же, с. 644).
26
чтобы она обучила его, лжепоэта, своему искусству. Из «Мудрой беседы...» выясняется, что птица верна природе, которая дарует ей откровение, тогда как люди — не верны природе, и их искусство ложно. Причем человек вне природы вследствие прегрешений перед природой. Таким образом, призыв поэта следовать природе следует понимать широко, также и в том смысле, что природа безгрешна, безгрешны следующие ей птицы-певцы, а человек виновен. Поэту надлежит быть чистым и возвышенным, как природа, ибо все, что греховно в человеке, противоестественно. Следовать природе — значит жить в согласии с ней, жить праведно.
В «Мудрой беседе...» достаточно четко выражена еще одна мысль — людей настигли беды из-за того, что они провинились перед богом.
В средневековой Армении многие авторы так наивно объясняли и жизненные невзгоды, и кровавые трагедии. Аристакэс Ластивертци рассказывает, в частности, о том, как в начале XI века ромейский (византийский) император предал Армению огню и мечу. «Одних (речь идет о грудных младенцах. — Л. М.), вырвав из материнских объятий, избивают о камни, — пишет историк, — других поддевают пиками, и кровь младенцев смешивается с материнским молоком». 1
«Грех был причиной всего постигшего нас» 2 — заключает Ластивертци. Эта концепция греховности убиенных так широко распространилась, что позднее, в эпоху монгольских завоеваний, даже Чингисхан уверовал в нее. Во всяком случае, ему приписываются слова: «Я — кара господня. Если бы с вашей стороны не были совершены великие грехи, великий господь не ниспослал бы на ваши головы подобной мне кары». 3
Как о невиданном преступлении перед богом повествует Ластивертци среди прочего о воинах-христианах, которые «вышибли гвозди из крестов и злословили, мол, унесем и прибьем ими конские подковы». 4
Какая сатанинская мощь ощущается в людях, выдирающих гвозди из крестов, дабы подковать ими коней. Так под пером историка оживала сама действительность.
1 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци», М., 1968, с. 62.
2 Там же, с. 137.
3 См.: Рашид ад-дин, Сборник летописей, т. 1, кн. 2, М.— Л., 1952, с. 205.
4 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци», М., 1968, с. 59.
27
Ластивертци пишет «Об избиении мечом прославленного на весь мир города Ани», который в 1045 году был взят византийцами, а в 1064 году турками-сельджуками и с падением которого Армения утратила свою государственность.
Одиннадцатый век был для Армении веком великих потрясений. «Ни одного дня, ни разу не обрели мы покоя и отдохновения, — свидетельствует Ластивертци, — но все время было насыщено смутами и невзгодами». 1 Эти его слова точно определяют положение Армении и в последующие века.
В средние века приобретает широкую известность поэма Нерсеса Шнорали «Плач на взятие Эдессы» (XII в.). Шнорали был крупным общественным деятелем и поэтом Киликийского армянского княжества (царства), возникшего в конце XI века на берегу Средиземного моря. Киликийское царство, павшее в 1375 году, образовалось и существовало под знаком борьбы армянского народа за свою независимость.
О судьбе армянских городов напоминало падение в 1144 году Эдессы, этого важного центра христианского мира в Северной Месопотамии.
Нерсес Шнорали написал свою поэму от лица Эдессы-матери, оплакивающей смерть своих детей:
Смерть грудей не коснулась чьих?
Губили и детей грудных,
И старцев, хилых и больных.
Что им ребенка нежный лик?
Что им священник-духовник?
Что даже патриарх-старик?
(Пер. В. Брюсова)
Мать Эдесса в безмерном своем горе обращается к армянской столице Ани, просит, чтобы и она плакала и горевала, «повергла в траур каждую душу».
Олицетворение Эдессы в образе матери, рассказывающей о своей судьбе, дало поэту возможность создать подлинно лирическое взволнованное повествование, не оставляющее читателя равнодушным. Эдесса-мать беспощадно «отрезает свои кудри», бьет себя по лицу, как то положено скорбящему, и облачается не в пурпурные
1 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци», М., 1968, с. 136.
28
наряды, а в черный цвет траура... Некогда Эдесса была подобна земле обетованной, ручьи текли к цветникам, воздух над морем был полон неба, и небо сладостно смеялось...
Такой была Эдесса в прошлом, такого будущего желает ей Шнорали, жаждущий возрождения всего христианского мира и уповающий на единение христиан.
Выдающееся значение поэмы Шнорали обусловлено, конечно, тем, что в ней широко и реалистически отображены события, действительно имевшие место (в поэме больше двух тысяч строк). А самое главное, поэт поставил свое произведение на службу современности, стремясь способствовать решению наиболее острых вопросов, вставших перед Арменией и другими христианскими странами.
Нерсес Шнорали — автор известных стихотворных загадок, написанных на основе фольклора. В творчестве Шнорали явственнее, чем у Нарекаци, также использовавшего фольклор, прослеживаются заимствования из народно-поэтических произведений. Шнорали — что очень важно — не ограничивал свою поэзию темами и мотивами религиозной литературы, хотя, конечно, дань поэта традиционной христианской тематике была велика.
Знаменит Нерсес Шнорали и как мастер стиха, он виртуозно владел словом и многое сделал, в частности, для развития рифмы в армянской поэзии.
О рифме писал еще Григор Нарекаци, зарифмовавший небольшой отрывок в «Книге скорбных песнопений». Одни и те же созвучия в конце строк, говорил Нарекаци, усиливают эмоциональное воздействие стиха. Рифмованным стихом писал в XI веке Григор Магистрос. Широко стал пользоваться рифмованным стихом Нерсес Шнорали.
Если стихи армянских поэтов раннего средневековья, как правило, не знали рифмы, то в пору расцвета средневековой поэзии рифмованный стих — обычное явление. 1
Рифма в армянской поэзии мужская, так как ударение в армянском языке постоянно — на последнем слоге. Женские и дактилические рифмы практически не встречаются.
В начале нынешнего века считалось, что армянское стихосложение силлабическое. В. Брюсов, например, писал (и, конечно же, не без влияния своих армянских консультантов) о «разнице стихо-
1 Подробнее см.: Павел Шарапханян, Рифма в средневековой армянской поэзии. — «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1969, № I, с. 207—216 (на арм. языке).
29
сложения русского (тоническое) и армянского (силлабическое)». 1 Однако в 1933 году Манук Абегян издал свое обстоятельное исследование «Стихосложение армянского языка» (на армянском языке) и доказал, что армянское стихосложение тоническое. Точка зрения Абегяна получила признание.
В средние века попытки научного, философского объяснения мира часто приводили к поэтическому открытию действительности. Наука на ранней стадии своего существования словно бы компенсировала отсутствие глубины познания поэтичностью, яркой образностью.
Когда в XIII веке Ованес Ерзнкаци по прозвищу Плуз писал в своих философских сочинениях о том, что «бог создал все ощущаемые и телесные вещи из земли, одел их в зелень через посредство воды, сообщил им движение через воздух, придал им видимость и цвет посредством огня», 2 то он, конечно же, художественно познавал действительность. Вообще, Ованес Ерзнкаци придавал большое значение чувственному началу познания. «...Весь этот мир, — писал он, — вливается в наш разум через наши органы чувств, как через городские ворота». 3
Таким образом, в своих философских сочинениях Ованес Ерзнкаци оставался поэтом. Вместе с тем философична его поэзия, особенно его короткие нравоучительные стихотворения. (В XII—XIII вв. наивысшего расцвета достигает жанр басни. Особой популярностью пользовалась знаменитая «Лисья книга» Вардана Айгекци.) 4
Наш мир подобен колесу: то вверх, то вниз влечет судьба;
Верх падает, и вновь ему взнестись настанет череда.
Так плотник мастерит равно и колыбели и гроба:
Приходит сей, уходит тот, а он работает всегда.
(Пер. В. Брюсова)
Ованес Ерзнкаци говорит о тщете жизни, о предопределенности судьбы. Однако, вчитавшись в четверостишия поэта, можно, очевидно, понять его основную идею и так — поэт говорит о суетности мира, чтобы сказать, как глупо жить недостойно. Есть у Ованеса Ерзнкаци стихи, открыто обличающие «безрассудство человека».
1 «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», М., 1916, с. 16.
2 «Антология мировой философии», т. 1, ч. 2, М., 1969, с. 647.
3 Там же, с. 649.
4 См.: Иосиф Орбели, Басни средневековой Армении, М.—Л., 1956.
30
Л. О. Бабаян приводит по одной рукописи, хранящейся в Матенадаране, высказывание Ованеса Ерзнкаци, характеризующее его как человека, остро реагирующего на всякую несправедливость: «Неужто князья-владетели есть помазанники божьи, если они свое княжество удерживают великими несправедливостями, захватом, лишениями и ограблением... Ибо как врачи должны помогать больным, так и князья — обойденным законами, и подобно тому как несведущие врачи вредят больным, точно так же князья, которые не знают справедливых законов или не соблюдают их, вредят несправедливостью невинным и праведным беднякам». 1
Судя по «Стихотворению, написанному Ованесом Ерзнкаци» (условно оно названо нами «Ованес и Аша»), поэт ставил превыше всего земную жизнь человека с ее радостями и печалями и не призывал своих читателей к смирению и христианскому аскетизму.
Ованес, сын священника, и Аша, дочь кади, полюбили друг друга. Этот сюжет мог бы развернуться в условиях средневековой религиозной нетерпимости в трагическое повествование, однако Ованес Ерзнкаци с некоторым юмором пишет о любви Ованеса и Аши как о забавном случае. А ведь в средневековой Армении, как сказано в одной памятной записи XIV века, заставляли христиан «пришивать на спину черную нашивку, дабы люди, увидев их, узнали, что это христиане, и поносили бы их». 2 Для героев Ованеса Ерзнкаци любовь сильнее веры. Страдает, убивается мать Ованеса, а сын ее уговаривает:
«Примирись ты, о мать дорогая,
Не гневись ты, меня ругая.
Тонок стан у Аши невинной,
Звонок голос ее соловьиный».
Просто и легко снимает религиозные противоречия Аша:
Ты сказала мне: «Семя гяура,
Не смотри на меня так хмуро!
Ничего, что отец твой священник,
Мой отец — мулла и кади.
Всё забудем мы во мгновенье,
Лишь прижмешь ты меня к груди».
1 Л. О. Бабаян, Социально-экономическая и политическая история Армении в XIII—XIV вв., М., 1969, с. 308.
2 «Памятные записи армянских рукописей XIV века». Составил Л. С. Хачикян, Ереван, 1950, с. 47 (на арм. языке).
31
Чувственные стихи Ов. Ерзнкаци свидетельствуют об освобождении армянской любовной лирики от пут религиозной морали.
Ованес Ерзнкаци назывался, как известно, Плузом, что означает одновременно и голубоглазый, и низкорослый. Арменуи Срапян полагает, что Плуз в данном случае имеет одно значение: человек невысокого роста. Она ссылается на предание, согласно которому Ованес Ерзнкаци был невысок собою и мудр. Она же обращает внимание на то, что и в стихотворении «Ованес и Аша» сказано:
Ростом малый, умом великий,
Будь моим, Ованес, владыкой... 1
Эти строчки также могут служить свидетельством того, что Плуз был мал ростом и что автор «Ованеса и Аши» именно Ованес Ерзнкаци Плуз. 2 Из этих же строк следует другое: возможно, что стихотворение «Ованес и Аша» носит автобиографический характер. Если это так, то мы можем говорить о том, что уже в XIII веке личные переживания, личная жизнь поэта становилась темой поэзии не в опосредствованной форме, а в форме откровенной, прямо лирической исповеди, не стесняющейся гласности и душевной открытости. Правда, еще в X веке именно душевная открытость, даже душевная обнаженность определяют произведения Григора Нарекаци, однако то была хотя и личная, но философская исповедь, а в стихах у Ованеса Ерзнкаци — гласность и обнаженность любовных переживаний.
Город Ерзнка дал армянской поэзии еще одного лирика, которого звали Костандином и который жил несколько позже Ованеса, в XIII—XIV веках.
И если автобиографичность одного любовного стихотворения Ованеса предположительна, то многие произведения Костандина явно автобиографичны.
Стихотворения Костандина Ерзнкаци говорят о личности ранимой и не понятой современниками. Есть у него стихотворение «Иные злословят обо мне» (пер. М. Лозинского). Злословят из зависти:
Твердят: «Как это он речам дает столь нежный лад,
Что между нас ему никто не равен, не собрат?»
1 См.: Арменуи Срапян, Ованес Ерзнкаци. Исследования и тексты, Ереван, 1958, с. 39, 90 (на арм. языке).
2 Некоторые литературоведы считают, что стихотворение «Ованес и Аша» принадлежит не Ованесу Ерзнкаци, а какому-либо другому средневековому поэту, другому Ованесу.
32
Костандин Ерзнкаци объясняет тайну своего творчества как дар, данный ему богом. Еще юношей он видел бога «в солнечном одеянии, читающего свет»:
Я молвил: «Грешен я, ты, царь, прости меня, ты свят».
Я молвил: «Болен духом я, — уста твои целят».
Я молвил: «Беден я, язык безмолвием заклят,
Дай мне от дара твоего, насыть духовный глад».
Так Костандин Ерзнкаци провозгласил себя по сути дела поэтом милостью божьей и сделал это не столько как верующий, сколько как человек дерзкий и смелый, знающий цену и себе — человеку, и себе — поэту.
Я только глиняный сосуд, а в нем бесценный клад
От бога вещею душой, как манна, восприят.
Кто посягнет на этот клад как дерзкий супостат,
Тот против бога восстает, пред богом виноват...
Заклиная своих врагов именем бога (а врагов у поэта было множество), Ерзнкаци думал оградить себя от бед, но жизнь поэта была горькой, а родная земля была ему не матерью, а мачехой. Достаточно сказать, что Костандин Ерзнкаци жил в трагическое для Армении время — монголы завоевали и разорили страну. 1
В стихах Ерзнкаци, в его «Слове на час печали, написанном о братьях, обидевших меня» видишь человека, преследуемого судьбой:
Нет друзей, любимой нет, опоры нет внутри и вне.
Кто поймет, сколько скорбей в каждом моем прожитом дне!
(Пер. М. Лозинского)
Костандина Ерзнкаци мучит разлад с миром человеческим. Однако не так страшен и не так трагичен разлад между поэтом и современной ему действительностью, как разлад поэта с самим собой:
1 Об Армении эпохи монгольского нашествия см. работу историка XIII века Киракоса Гандзакеци «История Армении». Текст подготовил и снабдил предисловием К А. Мелик-Оганджанян, Ереван, 1961 (на арм. языке). См. также подробнейше документированную книгу Л. О. Бабаяна «Социально-экономическая и политическая история Армении в XIII—XIV вв.», М., 1969.
33
Меж двух огней моя свеча, я тот и этот жжет;
Опоры мыслям нет моим, они идут вразброд.
Или еще:
Две воли властвуют во мне, я раб у двух господ...
И в ранах сердце у меня, и боль мне душу жжет.
(Пер. М. Лозинского)
Этими своими стихами, неудовлетворенностью собой, внутренним разладом Костандин близок Григору Нарекаци, его мятежной поэзии. «Незнаком душе покой, и не придет радость ко мне», — пишет Костандин Ерзнкаци, и это его признание рисует нам характер крупный, ждущий многого от жизни и от себя самого. Редкая, острая неудовлетворенность поэта жизнью и собой говорит в данном случае И о масштабности его личности.
Костандину Ерзнкаци не везло в жизни и не везло в любви. Поэт написал о неразделенной любви стихи, прекрасные своей выстраданностью, а значит, и правдивостью:
Я чахну от любви и боли,
И я молю тебя, как молит
О благодатной влаге поле,
Которое сжигает зной!
Стих у Костандина Ерзнкаци неспокоен, драматичен. Однако когда он пишет о природе, преимущественно о весне и пробуждении земли, на него словно бы нисходит благодать:
Дохнул ветерком запевающим Юг,
Из мира исчезли все горести вдруг,
Нет места, где мог бы гнездиться недуг,
И всё переполнено счастьем вокруг.
(Пер. В. Брюсова)
Можно сказать, что гонимый и не понятый современниками поэт находит себя только наедине с природой.
Но, говоря о весне, он, оказывается, хотел также сказать о воскресении Христа. Когда он писал о солнце и свете, он тоже, как выясняется, думал о Христе. Воспевая любовь соловья к розе, он и тут тщился, по его же свидетельству, «разработать» религиозную тему. Однако стихи у него так верно, так по-земному изображают утро и свет, цветение земли, любовь соловья и розы, что, как мне представ-
34
ляется, читатель (и тогда, в XIII веке, и теперь) не подчиняется иносказанию, религиозной зашифрованности стихов, по всем признакам земных и светских. Костандин Ерзнкаци субъективно толковал свои стихи о весне и любви, о розе и соловье. «Может быть, вначале автор и хотел, — замечает Манук Абегян, — сочинить религиозно-иносказательные стихи, следуя мотивам и форме светской любовной песни, но написанное им на самом деле получалось светской песней, а пояснения, уже потом приписанные поэтом, не вязались с собственно стихотворением». 1
Природа суть свою раскрыла,
Не утаив от нас щедрот,
И, опьяненный розой милой,
Влюбленный соловей поет:
«...Не отвратишь ты увяданья,
Как я осенний свой отлет,
Но мысль о нашем расставаньи
Теснит в груди моей дыханье
И мне покоя не дает».
Такие стихи не могут не восприниматься в их земном и, я бы сказал, в их благородном смысле. И как тут не вспомнить Тютчева:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...
В данном случае и впрямь не дано предугадать, не дано уже потому, что аллегория розы и соловья (к ней прибегали и другие лирики средневековой Армении, среди которых выделяется поэт XVI века Григорис Ахтамарци) — это скрытая аллегория, нуждающаяся в специальных разъяснениях. Так, например, поэт XIV— XV века Аракел Багишеци «Песню о розе и соловье» заканчивает указанием на то, как надо понимать его стихотворение:
Всё это, полн земных грехов, писал я, Аракел,
Так соловья и розу я, как только мог, воспел,
А Гавриила в соловье изобразить хотел,
Марию — в розе и Христа — в царе, как я умел.
(Пер. В. Брюсова)
1 Манук Абегян, История древней армянской литературы, т. 2, Ереван, 1946, с. 327 (на арм. языке).
35
Подобные предостерегающие и направляющие комментарии — лучшее свидетельство того, что стихи о розе и соловье жили своей, так сказать, светской жизнью и не всегда понимались так, как того хотели бы их авторы. В. Нерсисян полагает, что авторы зашифрованно-аллегорических стихотворений специально стремились к тому, чтобы их песни понимались двояко: и как светские и как религиозные. 1
Стихами, нарочито контрастно изображающими жизнь, известен поэт XIII—XIV веков Фрик. Смысл и значение его стихов не «упрятаны» в иносказание, но открыты, как раны, а сами стихи — это крик о боли, это те самые «проклятые вопросы», которые с неизбежностью встают перед всеми, кто угнетен.
Ты прожил век — и ныне,
Как прежде, бос и гол.
Ты этот мир покинешь
Таким же, как пришел, —
пишет Фрик. Может быть, в этих стихах — и его личная судьба. Стихи Фрика рисуют нам образ человека много увидевшего, перестрадавшего. По сведениям, содержащимся в стихотворениях поэта, мы догадываемся, что он потерял семью, потерял детей, что был преследуем судьбой, которой посвятил обличающие, горькие строки:
Ты с правым во вражде всегда, а твой любимец — вор иль плут.
Ошибки чаще ты творишь, судьба, чем на земле весь люд.
(Пер. В. Брюсова)
Стихам Фрика придает особую остроту то, что он, верующий, не сомневается в высшей справедливости бога, в его праве творить над людьми суд и вместе с тем видит, как дико несправедливо устроена жизнь. Не понимая, почему же при наличии всемогущего и справедливого, как никто, бога так нелепо устроен мир, и не умея молчать, поэт решает обнажить жизненные противоречия, дабы показать всю их чудовищность. Он словно бы надеется, что кто-то снимет эти противоречия, увидав, как они уродливы, как страшны. Пишет Фрик, словно взывает о помощи:
1 В. Нерсисян интересно пишет об оригинальности творчества армянских поэтов, создавших аллегорические стихи на сюжет розы и соловья («Вестник Ереванского университета», 1969, № 3, с. 226— 232).
36
Зачем, подобно травам сорным,
Людей, нас вырывают с корнем?
Зачем ломают, как тростник,
И жгут в неистовстве упорном?
В своих «Жалобах» Фрик собрал жалобы всех отверженных, всех угнетенных и покинутых, собрал и, недоуменный, предстал с ними перед богом. Среди многих вопросов, заданных поэтом богу есть и такие:
Тот жив, хоть умереть мечтает,
Другому б жить — он умирает.
Старуха дряхлая живет,
Отроковица угасает.
Жизнь одному кошель раздула,
Другому лишь суму швырнула,
У одного — табун коней,
А у другого нет и мула.
Одним судьба дарит палаты,
Другим — на рукава заплаты.
Одним жалеет медяка,
Другим дарует горы злата...
Уже в новое время атеисты часто говорили верующим о классовых, жизненных противоречиях, о вопиющих контрастах в «божьем мире» — таков один из способов доказать вымышленность бога. Фрик, сам того не сознавая, пользуется этим способом, но истово верит в бога и ни на минуту не сомневается в том, что он есть.
Средневековый армянский философ Григор Татеваци (ок. 1340— 1410), толкуя притчи Соломоновы, писал: «Разум — это не испытывающий стыда и бесстрашный судия, ибо он не боится бога, ведь он сам себе господин... Он мудр, ибо исследует постоянно. Вот почему он судит истинно и точно». 1 Фрик верил в бога и бога боялся, но его разум, его душа восставали против несправедливости «божьего мира», постоянно исследовали его и судили о нем истинно и точно.
Фрик не мог понять и не мог примириться с тем, что верующие оказались под властью племен, не признающих святого креста.
Так почему ж на белом свете
Могучи нечестивцы эти?
1 «Антология мировой философии», т. 1, ч. 2, М., 1969, с. 658.
37
Монголы, завоевав Армению, были беспощадны к трудящемуся человеку, взимали налог даже за вероисповедание.
Теперь еще труднее нам, когда татарин сел на трон,
Всех обделил он, и воров поставил господами он.
(Пер. В. Брюсова)
И так как жить становилось «еще труднее» и было от чего отчаяться, Фрик призывал к самоусовершенствованию, к внутренней чистоте и свободе (см. стихотворение «Цветок любви»). Проповеднический пафос поэта обращен в одном из стихотворений к богатым, то есть к самым грешным людям:
На муку вас осудят
За пурпур, за виссон,
Последний нищий будет
Скорей, чем вы, спасен!
Мысль о греховности людей занимала Хачатура Кечареци, современника Фрика. Стихотворения Кечареци свободны от пресного догматизма, ненужного морализирования. Хачатур Кечареци с болью за людей писал:
Кого-то пламенем сжигал я,
И сам терпел, сгорал дотла,
И зло кому-то причинял я,
Страдая от людского зла.
Одна такая строфа может открыть человеку глаза на жизнь, им же самим устроенную бессмысленно и зло.
Жизнь — это снег на склоне горном.
Грядет весна — растает он.
Надо поэтому жить праведно и правильно.
Мысль о том, что люди живут неправильно и что надо жить иначе, занимала многих средневековых поэтов. Они знали, как неустроен человек в мире социальных контрастов, хотя самый этот мир воспринимался ими односторонне, — все зло они видели в человеке, стремились переделать его, не переделывая самой жизни.
Поискам путей, которые могли бы вернуть человека в райское лоно, откуда были изгнаны прародители, посвятил свои поэмы «Адамова книга» и «Книга рая» Аракел Сюнеци (ок. 1350—1425).
38
В поэтическом наследии Сюнеци не все равноценно. Порой его увлекали формальные задачи, он прекрасно владел техникой стиха и как бы щеголял своим умением. Одно из стихотворений Сюнеци написано в форме сложного акростиха, который я бы назвал многоступенчатым. В стихотворении 39 строф. Начальные буквы первых строчек 36 строф воспроизводят армянский алфавит. (Подобный тип акростиха встречается, как мы знаем, еще в VII веке.) Начальные буквы последних строчек 37 строф воспроизводят имя автора и тему стихотворения — «О лучезарных цветах». Начальные буквы вторых строчек всех 39 строф составляют двустишие, а начальные буквы третьих строчек образуют еще одно двустишие. Таким образом получается рифмованное, строго выдержанное ритмически четверостишие, вписанное в стихотворение в виде акростиха:
Ты — лучезарное, цветущее дерево,
Если догадаешься, что здесь сказано (скрыто).
Догадавшись, просветишься душой
На светлом, лучезарном лоне.
(Перевод подстрочный)
И так как только недавно исследователь творчества Сюнеци Аршак Мадоян прочел зашифрованный акростих поэта XIV—XV веков, 1 то, следовательно, словно бы именно к нему, Мадояну, обращены стихи о лучезарном, цветущем дереве...
Сила и привлекательность лучшего произведения Аракела Сюнеци, его «Адамовой книги», — в том, что он, воспользовавшись известным библейским преданием о грехопадении Адама и Евы, изобразил муки человеческие — душевное потрясение своих героев.
«Адамова книга» контрастна по мысли, по краскам, ибо контрастен самый материал книги — рай и ад, душевная чистота и грехопадение. Свет как символ чистого, возвышенного, божественного восходит к раннехристианской поэзии, к шараканам. Рай для Сюнеци — традиционно изображаемое царство света. Адам и Ева одеты в свет, и тела их, по слову поэта, как приемлющий свет бриллиант... И чем светлее жизнь прародителей в раю, тем она греховнее и мучительнее на земле, где им надлежит в поте лица своего добывать хлеб свой. Заслуга Сюнеци в том, что он развил библейский сюжет, создал характеры, душевно смятенные, обуреваемые сомнениями. Изгнание прародителей из рая воспринимается в изображении Аракела Сюнеци
1 А. Мадоян, Стихотворения Аракела Сюнеци. — «Вестник Ереванского университета», 1969, № 3, с. 224—225 (на арм. языке).
39
как трагедия неправильно прожитой жизни, трагедия невосполнимых утрат.
Мысль о быстротечности жизни, которую надо прожить не бессмысленно, особенно сильно выражена в мрачном до безысходности стихотворении Керовбе (конец XV в.) «Горе несчастному мне...». Человек смертен, и это должно быть ему предостережением, призывом творить добро, не осквернять свою душу грехами. Ованес Тлкуранци, поэт XIV—XV века, нашел стихотворную формулу этой идеи, кстати сказать довольно распространенной в христианском мире:
Коль не было б мужей, что грешных нас
Предостеречь хотят святым писаньем, —
Смерть и без них была бы всякий раз
Остереженьем и напоминаньем...
Стихотворение Ованеса Тлкуранци «Коль не было б мужей...» выходит за рамки христианско-дидактической морали. В нем ясно обозначены раздумья поэта о жизни и смерти в характерном для народного творчества философском ключе:
Не одного я видел удальца, —
Теперь они давно лежат в могилах,
И даже муравья согнать с лица,
Ходившие на львов, они не в силах.
В средневековой армянской поэзии нередки случаи, когда в стихах переплетаются два влияния — христианских идей и народной мудрости. Эти влияния скрещиваются, на мой взгляд, в стихотворении Мкртича Нагаша (XV в.) «Суета мира»:
Не собирай земных богатств — с огнем в очах:
Одет и сыт? Доволен будь! — иное — прах!
(Пер. В. Брюсова)
Двустишие отмечено влиянием народной философии, народного понимания жизни, хотя стихотворение Нагаша в целом — это сентенция в духе христианства о суетности мира. Народное миропонимание отчетливее выразилось в стихотворении М. Нагаша «О жадности». Здесь поэт обличает человеческие пороки не столько с точки зрения виновности людей перед богом, сколько исходя из реальных, основанных на законе чистогана, хищнических отношений между людьми:
40
Один болтается в петле, другой сидит в тюрьме сырой,
А те пропали с головой, — всё из-за жадности людской.
Цари садятся на коней, цари воюют меж собой,
Гоня покорных на убой, — всё из-за жадности людской. 1
(Пер. П. Панченко)
Обвиняя во всем человеческую жадность, поэт считает причину (жизненные, классовые противоречия) следствием, а следствие (страсть к накопительству) — причиной, но, главное, им замечены противоречия современного ему мира.
Тема защиты родной земли была во все времена актуальной. Она была актуальна и в Армении XIV—XV веков, когда дикие племена завоевали страну и вели между собой войны, вконец разоряя землю и народ.
Сохранились об этом тяжелом времени сведения очевидцев, переписчиков рукописей. Переписчики в конце рукописи, над которой они трудились годами, делали так называемую памятную запись. Они рассказывали о себе, об исторических событиях, очевидцами которых были, комментировали виденное и пережитое. В этих записях, приложенных к уже известным книгам, скажем, к Библии, звучал живой человеческий голос. Памятные записи образовали в средневековой письменной культуре Армении своеобразный жанр. Они изданы и исследованы Л. Хачикяном.
Переписчики рукописей часто выступали в роли летописцев. Порой «Памятные записи» делались в стихах.
Пусть возопит истошный глас
О том, как попирают нас,
Как безграничны наши беды,
Как нас господь обрек страдать,
Как в руки чужеземцев предал,
Пустил на нас чужую рать, —
читаем в одной «Памятной записи XV века».
Земля армянская на протяжении всей своей истории подвергалась нашествиям. Войны, навязанные народу, опустошали и разоряли страну. Ованес Тлкуранци посвящает свою «Песнь о храбром Ли-
1 Стихотворение М. Нагаша «О жадности» имеется в несколько вольном, но энергичном переводе Эрлиха. См.: Вольф Эрлих, Стихотворения и поэмы, М.—Л., 1963, с. 73—74.
41
парите» герою, сражающемуся с врагами отечества, но вероломно преданному своим же царем. Липарит — героическая личность с трагической судьбой. Описываемые Ованесом Тлкуранци события произошли в 1369 году. Патриотический подвиг Липарита не был забыт, о нем были созданы народные сказания, ему посвящены стихи. Поэма Тлкуранци — призыв защищать родину. Тлкуранци осуждает предательство, зовет к объединению сил. «Песнь о храбром Липарите» характеризует ее автора как гражданина и поэта-патриота.
Ованес Тлкуранци — автор страстной и многокрасочной любовной лирики. Он, словно изжаждавшийся любовник, которого угнетала немота, одаряет любимую эпитетами (я здесь воспользуюсь стилем Тлкуранци) яркими, как огонь, горячими, как солнце, и нежными, как луна.
Я такое увидал впервые.
Очи — словно волны голубые,
Волосы — как нити золотые,
Брови — ночи зимней чернота...
Слово обладает свойством меркнуть от обилия эпитетов и красок. Но у Тлкуранци много чувств и немного слов, он не напевает, не нашептывает любимой о своих чувствах, он кричит ей о своей страсти:
О! сердце ты мое сожгла, чтоб углем брови подвести.
О! кровь мою ты пролила, чтоб алый сок для ног найти.
(Пер. В. Брюсова)
От неразделенности чувств стих у поэта нервный, мятущийся, а «огонь любовный» от этого разгорается еще сильней. Ованес Тлкуранци не прошел, конечно, мимо специфического арсенала восточной поэзии:
За твой поцелуй отдам Хоросан,
Абаш и Дели, Емен, Индостан.
Цена твоих кос — Китай и Яздан,
Стамбул и Хата — всё обилие стран.
(Пер. С. Спасского)
Ованес Тлкуранци — один из открывателей этого традиционного приема восточной поэзии. Существует легенда о завоевателе Тимуре, который прочел в стихах о том, что поэт Хафиз готов отдать за родинку любимой Самарканд и Бухару, прочел и возмутился, ибо поэт не был обладателем городов, города принадлежали ему, Тимуру. Но любовь, а значит, и города, и вся вселенная все-таки принадлежали поэту.
42
4
Армянская лирика XVI века открывается поэзией Григориса Ахтамарци. В любовных стихах, принесших ему славу, он развивает традиции Ов. Тлкуранци. Стилистически его стих еще более красочен, чем у предшественников, и перенасыщен эмоциями. Валерий Брюсов верно писал о стихотворении поэта «Песня» («Весна пришла! Весна пришла!..»): «Эта пышная поэма, насыщенная напряженностью страсти, по-восточному цветиста и сама похожа на горсть самоцветных каменьев, отливающих всеми цветами радуги». 1
Изобретательность Ахтамарци не знает границ. Когда надо воспеть любимую, он находит все новые и новые образы. Возлюбленная поэта — ладан, живой цветок, жемчужно-светлая звезда, кипарис, янтарь, сандал, цветок апельсина, пальма, свежий росток шафрана, фиалка, мускус, нарцисс, беспорочный изумруд, золото, серебро... Нельзя поэту отказать в утонченности мысли и в художественном такте. При таком количестве слов-образов стих его не приторен.
Мы знаем, что Григорис Ахтамарци также писал стихи, в которых была заключена аллегория. Его стихотворение «Песнь об одном епископе» воспринимается и как рассказ об одной жизни, и как характерное для Армении XVI века изображение переменчивости жизни вообще, неуверенности в завтрашнем дне, ибо любой час может стать часом последним.
«Песнь...» — это монолог епископа о неудавшейся жизни, о той печальной истине, которая стала пословицей: «Когда дом построен, в него входит смерть».
Епископ разбил сад, взрастил виноград, гранаты, розы, и еще не собран урожай, вино еще не выпито, еще не раскрылись розы, а ему говорят: уйди из сада.
Опустошил я горный скат, —
Камнями защитил свой сад,
Собрал колючки для оград —
И слышу: встань, покинь свой сад!..
(Пер. В. Брюсова)
В этих стихах нет и следа известной христианской доктрины о том, что земная жизнь ложна, что она лишь преддверие жизни
1 «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», М., 1916, с. 55.
43
вечной. Все стихотворение Ахтамарци пронизано щемящей, острой любовью к жизни земной.
«Песнь об одном епископе» стилистически менее «восточна», она написана сдержанно, без обилия красок, характерных для других стихотворений Ахтамарци. Правда, Валерий Брюсов не учел этой особенности «Песни...» и перевел ее в сугубо восточном ключе.
Ср., например, у Ахтамарци:
Воду я провел с гор,
Устроил у себя в саду ключ,
Я еще не пил этой воды,
А мне говорят: уйди из сада.
(Перевод подстрочный)
У Брюсова:
Устроил я в саду каскад,
Росу небес он брызжет в сад;
Льет не вода — фонтан услад.
И слышу: встань, покинь свой сад!
О стилистической неоднородности поэзии Григориса Ахтамарци важно сказать в связи с тем, что вообще поэзия XVI века стилистически многообразна.
Выдающийся поэт армянского средневековья Наапет Кучак (XVI в.) ближе по языку и образам к поэтам XII—XIII веков, когда «восточный слог» не был еще так распространен.
Родился Наапет Кучак в начале XVI века. Дожил, по преданию, до ста лет. Существует легенда о том, что Кучак исцелил своими песнями от смертельного недуга султаншу. (Армению XVI века поделили между собой Иран и Турция. Этим и объясняется легенда о султанше.) Султан отблагодарил Кучака, построив семь мостов, ведущих в Хароконис, семь церквей, присовокупив к ним и семь мечетей. Это был благодарный султан из легенд. В действительности Армения XVI века была ареной нескончаемых войн между Ираном и Турцией. «Сколько отцов и матерей, — пишет очевидец этих войн Ованес Арчишеци, — потеряли сынов своих и дочерей, и сколько сестер потеряли братьев, а братья — сестер, и сколько прекрасных мужей и жен были разлучены, и сколько сестер и братьев погибли в одну ночь, и кому под силу рассказать о горе и скорби их родителей и семейств». 1
1 «Мелкие хроники XIII—XVIII вв.», т. 2. Составил В. А. Акопян, Ереван, 1956, с. 228 (на арм. языке).
44
О жизни Кучака сколько-нибудь подробных и достоверных сведений нет. Остались легенды. А главное — остались стихи.
Кучак писал айрены. Это песни, состоящие, как правило, из четырех стихов по 15 слогов. Стих делится на два полустишия из семи и восьми слогов (с ударением в первом полустихе на втором, пятом и седьмом слогах, во втором полустихе на третьем, пятом и восьмом слогах). В одних изданиях айрены печатаются как четверостишия — каждый стих с двумя полустишиями занимает одну длинную строку, в других изданиях как восьмистишия — каждое полустишие с новой строки. (В древних рукописях айрены не разделены на строчки.) Соответственно и на русский язык айрены переводятся либо как четверостишия, либо как восьмистишия.
Айрены дошли до нас в рукописях XVI века. М. Абегян считает, что айрены созданы гусанами, народными певцами. 1 Точку зрения М. Абегяна разделяет, в частности, Ас. Мнацаканян и находит, что было бы правильнее датировать их тринадцатым и последующими веками. 2
Изучение языка, стиля и образной структуры айренов показывает, что именно один поэт (вероятнее всего он жил в XVI веке, может быть даже раньше, но никак не позже) довел айрены как стихотворную форму до совершенства. Принято считать, что этим поэтом был Наапет Кучак.
Айрены продолжают выходить (не только на армянском, но и на русском и на иностранных языках) как сочинения Наапета Кучака. А самый «разговор о том, что в наследии Кучака есть что-то не кучаковское, только потому и возможен, — как замечает Н. Джусойты, — что перед нами единый, самобытный, индивидуальный поэтический мир, созданный великим вдохновенным мастером». 3
Спорам, ведущимся вокруг личности Кучака, нельзя, как мне думается, придавать преувеличенное значение и забывать о самом главном — о стихах.
В айренах Кучака выразилась главная черта эпохи Возрождения — чувство полноты жизни, полноты ощущения красоты мира.
Большинство дошедших до нас айренов Кучака — это стихи о любви, свободной от канонов домостроевщины, любви, знающей одну только власть — власть сердца. А ведь не только во времена Кучака, но еще в V веке армянский ученый и католикос Саак Партев пред-
1 Манук Абегян, Гусанские народные песни, Ереван, 1940 (на арм. языке).
2 Асатур Мнацаканян, Об айренах и Наапете Кучаке. — «Историко-филологический журнал», 1958, № 2, с. 234—257 (на арм. языке).
3 «Дружба народов», 1969, № 2, с. 273.
45
писывал священникам: «А вы, священники, вовсе не благословляйте брака малолетних впредь до совершеннолетия, а совершеннолетних, которые по своей воле друг с другом не виделись, также не смейте венчать без расследования и расспросов их самих; быть может, по принуждению родителей, помимо воли своей, они дали согласие, и не смейте благословлять такие свадьбы, ибо по сей день от таких беспорядков — одни лишь беды, духовные и телесные». 1
Поэзия Кучака знаменует собою торжество высоких принципов любви по своей воле, по законам сердца. Священники и те (о них пишет Кучак с улыбкой, с иронией) не могут устоять перед «чарами любви»:
Поднимись, выйди из дома,
Как выходит солнце.
От твоих грудей исходят лучи,
Как весенние молнии из-за туч.
Многих дьяконов и священников
Твоя любовь увела от амвона,
И меня ты сделала влюбленным,
Заставила уйти из отчего дома.
(Перевод подстрочный)
Светский, внерелигиозный характер многих айренов был подготовлен, очевидно, и отголосками движения тондракийцев. Тондракийцы, как известно, проповедовали равенство, отказ от церкви. Идеолог тондракийцев Смбат Зарехаванци учил, что жизнь человеку дана только в этом мире, что другой жизни не будет, ибо душа человека не бессмертна. А раз это так — только в этой жизни можно познать радости любви.
В одной из песен герой укоряет несговорчивую красавицу:
...Ведь и ты уйдешь в край туманный,
В край, куда красоты не возьмешь.
Почему же при жизни так странно
Ты со мною себя ведешь?
Любовь, не знающая ханжеских запретов, — основной мотив айренов:
«Из чего ты создана? Из рубина, изумруда?
Мылась розовой водой из какого ты сосуда?»
— «Если это обо мне, я и вправду белогруда,
Пуговицы расстегну — погляди-ка, что за чудо!»
(Пер. В. Звягинцевой)
1 «Армянская книга канонов». Издал В. Акопян, Ереван, 1964, с. 382 (на арм. яз.)
46
В айренах Кучака любовь к женщине чиста именно своей прямотой, своей высказанностью, я бы сказал, обнаженностью. Однако необузданность чувств не переходит в распущенность, а сила любви — в грубость. В айренах много нежности:
Грудь твоя — как утро,
Утренняя роса на ней.
Стать бы мне солнцем —
Собрать бы росу.
(Перевод подстрочный)
Есть в айренах целомудренная сдержанность. Даже самые откровенные признания смягчаются вдруг улыбкой. Любовные излияния, часто столь смелые в своей прямоте, с большим тактом заключены в несколько шутливую форму, которую неоднократно использует Кучак. Айрены любви богаты интонационно, богаты по содержанию. Это песни страстных, неожиданных, причудливых признаний в любви.
В Армении был обычай дарить в знак любви яблоко. Этот обычай отразился в айренах, в эпосе «Давид Сасунский», в песнях. В одной народной песне яблоня говорит: «Я — знак любви, символ сердца, ни роза, ни лилия не могут со мной сравниться, я несравненна...» Яблоня — олицетворение взаимности чувств, целомудрия и чистоты, красоты женщины и любовных услад. Яблоко у Кучака — то же, что роза в традиционной поэзии.
Любовь, воспевание радостей любви и вина в айренах не есть свидетельство того, что Кучак услаждал стихами сильных мира, как полагали некоторые исследователи его поэзии. Дело в том, что в средние века чувство любви было своеобразным культом, распространенным среди трудового народа, особенно среди ремесленников. И не только в богатых домах, но главным образом там, где не знали достатка, — воспевали вино, красоту женщины и красоту ее нарядов:
...И напиток хмельной и пряный
Я в две чаши для нас налью.
Облекусь в наряд тонкотканый,
Чтобы ты за дымкой туманной
Видел белую грудь мою.
Культ любви не был, конечно, проявлением беззаботно-веселой жизни. Айрены Кучака — диалог двух влюбленных, не всегда одаряющих друг друга взаимностью, не всегда равноправных, но, как заметил Нафи Джусойты, к этому диалогу «все время молчаливо
47
прислушивается некто третий, какой-то сумрачный соглядатай. Кучак даже в своей неистовой устремленности к возлюбленной не забывает о нем, спорит с ним, проклинает его, то вышучивает, то издевается над ним, то горько, по-мужски рыдает в сознании неодолимости этой силы». 1 И сама любовь во многих айренах поэта — источник боли и страданий:
Твердили мне: «Красавец наш!», — когда я рос в семье родной,
Но побледнел я и поблек от встреч с гордячкою одной.
(Пер. В. Звягинцевой)
Любовь — как смерть, говорится в одном айрене. Часто сравнивается любовь с огнем, сжигающим сердце и душу.
Спокойная медлительность созерцания жизни, присущая некоторым средневековым поэтам, не характерна для айренов. Им свойственны настроения мятежного беспокойства. Большой цикл составляют айрены о пандухтах — скитальцах.
Если б стало чернилами всё бесконечное море,
Тростники всех болот стали перьями б, с лучшими споря, —
Все монахи Стамбула, и Рима, и наших нагорий,
Мудрецы Хоросана, чтецы — будь хоть все они в сборе —
Не смогли бы прочесть эту длинную летопись горя.
(Пер. В. Звягинцевой)
Стихи Кучака о скитальцах, ушедших или угнанных в чужие края, полны горем одиночества, мучительным одиночеством жен и матерей.
Часто Кучак использует народную речь, мотивы и образы народной поэзии. Айрен «Если б стало чернилами всё бесконечное море...» восходит по своей образной структуре к фольклорному первоисточнику. Причем задолго до Кучака, еще в X веке, Григор Нарекаци в своей знаменитой «Книге скорбных песнопений» использовал тот же ряд, ту же систему образов:
И если я припомню всё, что было,
И воды моря превращу в чернила,
И, как пергаменты, я расстелю
Все склоны гор пологие и дали,
И тростники на перья изрублю, —
1 «Дружба народов», 1969, № 2, с. 272.
48
То и тогда при помощи письма
Я перечислю, господи, едва ли
Мои грехи, которых тьма и тьма.
Прост язык айренов, он лишен цветистости и украшательств. Кучак счастливо избежал изобилия образов, щедро рассыпанных в стихах многих средневековых поэтов XVI—XVII веков. Айрены просты и совершенны, как древние храмы Армении, и столь же лаконичны. Кучак дорожил словом, как хлебом.
В армянской действительности средних веков исторические катастрофы сменялись одна другою. Роковым оказался для Армении XVII век. В 1604 году персидский шах Аббас I насильственно переселил армян в Персию. Обезлюдели армянские города и села. Как сообщает историк XVII века Закария Канакерци, «осталась страна Араратская пустынной и безлюдной». «Поэтому, — продолжает историк, — в стране размножились звери, устроили себе логово в селах и плодили там детенышей. И были звери те: барс, медведь, гиена, волк, куница, еж и другие подобные им, крупные и мелкие. И не осталось человека, чтобы прогнать их, и они смело и бесстрашно бродили всюду. Но смелее других зверей были волки...» 1
Однако как бы ни приходилось худо, люди жили (в безвыходные, казалось бы, времена выживали) и думали о будущем. Чем труднее была жизнь, тем больше люди дорожили ею и тем с большей решимостью боролись за нее. Исторический пессимизм всегда был чужд народу. Поэтому в XVI—XVII веках, так же, как и во все времена, писались стихи, полные радости бытия, стихи, говорящие о жизненной активности их создателей. Думается, не случайно поэт XVI—XVII веков Нерсес Мокаци написал стихотворение о споре Неба и Земли и решил этот спор в пользу Земли:
И Небо в гордыне смирилось,
И Небо Земле поклонилось...
И вы, неразумные дети,
Скорее на этом свете
Воздайте Земле почет!
Не следует преувеличивать значения этих стихов, но призыв поэта воздать Земле почет и его мысль о превосходстве Земли над Небом стоят того, чтобы их упомянуть.
1 Закария Канакерци, Хроника. Перевод с армянского, предисловие и комментарии М. О. Дарбинян-Меликян, М., 1969, с. 80.
49
Из армянских поэтов позднего средневековья владел сатирическим стихом Мартирос Крымеци (XVII в.). Века иноземного гнета способствовали процветанию в армянской действительности «деятелей», прежде всего думающих о чреве своем. Тип такого «деятеля», равнодушного решительно ко всему, кроме живота своего, высмеивает Мартирос Крымеци в стихотворении «Иерей Симеон». (Позднее, в XIX веке, этот же тип вновь станет объектом сатиры армянских писателей, в частности популярного во второй половине XIX века гражданского поэта Рафаэла Патканяна.)
Мартирос Крымеци обращается к фольклору, но это поэт, для которого важны традиции письменной литературы, тогда как уже для Нагаша Овнатана (1661—1722) главное — фольклорные традиции. Это, конечно, не значит, что Овнатан, как и Саят-Нова, игнорировал богатейшую поэзию предшественников. Речь идет о том, какая тенденция сильнее выразилась в творчестве того или иного поэта.
Народные певцы — гусаны или ашуги (так называют поэтов, слагающих песни в традициях фольклора) — всегда были популярны в Армении. Исследователь так называемой ашугсксй поэзии Гарегин Левонян составил список армянских поэтов-ашугов за тысячу лет. 1 В его списке около четырехсот имен! Понятно, что только отдельные наиболее выдающиеся поэты-ашуги удостаивались признания.
Овнатан, как Тлкуранци и Ахтамарци, — автор по преимуществу любовных стихов, написанных в традиционном ключе, когда стих строится на нанизывании образов, рисующих красоту женщины (и обязательно необыкновенную красоту), говорящих о страсти (тоже необыкновенной) и муках любви (исключительно тяжких, невыносимых). Характерность поэзии Овнатана в том, что стилистически и лексически его лирика более народна по сравнению с поэзией предшествующей. Он часто пользуется готовыми, постоянными эпитетами ашугской поэзии и достигает многого за счет того, что не раз уже бывшие в употреблении слова-образы звучат в его песнях внове и, как протертое стекло, передают чистоту и глубину света. Причем слова «свет», «чистота и глубина света» точно определяют отношение Нагаша к женщине. В «Песне о грузинских красавицах» он говорит, что от женщин — светло в глазах, — они излучают свет:
Их брови загнуты дугой,
В глазах чудесный луч такой!..
1 Гарегин Левонян, Сочинения, Ереван, 1963, с. 84—89 (на арм. языке).
50
От них исходит звездный свет, —
Кому грузинки не понравятся?
(Пер. П. Панченко)
Женщина и свет для Овнатана — синонимы. Он не устает об этом писать и не устает восхищаться этим чудесным светом:
Зажегся нынче новый свет,
От милой слышал я привет...
Лик твой светлый, глаз твоих горенье
Смертных повергают в изумленье...
Мой озарило путь твое сиянье,
Твой взгляд пронзил меня издалека...
Любимая, твой взгляд огнем лучится...
Брови — две светящихся дуги.
Милая, меня побереги...
Овнатан любит писать стихи о счастье, ничем еще не омраченном, о радости незамутненной. Даже в стихах о неразделенности чувств и любовных страданиях его увлекает возможность сказать, как прекрасна любимая и как прекрасен свет (и белый свет, и свет, исходящий от женщины). Нагаш Овнатан в своей любовной лирике словно не замечает противоречий мира, и не потому, что он их не знает (Овнатан — автор и сатирических стихов, остро и смело высмеивающих все, что отжило свой век), а потому, что он всегда поворачивался лицом к свету — его призвание утверждать жизнелюбивые чувства. «И розы пусть подарит брату брат...» Этот призыв Овнатана — ключ к его творчеству и к раскрытию его личности.
Позднее средневековье начинается, как известно, в XVI столетии, а завершается в первой половине XVII века. Это общепринятая периодизация. Но «в силу неравномерности развития ряда стран понятия «средневековая литература» и «литература средних веков» не идентичны». 1
Армянские поэты конца XVII и XVIII века, то есть нового времени, по существу продолжают и завершают средневековую литературу (идеи, стиль, тема, образы). Культурная жизнь в Армении не
1 «Литература Востока в средние века», М., 1970, с. 3.
51
прекращалась, но веяния нового времени слабо проникали в порабощенную, лишенную самостоятельности страну.
Поэтов XVIII столетия и такого выдающегося поэта века, как Саят-Нова, историки армянской литературы относят к культуре армянского средневековья.
Армянские поэты раннего средневековья писали на грабаре — древнеармянском языке. Уже в V веке это был язык богатый, литературно сложившийся. О богатстве грабара можно судить по переводу Библии, осуществленному в начале V века. До сих пор этот перевод считается одним из лучших. С XII века грабар постепенно выходит из употребления и уступает свои права среднеармянскому языку, близкому к разговорной речи и общепонятному.
В XIII веке Ованес Ерзнкаци, а позднее Костандин Ерзнкаци, Фрик, Наапет Кучак, Ованес Тлкуранци, Григорис Ахтамарци и другие поэты писали свои стихи на среднеармянском языке.
В XVII—XVIII веках проблема литературного языка встает с особой остротой. Для нарождающейся новой армянской культуры был необходим единый, доступный для всех слоев народа литературный язык. С этой функцией не мог к тому времени справиться и среднеармянский язык, который стал малопонятен, хотя по сравнению с грабаром был более доступен. И тем не менее некоторые деятели армянской культуры XVII—XVIII веков полагали, что надо вернуться к грабару. На грабаре писали Багдасар Дпир, Петрос Капанци, Григор Ошаканци и другие поэты и общественные деятели XVIII века. Усилия сторонников грабара оказались напрасны: культивируемый ими язык не мог привиться, хотя они старались писать на так называемом простом грабаре; вместе с тем литература, созданная в XVII—XVIII веках на грабаре, представляет безусловный интерес, хотя стихи и Багдасара Дпира, и Петроса Капанци, этих наиболее видных поэтов, писавших на грабаре, были «закрыты» для простолюдина. 1
Лирика Багдасара Дпира традиционна по своей тематике и общему настроению.
Исследователи лирики Дпира обращают внимание на его стихотворение «К мамоне», стихотворение именно по теме своей оригинальное для армянской поэзии той поры. Дпир задался целью разгадать, в чем власть денег, власть богатства. Он знает, как эта
1 Некоторые песни Б. Дпира и П. Капанци распевались в народе, чему во многом способствовала музыкальность стихов и музыка к песням. Что же касается малопонятных слов, то в песне они бывают даже привлекательны. Слушаем же мы — и с удовольствием — песни на непонятных нам языках.
52
власть сильна, как она гибельна, и пишет о мамоне с точки зрения народной морали, отказывающей этому страшному божеству в почестях, которые щедро воздают ему богачи.
И хоть ты, может, всех сильней,
Но все-таки порой бывает,
Что и слабейший из людей
Тебя с презреньем попирает —
такова заключительная, итоговая строфа стихотворения.
Учеником Багдасара Дпира принято считать Петроса Капанци. Капанци не был, однако, певцом любви, хотя, как пишет Шушаник Назарян, некоторые литературоведы ошибочно считали его автором преимущественно любовной лирики. 1 Петрос Капанци прежде всего автор религиозно-нравственных, пейзажных стихотворений и патриотических песен. Правда, его аллегорические стихотворения о розе, о соловье воспринимаются как любовные песни — их скрытый смысл смутно улавливается. Любопытно, что некоторые стихотворения поэта имеют разъясняющий заголовок — «К почтенному народу моему с иносказательным обращением к Розе», «Вновь о Константинополе, воспетом в образах Розы и Соловья».
У многих, если не у всех средневековых армянских поэтов можно найти стихи о весне, о чуде обновления земли. Эта тема была очень популярна в средневековой поэзии. Нередко картина весеннего пробуждения мира вольно или невольно ассоциировалась с ожидаемым пробуждением и обновлением родной страны. Так написаны многие «весенние», пейзажные стихотворения Петроса Капанци.
Есть у Капанци стихи, освобожденные от колодок аллегории и прямо обращенные к народу, стихи, в которых свою личную судьбу он ставит в зависимость от судьбы народа:
Нет без тебя мне счастья, я безроден,
Без твоего участья я бесплоден.
На что я годен и кому угоден?
Я словно древо, где не зреет плод.
Капанци молит бога помочь его народу, он одержим идеей свободы, но язык его скован немотой грабара — стихи поэта не доходят до любимого народа, а бог, который, надо полагать, владел грабаром, всегда был глух к мольбам угнетенных и попранных.
1 Шушаник Назарян, Петрос Капанци, Ереван, 1968, с. 19 (на арм. языке).
53
Последним великим поэтом армянского средневековья был Арутин Саят-Нова (1722—1795) 1. Писал он на армянском, грузинском и азербайджанском языках. Саят-Нова — признанный поэт и в Грузии, и в Азербайджане.
В Тифлисе, у грузин, поборником любви
Тебя, Саят-Нова, назвали, говорят, —
сказано в одном из азербайджанских стихотворений поэта (пер. К. Липскерова).
В лирике Саят-Новы нам дороги интернационализм, идейная глубина и могучая нравственная сила. «Кто справедлив и чист в делах, я лишь того готов ценить», — пишет Саят-Нова (пер. С. Гайсарьяна). «Но у всех — душа: возлюби чужих, бедных возлюби, гостя возлюби», — поучает он (пер. В. Брюсова).
В песнях Саят-Новы широко и эмоционально отражена современная поэту действительность, контрасты которой жгли сердце и душу поэта.
Наш мир — окно, но улиц вид меня гнетет, мне стал не мил.
Кто взглянет — ранен. Язвы жар, что душу жжет, мне стал не мил.
(Пер. С. Шервинского)
Поэт в разладе с миром и судит о нем не по царскому дворцу, где был ашугом, а по виду улиц, ибо он — истинный поэт народа. Воздействие лирики Саят-Новы на читателя, на уличную толпу всегда было велико.
Стихи Саят-Новы чрезвычайно образны. Он поистине чарует «жемчугами» речей. «Славословий моих, — говорил поэт о себе, — только слон мог бы книгу нести» (пер. К. Липскерова). Саят-Нова в ряде своих песен характеризовал свое творчество, неизменно подчеркивая образное богатство своей лирики:
Из дальних стран — безумец я! — для всех свой клад сюда принес,
Рубинов рой — пусть ювелир свой косит взгляд — сюда принес.
Товар индийский, что милей нам всех услад, сюда принес.
С каких станков, каких шелков, какой наряд сюда принес!
(Пер. К. Липскерова)
1 Дата рождения Саят-Новы уточнена Паруйром Севаком. См.: П. Севак, Саят-Нова, Ереван, 1969, с. 13—117 (на арм. языке).
54
Поэт обращался и к традиционным образам армянской лирики (и вообще к щедрой образности восточных литератур, к образам песенного творчества народов Закавказья), и, разумеется, к образам самой жизни, питавшей его творчество. В этом буйстве образов и красок виден большой мастер, искусно повелевавший миром метафор и сравнений, в которых сливались поэзия жизни и поэзия воображения. Поэт сохранил самобытность при явной традиционности многих его стихов. Он, как писал С. Гайсарьян, «отлично чувствует различие в стилях и традициях». 1 Поэт был во многом традиционен, по-восточному пышен, но гений его был не пленником, а властителем цветников восточной поэзии: «Жемчужин набранных зерном обязан был я лишь себе» (пер. К. Липскерова).
Палитра Саят-Новы не знает обесцвеченных красок, стертых образов. «У последователей и подражателей Саят-Новы многие особенности его поэзии выродились в условность: изысканная форма свелась к мертвым повторениям, напевность — к пустой игре звуками, тонкая смена оттенков — к скучной монотонности содержания. Но у самого Саят-Новы все оживлено и одухотворено силой подлинного поэтического гения», 2 — писал В. Брюсов.
Поэт как подлинный новатор пользовался старым речевым материалом традиционной поэзии, в бесчисленных образах и сравнениях которой сходство явлений устанавливалось по ценности предмета («ты — лал цены безмерной, яр»), по уникальности («а ты, как редкостный товар, открыта взору в год лишь раз»), по внешней эффектности («ты — трон павлиний, что воздвиг великий шах, красавица») и даже на вкус («ты гибко вытянула шею — сладка, как сахар, грацией своею»).
Саят-Нова опирался на творческое наследие прошлого и, понимая всю необходимость развития песенных традиций, воспевал стихию поисков: «Что мне помнить о минувшем! Новых берегов ищу» (пер. К. Липскерова). Обогащенный лирикой минувшего, Саят-Нова доводил до совершенства красочный язык поэзии образов:
Художники со всей вселенной пускай сберутся вкруг меня,
Индийский резчик пусть рассмотрит узоры, тонкость оценя.
Любуйтесь яхонтом, рубином, игрой их тайного огня.
1 Саят-Нова, Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Сурена Гайсарьяна, «Библиотека поэта» (М. с.), Л., 1961, с. 20.
2 «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», М., 1916, с. 63.
55
Заворожат вас шелк и бархат, и златоткань, к себе маня.
Искусно убрана, с уменьем, — не сыщешь худа — кладь моя.
(Пер. В. Звягинцевой)
Саят-Нова чувствовал, что возможности традиционной поэзии Востока исчерпаны. Он, этот армянский, грузинский и азербайджанский поэт, был ее последним (я здесь воспользуюсь словами Генриха Гейне, сказанными им по другому случаю) и не «отрекшимся от престола сказочным королем», чувствовавшим, однако, необходимость реформ. Ведь и время было уже не то — на дворе был XVIII век!
При всей яркой живописности стиха Саят-Новы, в его песнях многое значили нюансы, выражающие малейшие движения чувств и настроений. Во многих песнях Саят-Новы звучат «оголенные» суждения, «прямолинейные» (как сказали бы мы теперь) признания, но стих не утрачивает своей эмоциональной тонкости и непосредственности, потому что он продиктован чувством, рожденным в глубинах души.
Есть у Саят-Новы стихи, обращенные к его литературным противникам, к тем, кто не понимал его творчества:
Отойди, чашей кровь ты мою не лей:
Люди знают, что я поценней камней.
(Пер. К. Липскерова)
Чувство правоты своего слова и святости своего призвания никогда не покидало поэта:
Не всем мой ключ гремучий пить: особый вкус ручьев моих!
Не всем мои писанья чтить: особый смысл у слов моих!
Не верь, меня легко свалить: гранитна твердь основ моих!
(Пер. В. Брюсова)
Стихами Саят-Новы завершается средневековая армянская поэзия, особый смысл и особый вкус которой обеспечили ей достойное место в ряду литератур мира.
Левон Мкртчян
56
НАРОДНАЯ ЛИРИКА
ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ПЕСЕН
1. РОЖДЕНИЕ ВААГНА
В муках рождения находились Небо и Земля;
В муках рождения лежало и пурпуровое Море;
Море разрешилось красненьким Тростником;
Из горлышка Тростника выходил дым;
Из горлышка Тростника выходило пламя;
Из пламени выбегал юноша.
У него были огонь-волосы,
Борода была из пламени,
А очи — словно два солнышка.
2. О ЦАРЕ АРТАШЕСЕ
Храбрый царь Арташес на вороного сел,
Вынул красный аркан с золотым кольцом,
Через реку махнул быстрокрылым орлом,
Метнул красный аркан с золотым кольцом,
Аланской царевны стан обхватил,
Стану нежной царевны боль причинил,
Быстро в ставку свою ее повлачил.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Золотой дождь шел на свадьбе Арташеса,
Жемчужный дождь лился на свадьбе Сатиник.
61
3. ВОСПОМИНАНИЯ АРТАШЕСА
Кто бы мне дал увидать
Дым над кровлями в январе,
Утро августа — навасарда,
И бег оленя,
И скачущую лань, —
А мы в трубы трубим
И бьем в барабаны,
Как пристало царям.
62
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
ТРУДОВЫЕ ПЕСНИ
4. ПЕСНЯ-МОЛИТВА СЕЯТЕЛЯ
Господи мой боже,
Пусть хлеб уродится.
Горсть я дам прохожим,
Горсть другую — птицам,
Третью горсть — нищим,
Пусть будет им пищей.
Пусть прохожие жуют.
Птицы божии — клюют.
Все, кто может, пусть берут.
Горя пусть вовек не знают.
Пусть посеянному мной
Этой раннею весной
Изобилья пожелают!
5
Ер, ёр, ёр, ёр...
Наше поле между гор.
Меж высоких двух холмов,
Двух глубоких родников.
Мой лемех остер, и в дышле
Пара сотенных волов!
Ёр, ёр, ёр, ёр, Кто поставит мне в укор,
Что весной весь день пашу,
В летний зной траву кошу
65
И затем, что недосужно,
На красавиц не гляжу.
Ёр, ёр, ёр, ёр,
На работу я востер.
Утром вышел я, нашел
Абрикоса крепкий ствол,
Смастерил для плуга дышло
И за плугом вслед пошел.
Ер, ёр, ёр, ёр,
Не женат я до сих пор.
Может статься, в этот год
Хорошо ячмень взойдет.
Может, мать уговорю я:
Пусть невесту мне найдет!
6. ОРОВЕЛ
Оровел. Оровел...
Вот рассвет зарозовел.
К борозде я борозду
В чистом поле проведу.
Дай бог, чтоб я всё успел...
Оровел, оровел!
Сын — помощник, видит бог,
Как погонщик — слишком плох.
В борозду лемех вонзать
Глубоко,
Землю твердую пахать
Нелегко!
Много в мире трудных дел.
Оровел, оровел!
Оровел, оровел!
Словно камень мой надел.
Батогом волов огрею,
Хоть всего, чем я владею,
Я б за них не пожалел...
Оровел, оровел!
66
7
Вол, кормилец, поспеши,
Труд нелегкий заверши.
Вспашем поле под пшеницу,
Станем господу молиться,
Чтоб о нас господь радел,
Дал пшенице уродиться,
Ороло-оровел!
Вспашем поле под пшеницу!
Мы с надеждой вспашем поле
И с надеждою прополем,
Лишь бы нас господь жалел —
Ниспослал бы влаги вволю,
Чтоб сам-двадцать иль поболе
Дал бы хлеба наш надел.
Ороло-оровел!
Лишь бы влаги было вволю!
Будем господу молиться,
Чтоб созревшую пшеницу
Зной и град не одолел,
Чтоб на жатве потрудиться,
Чтоб серпам не затупиться.
Ороло-оровел!
8
Денница, как счастливый знак,
Мерцает, нам желая благ.
Мы понимаем утра зов:
В ярмо впрягаем мы волов!
Мы даровых не ждем щедрот,
За сладкий плод — соленый пот.
Когда бы не волы да плуг —
Была пустыня бы вокруг.
Сжимая плуга рукоять,
Молитвы будем повторять.
67
Дает господь рабам своим
И день и дело вместе с ним!
Волы, я дам вам пить и есть.
Кормильцы, ваша доля есть
Во всем, что с поля мы потом
По божьей воле соберем.
Наш плуг врезался в глубь земли,
Мы ровно борозды вели.
Упорный труд, проворный труд
Превыше злата люди чтут.
К вечерне скоро зазвонят,
Мы скоро повернем назад,
И корма зададим волам,
И поспешим в господний храм.
9
Божьей волей плуг спустился.
С неба в поле вдруг спустился
И на пашне у реки
Вырвал с корнем сорняки.
Чтобы стала наша нива
Изобильною на диво,
Чтобы каждому дано
Было по трудам,
Чтобы пахарю — зерно,
Плевела — попам!
Чтобы яблочко — бедняку,
Чтобы девицу — батраку,
Черный клобук — чернецу,
Веревку да сук — подлецу,
И чтобы бестии старосте
Было возмездие в старости,
Пусть у злодея знахаря,
Что порчу шлет на пахаря,
Погаснет очаг.
Да будет так!
68
10. ПЕСНЯ ПАХАРЯ
Боже, боже, пощади,
От ненастья огради,
Нам нужна лишь малость —
Чтоб скорее позади
Пахота осталась!
Хоо!
Милые мои волы,
Знаю — сохи тяжелы.
Хоо!
Ну, а мне легко пахать,
Нажимать на рукоять?
Хоо!
Что взойдет на поле нашем,
Если мы его не вспашем?
Хоо!
Вот жена ко мне идет,
На плече кувшин несет.
Хоо!
Сам поем и вам, волам,
Корма досыта я дам.
Хоо!
11. ПЕСНЯ ПАХАРЕЙ
Мы с первой зорькой встаем,
Идем работать в поля,
Простую песню поем,
Сердца свои веселя!
Темная ночка прошла,
Весел зеленый простор;
У бога много тепла,
Солнце встает из-за гор.
Идем! За дело пора!
В лесах нам птицы поют.
69
Богат, кто взялся с утра
На ниве за скромный труд.
Пусть долго спит богатей
И ждет от других услуг.
Я сжился с долей своей,
Хоть ем только хлеб да лук.
У меня нет лишних забот,
Всегда беспечален я,
И пахарь песню поет
Звучней, чем песнь соловья.
Едва проснется богач —
Клянет он участь свою;
Над жизнью, бедный, не плачь:
Такая же будет в раю!
Мы с первой зорькой встаем,
Идем работать в поля,
Песню простую поем,
Сердца людей веселя!
12. СОХА
Облегчи, соха, беду,
Сделай глубже борозду.
К беднякам не будь бездушной.
Что нам нужно? Хлеб насущный.
Давят нас долги, нужда,
Стала горькою вода,
Дети голодны всегда,
Не поможешь нам — беда!
К беднякам не будь бездушной.
Что нам нужно? Хлеб насущный.
Ты печаль мою развей,
Пожалей моих детей!
70
13—14. ПЕСНИ БОРОНОВАНИЯ
Тап-тап-тап-тап.
Вол-кормилец, ты не слаб!
Комья крепкие земли
Взбороним проворно,
Чтоб скорее проросли
Золотые зерна.
Тап-тап-тап-тап.
Каждый выровняй ухаб.
Утром медлить не расчет,
Топай веселее, —
Скоро солнце припечет,
Станет тяжелее!
2
Эй, шагай ты прямо, а не в сторону,
Вол мой дорогой.
Комья разрыхляй, тяни ты борону,
Вол мой дорогой.
Чтоб бугров и впадин не осталось,
Вол мой дорогой.
Чтобы всходам легче прорасталось,
Вол мой дорогой.
Ямы и бугры — зерну помеха,
Вол мой дорогой.
Не оставь ни одного огреха,
Вол мой дорогой!
15. СЕЯТЕЛЬ
Сеятель, наш хлебодатель,
Награди тебя создатель!
Без тебя, кормилец мира,
Было б холодно и сиро.
71
Люди от твоей горсти
Глаз не могут отвести.
Одичали бы поля,
Не будь тебя.
Наша вымерла б земля,
Не будь тебя!
За холщовый шейный твой платок
Стать бы жертвой нам.
За чувяки с огрубелых ног
Стать бы жертвой нам.
Да пошлет благословенье бог
Всем твоим трудам!
16. ПЕСНЯ ПОЛОЛЬЩИЦ
Вот подул с Масиса ветерок,
Это значит — вечер недалек.
Кончим мы прополку, и, быть может,
Каждой встретится ее дружок.
Девушки, пусть нам не будет лень
Спины гнуть, не убегая в тень.
Всё, что заработаем за лето,
Может, сбережем на черный день.
Кажется, с утра сто лет прошло,
А на поле всё еще светло.
Оглядишься — нет конца работе,
Не темнеет небо, как назло!
Хлопок, хлопок — низкие кусты,
Желтые и белые цветы.
Поля мы еще не пропололи,
От его устали красоты.
72
17. ПЕСНЯ МОТЫЖНИЦЫ
В поле я работаю с утра.
Зной слепит глаза, печет жара.
Стать бы жертвой за кушак любимого,
С украшением из серебра!
Мне земля подошвы изожгла,
Зноен день, мотыга тяжела.
К милому щекой своей румяной
Я прижалась, если бы могла.
Меж кустов кунжута я иду.
Пекло здесь нещадней, чем в аду.
Где же рай? — У милого в объятьях,
Коль в его объятья упаду.
Я сотру с лица соленый пот,
Боль, усталость — сразу всё пройдет.
Я надену бусы и забуду
Про печаль, что сердце мне гнетет.
Сада без цветов не бывает,
Розы без шипов не бывает.
Девушек красивых без дружков
И без женихов не бывает!
18. ПЕСНЯ КОСАРЯ
Ты свисти, коса, свисти!
Выше травам не расти.
Хыше джик-джик,
Хыше джик-джик.
Поспешайте, косари,
Начинайте до зари.
Джан хыше джик-джик,
Джан хыше джик-джик!
73
Травы смочены росой,
Ровно лягут под косой.
Хыше джик-джик,
Хыше джик-джик.
Чтоб скосить траву скорей,
Вышло много косарей.
Джан хыше джик-джик,
Джан хыше джик-джик.
Ты помашешь два часа,
И затупится коса.
Хыше джик-джик,
Хыше джик-джик.
Эй, косарь, давай скорей,
Косу молотком отбей.
Джан хыше джик-джик,
Джан хыше джик-джик.
Чтобы честь по чести было —
Вот брусок и вот точило.
Хыше джик-джик,
Хыше джик-джик.
Косовище укрепи,
Снова косу торопи.
Джан хыше джик-джик,
Джан хыше джик-джик.
Коль коса твоя остра —
И косьба твоя быстра.
Хыше джик-джик,
Хыше джик-джик.
19. ПЕСНЯ ЖАТВЫ
В чистом поле жарким днем,
Яр ле-ле хоп, ле-ле хоп,
Жнем мы дружно, в ряд идем,
Джан ле-ле хоп, ле-ле хоп!
74
По нужде, а не в охоту,
Яр ле-ле хоп, ле-ле хоп,
Жнем мы, не жалея поту,
Джан ле-ле хоп, ле-ле хоп!
Мы свою полоску сжали,
Яр ле-ле хоп, ле-ле хоп,
Все снопы заскирдовали,
Джан ле-ле хоп, ле-ле хоп!
Крикните, чтоб Мартирос,
Яр ле-ле хоп, ле-ле хоп,
Плова жирного принес,
Джан ле-ле хоп, ле-ле хоп!
Кто отстал, тот виноват,
Яр ле-ле хоп, ле-ле хоп!
Кто закончил — будет рад,
Джан ле-ле хоп, ле-ле хоп!
Жните все, покуда в силе,
Яр ле-ле хоп, ле-ле хоп,
Чтобы сытыми вы были,
Джан ле-ле хоп, ле-ле хоп!
Всё, как есть, сожнем мы жито,
Яр ле-ле хоп, ле-ле хоп,
Чтоб зимою есть досыта,
Джан ле-ле хоп, ле-ле хоп!
20. ПЕСНЯ ЖНЕЦА
Пусть дует ветер горный,
Чтоб я не так устал,
Чтоб серп в руке проворной
Быстрей пшеницу жал.
Как много раз случалось,
Что я не видел дня,
Что сердце обливалось
Кровью у меня!
75
Судьба, не будь жестока,
Чтобы я слез не лил,
Врагов — которых много —
Чтоб я не веселил.
Ты, серп, ходи резвее,
Ты, ветер, с гор гуди.
Пусть голос твой развеет
Печаль в моей груди!
Чтоб я быстрей работал,
Чтоб на исходе сил,
И обливаясь потом,
Я горьких слез не лил.
Чтоб улеглась тревога
И до скончанья дней
Чтоб я со словом бога
Растил своих детей!
На пастбищах да нивах,
Под бременем забот
Нелегкий, несчастливый
Так весь мой век пройдет!
81—22. ПЕСНИ МОЛОТЬБЫ
1
Над землей плывут облака.
Эй, мой вол, оровел, оровел!
Ветер дует издалека.
Эй, мой вол, оровел, оровел!
Все снопы отвезем на гумно,
Отделим от соломы зерно,
Солнце в тучи заходит неспешно,
Дело кончить пора бы давно.
76
Мы с зарею сюда пришли,
С темнотою домой не ушли.
Солнце гаснет, и ветер на поле.
Дождевые капли закапали.
2
Вол, я говорю как другу —
Торопись, чтоб дело шло.
Поживей ходи по кругу.
Ороло, ороло!
Хо!
Мы разделим по-простому
Всё, что поле нам дало:
Мне — зерно, тебе — солому.
Ороло! Ороло!
Хо!
23. ПЕСНЯ ВОЗЧИКА
Сто снопов — тяжелый воз.
Вол другой его б не свез.
За тебя, мой вол рогатый,
Жизни мне не жаль своей.
Потрудись, прошу как брата,
Не ленись, хей, хей!
Для тебя, дружище вол,
Я из жил постромки сплел.
Не порвешь ты их, рогатый,
Не сотрешь и за сто дней.
Потрудись, прошу как брата,
Не ленись, хей, хей!
Крепко я поставил ось,
Чтоб не шли колеса вкось.
Воз тяжел, мой вол рогатый,
Но тянул ты тяжелей.
77
Потрудись, прошу как брата,
Не ленись, хей, хей!
Сноп, что с воза обронил,
Поднял я на зубья вил.
Эй, иди ровней, рогатый.
Ты спокойней — груз целей.
Потрудись, прошу как брата,
Не ленись, хей, хей!
Воз высок; чуть поворот —
Не усмотришь — упадет.
Круто не бери, рогатый,
Будь ловчее, будь умней.
Потрудись, прошу как брата,
Не ленись, хей, хей!
24. ПЕСНЯ ЖЕРНОВА
Вертится жернов, вертится жернов,
Много зерна он смолол на веку,
Белые зерна, белые зерна
Он превращает в крупу и муку.
Нашей пшеницы зерно золотое
Жернов мгновенно в муку превратит.
В горло зерно ему всыпьте любое,
Всё раздробит, разотрет, размельчит!
Зерна гороха и зерна пшеницы,
Зерна бобов подавайте ему.
Жито в крупу и в муку превратится,
Гости придут — начиняйте долму.
Эй, отгребай, молодая, проворней,
Пусть красота твоя вечно цветет!
Крутится тяжко грохочущий жернов,
Крутится жернов, дело идет.
78
25. ПЕСНЯ КРЕСТЬЯНИНА
Лунный свет нам с испокон сладок,
Труженика крепкий сон сладок.
Ночь неторопливо убывает,
Звук свирели ей вдогон — сладок.
Травы в поле ветер обдувает.
Ласковый и добрый, он — сладок!
Слышно, как с горы поток стекает,
И его далекий звон — сладок.
Где-то соловей поет — рыдает,
Нам же соловьиный стон — сладок.
Всё в цветеньи, сад благоухает,
Каждый кустик и бутон — сладок.
26. МАЛЕНЬКИЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ
Солнце землю припекло,
Время пахоты пришло.
Чтоб зимою жить в достатке,
Я в ярмо запряг гусей,
В дышло — белых журавлей;
Взял на помощь для порядку
Воробья и куропатку.
В добрый час, паши и сей.
Всё вспахал я понемногу,
Всё засеял, слава богу!
Подошла пора полива,
Превратил глаза в родник,
Слезы брызнули — и в миг
Оросил поля на диво,
Завершил труды счастливо!
Вот и жатва уж близка,
Словно серп моя рука.
Я пшеницу сжал умело,
И, чтоб ветер не унес,
Свил я свясла из волос,
Всё связал и кончил дело.
79
День прошел — и сжата нива,
Завершил труды счастливо!
Дело новое приспело:
Всё, что сжал, везти на ток.
На спине снопы сволок,
Уложил их все в рядок.
Завершил и это дело —
Молотьбы приходит срок.
Журавля на помощь взял,
Чтоб журавль колосья мял,
Чтоб на холке журавлиной
Восседал бы чибис чинный,
«Хелев-хелев» — погонял.
Дело вмиг завершено:
Тут солома — там зерно.
Через пальцы всё просеял,
Дунул я — зерно провеял.
Но забот еще полно.
Жду я сборщиков налога.
Надо подати платить.
Надо ухо навострить,
Чтоб держались правил строго,
Чтоб не брали слишком много.
Но и это, слава богу,
Удается завершить.
Вот крученые чулки
Превращаются в мешки —
Я ссыпаю в них пшеницу,
Хоть мешки и велики.
Заплатить хочу сторицей
Всем помощникам-друзьям:
И гусям и журавлям,
Чибису и прочим птицам
Справедливо, по трудам.
80
Что осталось — видит бог —
Я упрячу под замок,
Буду я муку беречь,
Чтобы хлеб зимою печь.
27. ПЕСНЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕВА
Хлеб печется, я гляжу, хеп-хо-хеп!
Ты печешь, а я сижу, хеп-хо-хеп!
Посижу еще часок, хеп-хо-хеп!
Развяжу твой поясок, хеп-хо-хеп!
Развяжу его, а там, хеп-хо-хеп!
Я прильну к твоим устам, хеп-хо-хеп!
Щеки у тебя румяны, хеп-хо-хеп!
Груди тверды, как шамамы, хеп-хо-хеп!
Месяц на небе всё выше, хеп-хо-хеп!
Плоски в нашем крае крыши, хеп-хо-хеп!
Клонит ночь тебя ко сну, хеп-хо-хеп!
Ты вздремни, и я вздремну, хеп-хо-хеп!
28. ПЕСНЯ МАСЛОБОЙКИ
Аист прилетел издалека — вот как,
Мы в ведро надоим молока — вот как,
Молоко заквасим и поставим — вот как,
Сделаем мацун, мацун оставим — вот как,
После будем бить мацун сбивалкой — вот как,
Будто нам его совсем не жалко — вот как,
Мы побьем, побьем его получше — вот как!
Из мацуна масло мы получим — вот как!
Гоп-леле,
Гоп-леле!
29
Ах, сбивалка, ты моя сбивалка,
Мне мацуна для тебя не жалко!
Бей мацун, крути-верти,
Дело делай,
81
Ты Бабкена угости
Маслом белым.
Дашь, сбивалка, масла нам немало,
Зря ль тебя я мыла, вытирала.
Бей мацун, крути-верти,
Дело делай,
Варсик-джан ты угости
Маслом белым!
Эй, моя сбивалка, бей проворно,
Будь всегда моей руке покорна.
Бей мацун, крути-верти,
Дело делай,
Бабку с дедом угости
Маслом белым!
30. ПЕСНЯ ВЕРЕТЕНА
Крутись, крутись, веретено,
Трудись, трудись, веретено.
Тебя благословил священник,
И плату попросил священник,
Но денег нет у нас давно.
Крутись, крутись, веретено,
Трудись, трудись, веретено!
Купец за шерсть заплатит честно.
Крутись, крутись, веретено!
У нас на выданьи невеста.
Не обломись, веретено.
Придут за дочкою моею.
Крутись, вертись, веретено.
А что нам, бедным, дать за нею?
Трудись, трудись, веретено!
Пряди быстрее, ради бога,
Крутись, крутись, веретено!
Добра нам надо справить много,
Не покривись, веретено!
82
Лусик — хорошего бы мужа!
Крутись, веретено, быстрей.
Мы справим ей, бог даст, не хуже
Приданое, чем у людей.
Крутись, вертись, веретено,
Трудись, трудись, веретено!
31. ПРЯЛКА
Людям бедным — милость бога, прялка.
Многодетным ты — подмога, прялка!
Ты — спасительница хворых, прялка,
Для покинутых опора, прялка!
Ты для сирот — мать с отцом, прялка,
Для людей бездомных — дом, прялка!
Тонким голосом поешь, прялка,
Шерсть керманскую прядешь, прялка,
Песнь слагаешь как ашуг, прялка,
О печали, что вокруг, прялка.
Песню тонко пой в тиши, прялка,
Боль сними с моей души, прялка!
Ты пряди, пряди, пряди, прялка,
Много дела впереди, прялка!
От твоих трудов одежда наша,
От твоих трудов надежда наша!
Звезды светятся давно, прялка,
А в моих глазах темно, прялка,
При тебе я, как раба, прялка,
Прясть всю жизнь — моя судьба, прялка!
Даже в час, когда ты спишь, прялка,
В голове моей шумишь, прялка.
Я с тобой и ты со мной, прялка,
Нитью связаны одной, прялка!
Ты жужжишь в тиши ночной, прялка,
Сон овладевает мной, прялка!
83
Пусть любимый мой придет, прялка,
В сеть мою он попадет, прялка.
Я пряду, мне не уснуть, прялка.
Милый отбыл в дальний путь, прялка.
Лягу, но не спится мне, прялка.
Хоть не сплю — он снится мне, прялка.
32. ПЕСНЯ ПРЯЛКИ
Пряди, крутясь, колесо.
Ты мой алмаз, колесо.
Ты свет в тени, колесо.
Ты нить тяни, колесо.
Ты бедным брат, колесо.
Ты нищим клад, колесо.
Ты мой ашуг, колесо.
Мой верный друг, колесо.
Крутись быстрей, колесо.
Тоску развей, колесо.
33. ПЕСНЯ ЧЕСАЛЬЩИЦЫ ШЕРСТИ
Гребень привела в порядок.
Шерсть несите, расчешу, шерсть несите, расчешу.
Вам меня просить не надо,
Шерсть несите, расчешу, шерсть несите, расчешу.
Шерсть шершавая шуршит,
Надо мною пыль кружит.
Гребень мой дороже злата,
Шерсть несите, расчешу, шерсть несите, расчешу.
Только им я и богата.
Шерсть несите, расчешу, шерсть несите, расчешу!
Шерсть шершавая шуршит,
Надо мною пыль кружит.
От овцы и от барашка
Шерсть несите, расчешу, шерсть несите, расчешу,
84
Хоть работать мне и тяжко,
Шерсть несите, расчешу, шерсть несите, расчешу!
Шерсть шершавая шуршит,
Надо мною пыль кружит!
Гребень — кость и позолота,
Шерсть несите, расчешу, шерсть несите, расчешу.
Нелегка моя работа.
Шерсть несите, расчешу, шерсть несите, расчешу.
Шерсть шершавая шуршит,
Надо мною пыль кружит!
85
ПЕСНИ ЛЮБВИ
34
Я высечен резцом
Из красного гранита,
Но я горю огнем,
Вся жизнь моя разбита.
Мой камень, мой гранит —
Неверная защита.
Душа моя горит —
Она не из гранита.
35
Склон вершины Мндзурской слишком крут,
Люди говорят — вода целебная
Там стекает в золотой сосуд
По извилистой трубе серебряной.
Как-то за целебною водой
Шла красавица с кувшином в гору,
И какой-то всадник молодой
К роднику подъехал в эту пору.
Он сказал: «Чтоб я не изнемог,
Чтоб от жажды не погиб безвинно,
Дай, красавица, один глоток
Мне отпить из твоего кувшина!»
86
Но в ответ и бровью не ведет
Эта тонкостанная девица:
«Будешь ты не первым, кто умрет,
Не успев воды моей напиться!»
Бедный всадник повернул коня
И сказал пред тем, как вдаль помчался:
«Я умру, и все, кто знал меня,
Пусть сочтут, что я и не рождался!»
36. ПОЦЕЛУЙ БЫЛ СЛАДОК
В летний день спускалась я с Гарманца,
За день я устала,
Очень я устала.
Сладкий запах роз и померанца
Жадно я вдыхала,
Жадно я вдыхала.
Спящего тебя я увидала,
И была я рада,
Как была я рада.
В губы я тебя поцеловала,
Спящего тебя поцеловала.
Поцелуй был сладок,
Поцелуй был сладок.
Будь благословенным, склон Гарманца,
Где попал ты в сети,
Где попал ты в сети.
Поцелуй был слаще померанца
И всего на свете,
И всего на свете!
37
Нынче вечером был я пьяным,
Нынче вечером был я пьяным,
Я стоял у входа в твой дом,
87
Я стоял у входа в твой дом,
Ты взглянула, всплеснула руками,
Я стоял, ты всплеснула руками,
Протянула мне чашу с вином.
«Не прошу я иной услуги —
Я молю: запиши меня в слуги,
Хоть рабом допусти к очагу!»
— «Нет, рабу я не буду рада,
И прислужников мне не надо,
Я лишь друга пустить могу!»
Обнялись мы с тобой, невинной,
Но раздался крик петушиный.
«Ах, предатель, ах, горлодер!
За его оранье бесстыжее
Посреди ночного затишия
Нож ему, шампур и костер!
Петуха за шею возьмем мы,
На костре его испечем мы
И поделим с тобой пополам.
Мы ему отомстим, как можем,
Ножки, крылышки — всё обгложем,
А из косточек сложим храм!»
«Ах, мой милый, мой бестолковый,
Храм с тобой мы построим новый,
И на радость обоим нам
Благовонный воскуришь ладан,
Купишь масла, нальешь в лампады,
Будешь их зажигать по ночам!»
38. КАК МНЕ СПАСТИ ТЕБЯ?
Сгустилась мгла, недобрым стала знаменьем,
Любовь рекой была, а стала пламенем.
Влюбленного, она дотла сожгла меня.
А как тебя спасти от злой руки?
Ты — роза, ты роняешь лепестки,
Ты — роза, ты роняешь лепестки.
88
Чем помогу тебе я, нищий странник,
О роза, ты роняешь лепестки,
О роза, ты роняешь лепестки.
Я гибну от печали и тоски,
А не от острых стрел на поле брани!
Любовь тяжка, я изнемог от бремени.
Изгнанник я, без роду и без племени.
Не в пору я расцвел, увял без времени.
Но как тебя спасти от злой руки?
Ты — роза, ты роняешь лепестки,
Ты — роза, ты роняешь лепестки.
Чем помогу тебе я — жалкий странник,
Я гибну от печали и тоски,
А не от вражьих стрел на поле брани!
39. ТЫ — МОЯ МИЛАЯ
Ах, почему ты, любимая, зла,
Что ж ты и знака не подала?
Мимо прошла, а кивнуть не могла,
Ты, моя милая!
Утром срывала ты розы в саду,
Ты ли не знала, что я тебя жду.
Что ж красовалась у всех на виду
Ты, моя милая!
Солнце сияло, и розы цвели,
Разве не знала, что ждал я вдали,
Самая лучшая роза земли —
Ты, моя милая!
40. РАСКРЫЛСЯ ЦВЕТОК
Раскрылся цветок
На крыше соседской,
На крыше соседской
Раскрылся не в срок.
89
Коль можешь помочь,
Заснуть помоги мне,
Заснуть помоги мне.
Не сплю я всю ночь!
Дари поцелуй мне,
Хотя б по субботам.
Дари поцелуй мне, —
Пусть кровь мне зажжет он.
Хотя бы раз в месяц
Ко мне приходи,
Чтоб крепко прижаться
К горячей груди!
И коль повезет,
Ты будешь дарить мне,
Ты будешь дарить мне
Детей что ни год.
41
Стан твой словно рукоять кинжала,
Вот ты вышла, вот у двери стала.
Стал больным я от любви к тебе,
А тебе, насмешница, всё мало!
Ты мне сердце жжешь, тебе не жаль его.
Ты не сердце жги, сожги печаль его.
С гор бежит поток издалека,
Но водой студеной с ледника
Сердце остудить не удается:
Жжет его любовь и жжет тоска.
Ты мне сердце жжешь, тебе не жаль его.
Ты не сердце жги, сожги печаль его.
90
42
«Ты не плачь, не плачь! — сказал бывалый
Попугай залетный птичке малой. —
Я тебя счастливою весною
В благодатный край возьму с собою.
В дальнем том краю с тобой вдвоем
На вершине мы гнездо совьем.
Теплый ветер будет обдувать тебя,
Ночью звезды будут озарять тебя,
В полдень солнце будет согревать тебя,
И тюльпаны будут окружать тебя».
43
Милая, ты в благодатном саду
Тонкими пальцами гроздья срываешь,
Взглядом случайным мне сердце пронзаешь,
Словом нечаянным грудь иссушаешь.
Ты ли не знаешь, что я тебя жду.
Что же ты медлишь — ведь жизнь быстротечна.
Юность даруется нам не навечно.
Белая роза средь красных одна,
Белая роза уже распустилась.
Что же ты медлишь, скажи мне на милость?
Сколько бы красных цветов ни раскрылось,
Белая роза, лишь ты мне нужна!
Что же ты ждешь, ведь пройдет без следа
Юность моя и твоя красота!
44
Если на гору поднимешь ты взгляд,
Я над тобою — седой Арарат.
Вечен мой снег, но и снег растоплю я,
Каплю на плечи тебе оброню я.
91
Если под небом захочешь уснуть, —
Облаком лягу к тебе я на грудь.
В путь ты пойдешь одинокой тропой, —
Буду я ветром лететь за тобой!
45
Ах, яр, ямман, ямман, ямман!
Ах, яр, причудница моя!
Наш дом — под грушею стоит.
Ваш дом — под грушею стоит.
Пусть поп ваш бороду спалит:
Хочу жениться — не велит.
Инжир — близ нашего жилья,
Инжир — близ вашего жилья.
Здесь — яр моя, там — яр твоя,
С дурнушкой — ты, с красоткой — я!
У нас — кувшины, сорок в ряд,
У вас — кувшины, сорок в ряд,
Пред каждым — чаши в ряд стоят.
«Коль пил — целуйся», — говорят.
Наш дом, ваш дом — рядком, рядком,
Мы в сад сойдем, травы нарвем,
С травой душистой, яр, пойдем
И в ясли травку отнесем.
Чья яр светлей других лицом?
Моя светлей других лицом!
Ах, яр, ямман, ямман, ямман!
Ах, яр, причудница моя!
46
Я повторять всегда готов:
«Не надо роз — они язвят,
Люби фиалку без шипов,
Ее так нежен аромат.
92
Ты розу пышную нашел?
Она увянет, — вот гляди!
Люби цветок, что не расцвел, —
Он расцветает на груди!»
47
Ах, раствориться — и стать водой,
И покатиться — большой рекой,
Водой струиться, — ах! ключевой!
А яр пришла бы — налить кувшин,
Я прожурчал бы — в ее кувшин,
С водой поднялся — ей на плечо,
Ей грудь облил бы — так горячо!
48. ПЕСНЯ НА ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Роза распустилась под Ваном в саду.
Господи! дорогу как туда найду!
Милая, малютка, скажи мне: ты чья?
Целый мир ответит: ты — моя, моя!
Роза распустилась, и петух пропел.
Милую в саду я утром подсмотрел.
Роза распустилась утром под росой,
Милая срывала розы пред собой.
Роза распустилась в Воскресенье роз.
Ты зажгла любовью рощу моих грез.
Милая, малютка, скажи мне: ты чья?
Целый мир ответит: ты — моя, моя!
49
Как из яблок шербет — твой румяный лик!
Губы — мед у тебя, и сахар — язык!
Голос твой — каманча, сердце жаждет — тебя,
Словно звезды — твой взгляд, груди — сладостный сад!
93
Если в сад ты войдешь, — как стан твой высок!
Поцелует тебе ноги каждый цветок,
Все деревья тебе отвесят поклон,
И стыдно луне блистать в вышине.
Как павлин ты идешь, хороша и стройна,
В переливных цветах, и ала и бледна.
Да какую из птиц с тобой сравнить?
И чайке морской не спорить с тобой!
94
ПЕСНИ ИЗГНАНИЯ
50
Что, красавица, плачешь в печали,
Совершилось какое из зол:
Лето ль кончилось — розы опали,
Час ли пробил — твой милый ушел?
Не печалься: цветы не утрата —
Лишь наступят весенние дни,
Заалеют на грядках они
Даже, может, пышней, чем когда-то.
Если ж милый отправился в путь,
В край, откуда нам нету возврата,
Знай, слезами его не вернуть!
51. Я — НЕСЧАСТНАЯ ПЛЕННИЦА
Птица, я поймана, в клетке глухой заперта я,
Нету мне счастья с тех пор, как отбилась от стаи.
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!
Пусть, как гусаны, мне песни поют попугаи.
Нету мне счастья, я, птица, отбилась от стаи.
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!
Я о наряде из перьев цветных не мечтаю.
Нету мне счастья с тех пор, как отбилась от стаи.
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!
95
Пусть меня холят, зерном золотым ублажая,
Нету мне счастья, я, птица, отбилась от стаи.
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!
Мне во владенье не надо обширного края.
Нету мне счастья, я, птица, отбилась от стаи.
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!
Пусть суетятся рабы, мне во всем угождая,
Счастья не будет, я, птица, отбилась от стаи.
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!
Пусть вознесется дворец, позолотой блистая,
Счастья не будет, я, птица, отбилась от стаи.
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!
Если и вырвусь из клетки, бессильна одна я.
Счастья не будет, я, птица, отбилась от стаи.
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!
Птице несчастной, не надо мне вашего рая,
Взвиться бы в небо, пробиться к взлетающей стае.
Сердце разбито мое, я — несчастная пленница!
Может, не так безнадежна судьба моя злая,
Может, за мною вернется родимая стая,
Может быть, в жизни моей всё еще переменится!
52. ЖУРАВЛЬ
Отчего, журавль, ты в небе стонешь?
Нет ли вести из страны моей?
Чуть помедли, ты свой стан догонишь.
Нет ли вести из страны моей?
Ты спешишь, и ждут тебя в Халебе,
Но прошу, как о насущном хлебе,
Пожалей, скажи, летящий в небе,
Нет ли вести из страны моей?
96
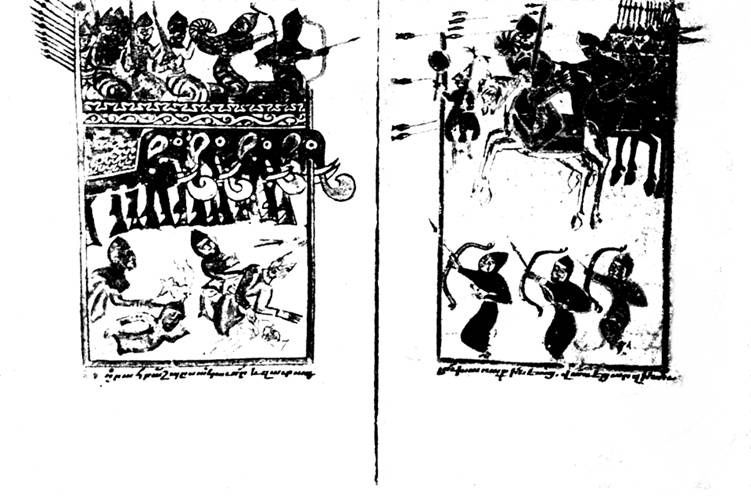

Потерял давно я всё на свете,
Чем владел когда-то — не владеть мне.
О журавль, помедли и ответь мне:
Нет ли вести из страны моей?
Сам я выбрал путь неосторожно,
Изменить бы всё — да невозможно.
Зло вокруг, всё в этом крае ложно.
Нет ли вести из страны моей?
Как живу я? — спросят. — Понемногу.
Плачу я, кляну свою дорогу.
Чем я плох, чем неугоден богу?
Нет ли вести из страны моей?
Остаюсь для всех я посторонним,
Я привык к безверью, к беззаконьям.
Всё вокруг отравлено зловоньем...
Нет ли вести из страны моей?
Я с тобой, журавль, гонец мой статный,
Весть отправлю в край мой благодатный.
Скажешь ты, пустившись в путь обратный:
Нет ли вести из страны моей?
Полетишь обратно от Багдада,
Твой прилет мне будет как награда.
О журавль, мне так немного надо —
Нет ли вести из страны моей?
53
«Ручеек немноговодный,
Ты откуда?»
— «Я с горы.
Снег растаял от жары
Нынешний и прошлогодний».
Ручеек я отведу,
Напою цветы в саду,
97
Расцветут — свяжу в букеты
И любимому пошлю.
Мой любимый — бедный странник,
Он забыл в своих скитаньях,
Что я здесь его люблю.
Пусть вдохнет он аромат,
Мой, быть может, вспомнит сад,
И мое поймет он горе,
Затоскует сам и вскоре,
Может быть, придет назад.
54. ПЕСНЯ БЕЗДОМНОГО
Сердце мое — что разваленный дом,
Груда камней над упавшим столбом,
Дикие птицы устроятся в нем.
Эх, брошусь в реку весенним я днем,
Пищей для рыб пусть я стану потом, —
Эх, бездомный ты!
Черное море, от пены бело,
Волны на волны, сражаясь, вело,
Море двояким пред взором росло,
В сердце моем так же мутно и зло,
Лучше бы вовсе его унесло, —
Эх, бездомный ты!
55. ЖАЛОБА КУРОПАТКИ
На горючем камне, вся в слезах,
Куропатка жалуется птицам:
«Ни в лесу дремучем, ни в горах,
Бедной птице, негде мне укрыться.
Где мне схорониться от врага,
Есть ли место на земле такое,
Есть ли в мире горы и луга,
Где б меня оставили в покое?
98
В нашем крае горы высоки,
Там орлы когтистые гнездятся,
На лугах расставлены силки,
Ждут стрелки, что я должна попасться.
Спрячусь я — стрелок меня найдет,
Острый нож в его руках блеснет.
Потечет из горла кровь ручьем,
Обагрится грудь моя мгновенно,
Ножки тонкие мои ножом
Мне стрелок отрежет по колено.
Пестренькие перышки мои
Ветер злой развеет по равнине,
Унесут их быстрые ручьи,
Вот и всё, и нет меня в помине.
Разнесется белый мой пушок,
Улетит по ветру без возврата,
И любой ничтожный ручеек
На волнах умчит его куда-то».
56. КУРОПАТКА
Стоном оглашая лес,
В глушь забилась куропатка.
И спросил господь с небес:
«Что случилось, куропатка?»
— «У меня пропал птенец.
На вершине ль поднебесной
Или в пропасти отвесной
Отыскал он свой конец?..
Буря ли сосну свалила —
Моего птенца убила,
Или бешеный поток
Моего сынка увлек?
Но с бедой не примирюсь я,
Полечу я поутру,
Отыщу сынка — вернусь я,
Не найду — сама умру!»
99
ПЕСНИ О ПРИРОДЕ
57. ПЕСНЯ О ВРЕМЕНАХ ГОДА
ВЕСНА
Вновь прилетели те птицы,
Опять прилетели те птицы,
Снова явились те птицы,
Что каждой весною приходят.
Надели зеленый наряд,
Надели зеленый наряд,
Надели зеленый наряд,
Над землею кружатся, кружат.
Пой, соловей, свою песнь,
Пой, сизокрылый, мне песнь,
Пой, сладкогласый, мне песнь,
Я без ума от нее,
Раб умиленный творца.
ЛЕТО
Вновь прилетели те птицы,
Опять прилетели те птицы,
Снова явились те птицы,
Что каждым летом приходят.
Надели багряный наряд,
Надели багряный наряд,
100
Надели багряный наряд,
Над розой кружатся, кружат.
Пой, соловей, свою песнь,
Пой, сизокрылый, мне песнь,
Пой, сладкогласый, мне песнь,
Я без ума от нее,
Раб умиленный творца.
ОСЕНЬ
Вновь прилетели те птицы,
Опять прилетели те птицы,
Снова явились те птицы,
Что осенью каждой приходят.
Надели желтый наряд,
Надели желтый наряд,
Надели желтый наряд,
Над сушью кружатся, кружат.
Пой, соловей, свою песнь,
Пой, сизокрылый, мне песнь,
Пой, сладкогласый, мне песнь,
Я без ума от нее,
Раб умиленный творца.
ЗИМА
Вновь прилетели те птицы,
Опять прилетели те птицы,
Снова явились те птицы,
Что каждой зимою приходят.
Надели белый наряд,
Надели белый наряд,
Надели белый наряд,
Над снегами кружатся, кружат.
Пой, соловей, свою песнь,
Пой, сизокрылый, мне песнь,
101
Пой, сладкогласый, мне песнь,
Я без ума от нее,
Раб умиленный творца.
58
«Как вам не завидовать,
Горы вы высокие!»
— «Что же нам завидовать —
Участь наша горькая:
Летом жжет нас солнышко,
В зиму — стужа лютая!»
59. ПЕСНЯ АИСТА
Здравствуй, аист! аист-друг!
Ты вернулся, аист-друг,
Разлилась весна вокруг,
Веселей нам стало вдруг!
Милый аист, к нам спустись,
К нам на кровлю опустись,
В нашем доме поселись,
Свей на ясени гнездо.
Я пожалуюсь тебе,
Ах, пожалуюсь тебе:
Много бед в моей судьбе,
Горе сердца — море бед!
Ах! когда ты улетел,
С нашей кровли улетел,
Ветер злой рассвирепел,
Иссушил цветы в саду.
Омрачился небосвод,
Помрачился небосвод,
Выпал снег, закрылся лед,
И зима цветы смела.
102
От Варагских самых гор,
Ах, с Варагских самых гор,
Замели снега простор,
Холод выбелил поля.
Аист! здесь у нас в раю,
Всё занес мороз в краю,
Засушил и умертвил
Розу милую мою!
60
Белым снегом вершины покрыло,
Небо милость сменило на гнев.
Вот и осень сады оголила,
Вот и листья опали с дерев.
Я промолвил: «Чинары и вишни,
Смерть коснулась и ваших голов!»
И почудился голос чуть слышный
Из глубин оголенных стволов:
«Не жалей нас: весна еще будет,
Увяданье для нас не беда,
Потому что деревья — не люди,
Увядающие навсегда!»
И прощальным окинул я взором
Всё, что знал и любил искони,
И неспешно поднялся я в горы,
Но под снегом молчали они.
Их вершины во льдах холодели,
И промолвил я в скорбный их час:
«Горы, горы мои, неужели
Смерть слепая коснулась и вас?»
И услышал я голос, который
Шел откуда-то с дальних высот:
«Оживут еще белые горы,
Всё ушедшее снова придет.
103
Птицы пустятся в путь свой обратный,
Зажурчат водопады опять,
И цветения дух благодатный
Над вершинами будет витать.
Будет солнце, весна еще будет.
Снег растает, пройдут холода,
Потому что и горы — не люди,
Умирающие навсегда».
104
ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ
61. ПЕСНЯ ОБЛАЧЕНИЯ ЦАРЯ
Над теми горами высокими солнце в зените.
Эй, люди, царю молодому одежду скроите.
Вы солнце на верх, а луну на подкладку возьмите,
Небесные звезды по верху узором пустите,
Дождитесь, и дождик в иголки проденьте, как нити,
Отгладьте кафтан и в обновку царя нарядите!
62. СВАДЕБНАЯ ПЕСНЯ
1
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Зарю ли дам я, что займется,
Займется, с этим солнцем схоже?
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не солнце ль дам я, что засветит,
Засветит, с этим солнцем схоже?
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не радугу ли дам, что встанет,
Что встанет, с этим солнцем схоже?
105
2
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не бальзамин ли, что задышит,
Задышит, с этим солнцем схоже?
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не розу ль дам я, что заблещет,
Заблещет, с этим солнцем схоже?
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не гамаспюр ли, что не вянет,
Не вянет, с этим солнцем схоже.
3
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не абрикос ли, весь цветущий?
Цветите, с абрикосом схоже.
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не виноград ли, плод дающий?
Давайте плод, с лозою схоже.
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не дуб ли дам я, крепко мощный?
Вы будьте мощны, с дубом схоже.
4
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не василек ли дам пахучий?
Благоухай твоя царица!
106
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не дам ли желтый мак пахучий?
Благоухай твоя царица!
Царю что дам я, с ним что схоже,
С его зеленым солнцем схоже?
Не златоцвет ли дам пахучий?
Благоухай твоя царица!
63. СВАДЕБНАЯ ПЕСНЯ
С божьего благословения
Сел ты за праздничный стол,
Будь щедрым твое цветение,
Будь крепок твой стройный ствол!
Пусть волей бога пречистого
И Крестителя Карапета
Зелеными, красными листьями
Покроется дерево это!
«Царь, что принесть мы можем
На солнце твое похожее?
Звезду принесем, что в полночь
Заблещет по милости божьей!»
«Царь, что принесть мы можем
На солнце твое похожее?
Зарю принесем, что под утро
Займется по милости божьей!»
«Царь, что по милости божьей
Еще принести мы можем?
Принесем цветок бальзамин,
На солнце твое похожий!»
Нас не оставь, господь,
Нам помоги, спаситель.
Дух наш и нашу плоть
Ты укрепи, вседержитель!
107
«Пусть скажет — что хочет от нас
Царь, который наш пир возглавил?»
— «Соловья принесите тотчас,
Чтобы дерево мое восславил!»
И тогда соловей влетел,
И по воле царя державной
Он владыку сперва воспел,
А потом весь род его славный.
«Царь, что хочешь еще от нас,
Мы исполним просьбу любую!»
— «Чтоб восславить мой род, тотчас
Приведите мне лань степную».
Лань степную тотчас привели
В золотые царевы чертоги.
И склонилась она до земли,
И упала владыке в ноги.
И ни слова не говоря,
Только взором своим и смиреньем
Лань восславила род царя
С достославным его окруженьем.
«Царь, что хочешь еще от нас,
Только слово скажи, повелитель!»
— «Вы ягненка сюда тотчас
Златорунного приведите!»
Златорунного агнца ввели
В золотые царевы чертоги.
И склонился он до земли,
Повалился владыке в ноги.
И ни слова не говоря,
Только взором своим и смиреньем
Он восславил весь род царя
С достославным его окруженьем.
«Чтоб тебе умножалась хвала,
Что ты хочешь еще, повелитель?»
108
— «Тотчас Каменного Козла,
Чтоб восславил меня, приведите!»
Тут же Каменный тот Козел
Появился в царевом чертоге.
Он восславить царя пришел,
Повалился владыке в ноги.
«Царь венчанный чего б ни спросил,
Мы исполним желанье любое!»
— «Я хочу, чтоб восславлен был
Род мой праведною пчелою».
И тогда впустили пчелу.
И она государю в угоду
Принесла сладчайшего меду,
Прожужжала она хвалу
И царю и цареву роду.
«Царь венчанный, мы слова ждем,
Чем тебе угодить, скажи нам?
Быть стволу твоему миндалем,
Стройной пальмою быть, инжиром!
Ты не знай никакой напасти,
Вкруг тебя друзья и родня,
Вкруг тебя веселье и счастье,
Как в раю после Судного дня!
Ты хвалы принимаешь по праву.
Пусть вовек ты не знаешь беды.
Дай, господь, тебе счастья и славы,
Но и нас одари за труды!
Ты, венчанный, наш царь молодой,
Награди славословие наше.
Пусть нам вынесут полные чаши
И подносы с горячей едой!»
109
64. БЕТ ДИЗАН
(Свадебная песня)
«Бет дизан, а это кто,
Скажи нам, пожалуйста».
— «Бет дизан, бет-бет дизан,
Это сельский староста».
— «Бет дизан, бет-бет дизан,
Кто, скажи нам, это?»
— «Бет дизан, бет-бет дизан,
Это — вардапеты».
— «Бет дизан, а это чьи
Клохчущие клушки?»
— «Эти клушки, бет дизан,
Наши молодушки».
— «Чьи же это, бет дизан,
Птицы без насеста?»
— «Эти птицы, бет дизан,
На выданьи невесты».
— «Что за псы пришли в ваш дом,
И зачем их много?»
— «Эти псы с большим мешком —
Сборщики налога».
110
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ
65
У меня ль невеста есть,
Жениху прямая честь,
У меня ли дочка есть кудрявая,
Справлю свадебку на славу я,
Посреди зеленых свеч,
В кудрях с лентами до плеч.
Девочка руками двигает,
Девочка в постельке прыгает.
Я кому ее отдам?
Принцу я ее отдам,
А в приданое я дам — сто карет
С платьями, каких нигде — краше нет,
Дам покрыться ей — узорчатый платок,
Дам чесаться ей — янтарный гребешок,
Дам одеться ей — серебрян поясок,
Дам обуться ей — сафьянный башмачок,
Всё, что в доме есть, — от крыши по порог.
66
Баю-бай, идут овечки,
С черных гор подходят к речке,
Милый сон несут для нас,
Для твоих, что море, глаз,
Усыпляют милым сном,
Упояют молоком.
111
Баю-бай! Христос с тобой,
Богоматерь над тобой,
Богоматерь над тобой,
Чтобы ты тихонько спал,
Чтоб в постельке ты лежал.
Богоматерь — мать твоя,
Сын ее — хранит тебя.
В церковь божию пойду,
Всех святых я попрошу,
Чтоб Распятый нас хранил
И тебя благословил.
67
Колыбель качает южный ветер.
Песню напевает южный ветер.
Лань степная молока
Своего
Не жалеет для сынка
Моего.
Солнце над сынком моим светило,
Днем оно сыночку нянькой было.
«Зегзегун» — поет ночной
Ветерок,
Чтобы крепко спал родной
Мой сынок.
68
Щечка у тебя бела,
Родинке на ней — хвала!
Дочь я на руки взяла,
В розовый цветник пришла.
Алые сорву цветочки
Для моей любимой дочки.
112
Пусть не розе соловей —
Доченьке поет моей.
Златотканый твой наряд
Пусть людской чарует взгляд.
Воробьи и куропатки
Пусть с тобой играют в прятки.
А пока бы на замок
Запереть твой язычок.
69
Наша доченька мала,
Розу дочка сорвала:
Доченьке по воле бога
Будет долгою дорога.
Пролетит за годом год.
Будет жизнь ее как мед.
Платье из парчи сошьет
Наша дочка,
Удальца себе найдет
Наша дочка!
70
Что за мать тебя породила?
Породила тебя и вскормила?
Лань степная тебя родила,
Соколица тебя принесла,
Солнце в небе тебя согревало,
А луна тебе грудь давала,
Ветром люльку твою качало,
Пел он песню: «Баю-баю!»
Словно в крапинках одеяло,
Небо звездное укрывало
Колыбельку твою!
113
71
Баю-баю, кончается день,
От деревьев склоняется тень.
Над моею дочуркой, деревья,
Спойте песенку, если не лень!
72
Баю-баю, Орсагюль,
Спи, родная Орсагюль!
Твой свивальник — листик тонкий.
Лист большой — твоя пеленка.
Лист ольховый — покрывало.
Лист кленовый — одеяло.
Месяц сон твой озаряет,
Ветер колыбель качает.
Если дождик литься будет,
Если доченьку разбудит, —
Пожалею дочь свою,
Слезы горькие пролью.
73
Дочку, что досталась нам,
Дочку, что стройней чинары,
Никому я не отдам:
Нет ей подходящей пары,
Хоть и выложит жених
Десять тысяч золотых!
Нашу дочь полюбят все,
Кто бедны и кто богаты,
К нам наедет больше сватов,
Чем волос в ее косе.
Что я дам за ней приданым,
Не свезти ста караванам.
114
Пусть все сваты прочь идут,
Распростясь с пустой надеждой.
Если всё ж тебя возьмут
И из дома увезут, —
Как мне жить, осиротевшей?
71
Соловей под горой,
Твой отец под землей;
Твоя люлька — камыш
Да пещерная тишь.
Ветер ночной качает тебя,
Баюкают звезды, мерцая тебе.
С гор коза молоко принесет,
Ты ж расти и цвети, стань большим.
Бай-бай, малыш, бай-бай, дитя,
Лилия на розовой щеке,
Бай-бай, цветок, бай-бай, сынок,
Люлька на чистом стоит ветерке.
Коза бы дала молока,
Шептала б луна над тобой,
Солнце бы дало покой,
Бай-бай, дитя мое, бай-бай,
Бай-бай, цветок мой, бай-бай.
115
ПЛАЧИ
75
Пришла я, но очи твои не видят.
Зову я, но уши твои не слышат.
Что мне сделать, чтоб ты увидал меня,
Что мне сделать, чтоб ты услыхал меня?
Чтобы кто-нибудь сердце мое больное
Уврачевал бы целебной травою?
Серп, что был у тебя в руках,
Выпал из рук, коса затупилась,
И вошел в мою душу страх.
Горе в сердце моем поселилось.
Если б могла, я по собственной воле
Стала бы жертвой за старый твой плуг,
Стала бы жертвою за мозоли
На ладонях натруженных рук.
Муж мой, отдыха днем не знал ты,
Ночью работал, глаз не смыкал ты!
Ах, луна моя тучей закрылась,
Солнце ясное закатилось!
76
Был ты жемчугом, мог блистать,
Нить порвали — как жемчуг собрать?
Подойдите же, соберите,
Нанижите на нить опять!
116
77. ПЛАЧ ПО РЕБЕНКУ
Знаю, что плакать теперь бесполезно,
Дитя мое джан.
Красное солнце, упавшее в бездну,
Дитя мое джан.
Листик, сорвавшийся с ветки зеленой,
Сыночек мой джан,
Рекою весеннею унесенный,
Сыночек мой джан.
Всласть еще на земле не поживший,
Сыночек мой джан.
Сердце мое тоской растравивший,
Сыночек мой джан.
За тобою, мой месяц яркий,
Сваты странные снаряжены.
Кумовья пришли без подарков,
Дружки хмурые — без зурны.
Эти сваты из дальнего города
Средь людей отыскали тебя
И надели рубашку без ворота,
В дом без окон взяли тебя.
78. ПЛАЧ МАТЕРИ
Скажи мне, сыночек милый,
Что у тебя болит?
Я позову экима,
Он тебя исцелит!
Сыночек, месяц мой светлый,
Что ты лежишь недвижим?
Лучше бы мне ослепнуть,
Чем видеть тебя таким!
Дерево золотистое,
Которого нет нежней,
117
Наземь осыпались листья
С поникших твоих ветвей.
Сыночек мой несравненный,
Тонкий пальмовый ствол.
Как ты увял мгновенно,
Как ты недолго цвел!
Кого должна умолять я,
Чтобы не брали тебя,
Чтоб из моих объятий
Не вырывали тебя?
Сын мой, птенец крылатый,
Я ль не любила тебя?
Я ли в том виновата,
Что упустила тебя?
Мой попугай красивый
Песню свою отпел.
Милый мой, сладкоречивый,
Что же ты онемел?
Сын мой, ягненок мой белый,
На этой земле с людьми
Одной мне нечего делать,
С собою меня возьми.
79. ПЛАКАЛЬЩИЦЫ — МАТЕРИ
Твой не мертв, не мертв сынок:
Розы он сорвал цветок,
Положил себе на грудь, —
В сладком запахе заснуть!
80. ПЛАЧ ВДОВЫ
Храбрым соколом взлечу
И к окошку прилечу,
Плачем в дом я постучу,
118
Чтоб стал сон не по плечу.
«Чтоб ни ты, ни я,— вскричу, —
Ночь не спали б, — так хочу!»
81. ПЛАКАЛЬЩИЦЫ НАД МОЛОДЫМ
Понесем тебя мы — хоронить в саду,
Мы просеем землю через кисею,
Над могилою посеем мы цветы,
Чтоб за изгородью роз проснулся ты.
82. ЖАЛОБА СЕСТЕР
Пойдем мы вдвоем, на холм мы взойдем,
Я буду звать, ты будешь — искать.
Его не найдем — могилу найдем,
И камень могильный будем мы целовать.
119
ЗАКЛИНАНИЯ
83
Забелелася заря,
Обозначились кресты,
Смилосердился господь,
В рай раскрылися врата,
В ад закрылися врата,
Цепи падают с души,
Господи, помилуй нас!
84
Погашены огни,
Лукавый отошел.
Закрыв лицо, Христос,
Меж ангелов своих,
С небес теперь сошел,
В дом христиан вошел.
«Куда идешь, Христос?»
— «Разожжены огни
В кадильницах моих,
И нити — из огня.
Я люльки обошел,
Спешу к обедне я».
120
85. ЗАКЛИНАНИЕ НА ВОЛКА
Восьмью пальцами, двумя ладонями,
Гривой лошади Саркисовой,
Тем жезлом ли Моисеевым,
Тем копьем ли свят-Егория,
Той ли верой свят-Григория,
Богоматери святым млеком,
Ухвати его, свяжи его;
Глаз за глазом ему выколи,
Язык в горле привяжи ему,
Осени его, одолей его,
Ради господа Христа все бедствия
Да падут на зверя лютого.
86
На подушку я — голову склонил,
Ангелу-хранителю душу поручил:
Храни в полночь,
Храни всю ночь,
Когда петух поет,
Когда заря идет,
Вверяюсь одному
Царю небесному,
Во смертном рву лежу,
Я сплю, я отхожу,
В руки твои, матерь божия,
Душу вручаю на ложе я!
87. ЗАКЛЯТИЕ СТАРУХ К ЛУНЕ
«Молодая, молодая, обновленный серп!
В полноте ала, зелена в ущерб!
Ты стара зашла, ты млада взошла,
С края света что нам ты принесла?»
121
— «Счастье на весь мир,
Царям — лад и мир,
Покойникам — любовь,
Хлебушку — дешовь,
Добрым — много дней,
Рай — душе твоей».
122
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ
88. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСЬ XIV ВЕКА, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ПЕРЕПИСЧИКУ БИБЛИИ МХИТАРУ АНЕЦИ
С надеждой буду я молиться —
Пусть, господи, мой век продлится,
Пока сей труд не завершит
Его последняя страница.
Аваг дозволил украшенья —
Хораны, буквицы, тисненья —
Мне на листах расположить
По собственному разуменью.
Чтоб на поверхность переплета
Легла узором позолота,
Чтоб жизнь ничтожную мою
Увековечила работа.
Когда-то я не знал печали,
Меня грехи одолевали.
Был молод, мысли о душе
Мой грешный ум не занимали.
125
Теперь, когда дряхлеет тело
И даже зренье помутнело, —
Я взялся за великий труд
И, помолившись, начал дело.
Сей труд нелегкий, но прекрасный
Не терпит суеты напрасной,
И требует терпенья он
Вдали от суетности праздной.
За труд сей взялся непомерный
Я, скудомудрый, неусердный,
Повинный в мерзости мирской,
Запятнанный земною скверной.
Но мне, познавшему сомненье,
Святое было озаренье:
Бездетный старец, понял я —
Лишь в сем труде мое продленье.
Святая братия достанет
Мой труд, когда меня не станет,
Укором или же хвалой,
Несчастного, меня помянет.
Я умоляю: ради бога,
Суди, читающий, не строго,
Хоть, может быть, в труде моем
Помарок и ошибок много.
Свой долг я исполнял с любовью.
И ты не подвергай злословью
Труд безымянного писца,
Писавшего своею кровью.
Читающий пусть не смеется
Ошибке, что в строках найдется,
126
Пусть он заглянет в душу мне
И в сердце, что уже не бьется.
Я дряхл, дрожит моя десница.
Смерть в келию мою стучится.
И мучает меня печаль,
Что этот труд не завершится.
О боже, прояви заботу,
Продли мой век, ускорь работу,
Преодолеть мне помоги
Недуг мой и мою дремоту.
Я чувствую: уходит сила.
Жара мне тело разморила,
И вьются мухи надо мной,
И сохнут в пузырьке чернила.
Мой труд я совершал любовно.
Лишь немощь старика виновна
В том, что дрожит моя рука,
В том, что строка лежит неровно.
Я чуда жду и озаренья.
Вернется ль мне былое зренье
Хотя б на миг, чтоб увидать
Моей работы завершенье.
Я слаб, мне всё дается трудно.
Но всё ж надеюсь я подспудно,
Что приведу я к берегам
Свое ветшающее судно.
Моли, о дева пресвятая,
Моя заступница благая,
Чтобы исполнил Иисус
То, что прошу я, умирая.
127
89. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСЬ XIV ВЕКА, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ПЕРЕПИСЧИКУ ОВАНУ
Кровью горячею сердце облилось,
Перед глазами всё вдруг помутилось.
Сына любимого смерть унесла,
Кара господня над нами свершилась!
Видимо, были мои прегрешенья
Слишком велики, и вот — искупленье.
Сын мой любимый — в холодной земле,
Той, по которой хожу я в смятеньи.
Сын мой — мое утешенье земное,
Очи застлало твои пеленою,
Голос поныне мне слышится твой,
Будто живой ты стоишь предо мною!
Сын мой любимый ночами мне снится.
Мне он свою простирает десницу.
Господи боже, прости мне мой грех, —
С волей твоей не могу примириться.
90. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСЬ XV ВЕКА
Пусть возопит истошный глас
О том, как попирают нас,
Как безграничны наши беды,
Как нас господь обрек страдать,
Как в руки чужеземцев предал,
Пустил на нас чужую рать;
Как храмы наши оскверняют,
Как духовенство унижают,
Как зажимают нам уста,
Как милосердного Христа
Вновь нечестивцы распинают.
Но, попираемы врагами
И злобно втоптанные в грязь,
128
Не престаем грешить мы сами,
Господня гнева не страшась.
Мы грешники, и не за то ли,
Прельстившихся стезею зла,
Всеправедная божья воля
Нас на погибель обрекла?
И, христиане, горсткой праха
Мы стали, мы идем во мглу
По злобной воле падишаха
Хасана-Бека Ак-Кюнлу.
Явились сборщики налога,
Не почитающие бога,
Пришли, чтоб с каждой взять души
Сколь можно серебра иль злата,
А с тех из нас, что небогаты,
Содрать хоть медные гроши.
Святыни наши осквернили,
Нас знаком синим заклеймили,
Хараджем обложили всех,
И подчинили нас жестоко
Законам своего пророка
И наши ввергли души в грех!
Всего мы лишены сегодня:
В церквах армянских городов
Умолкнул звон колоколов —
Предвестие суда господня.
Господь нас, грешных, покарал,
Насильников в наш край наслал,
Несчастных, ввергнул нас в беду,
От своего отринул лона
В злосчастном нынешнем году,
Что под созвездьем Скорпиона.
Мучитель наш, султан Хасан,
Горазд в деяньях беззаконных,
Собрал, повел на Гуржистан
129
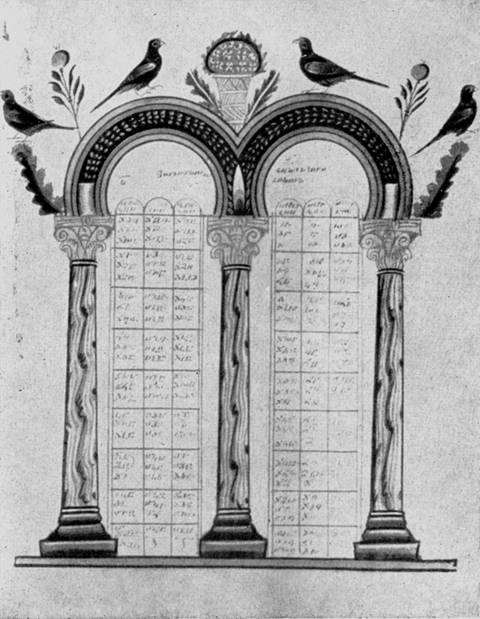
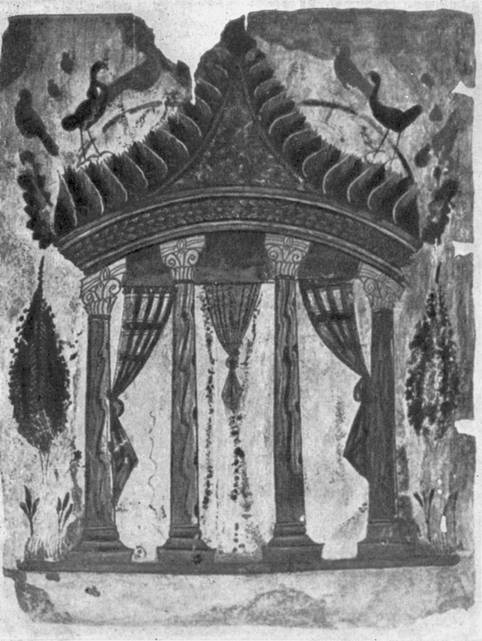
Сто тысяч пеших войск и конных.
Тепхис в руины превратил,
Разрушил всё, что было свято,
Изгнал правителя Баграта
И кровь обильную пролил.
И пали каменные стены.
Всех бед людских не описать.
И никому не сосчитать
Замученных и убиенных.
130
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЛИРИКИ
МЕСРОП МАШТОЦ
(361 — 17 февраля 440)
91
Море жизни всегда обуревает меня.
Воздвигает враг валы на меня.
Добрый кормчий, ты — оборони меня!
92
Подвергнут опасностям и мукам я
Из-за множества моих грехов.
Бог умиротворяющий, помоги мне!
Вихри моих беззаконий
Взволновали меня, я — как море в непогоду.
Царь умиротворяющий, помоги мне!
И грехи мои как море
Глубокое, неспокойное, — я во власти волн.
Добрый кормчий, спаси меня!
93
Рано утром предстану перед тобой,
Царь мой и бог мой!
Рано утром преклонишь к мольбе моей слух,
Царь мой и бог мой!
Молю я: взгляни на молитву мою,
Царь мой и бог мой!
133
ИОАНН МАНДАКУНИ
(V век)
94
Преображеньем твоим на горе
Ты божественную силу явил,
Тебя славим, о мысленный свет!
Луч славы твоей ты явил,
Воссиял и всю твердь осветил,
Тебя славим, о мысленный свет!
Ужаснулись ученики твои,
Явление чудесное зря,
Тебя славим, о мысленный свет!
Но, восстав от тяжелого сна,
К твоей славе прилепились сильней,
Тебя славим, о мысленный свет!
134
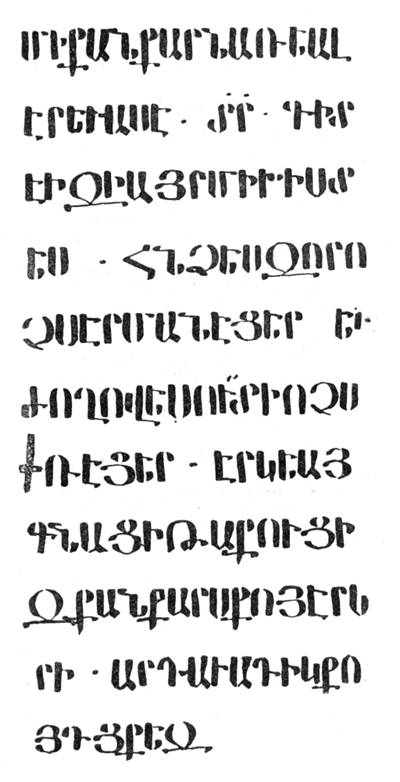
КОМИТАС
(VII век)
95
Жёны, славны страной и народом своим,
Предлагали жемчуг, неизвестный дотоль.
За многих себя оставляли в залог,
Выкупом став для чуждой земли.
Вам — корабль вести, ваш опытен дух,
Стремительна мысль, безвременна плоть.
По долгим путям житейских пучин
Невредимо неслись вы и дошли до Христа.
Вы — ветви лозы виноградной Христа.
Виноградарь небес сберет ваш сок;
Вы дали себя в точиле топтать,
Чтоб вечных блаженств чашу испить.
От житейских нужд отвратились вы,
Ибо всё здесь сон и прикрасы лжи.
Обольщенью нег вы не предали душ,
Убедясь, что величье — одна суета.
Завиден чрез вас стал детства чертог.
Ваша кровь и огонь обновили его,
Вы предали плоть мечу и костру,
Неугасимый свет вы в чертог внесли.
Тридцать семь — число тех блаженных дев,
Венчанных вовек не вянущим венком,
Высоко взнесенных над всем земным,
Блаженствующих здесь во славе творца.
136
ДАВТАК КЕРТОГ
(VII век)
96. ПЛАЧ НА СМЕРТЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ДЖЕВАНШИРА
О всеведущий дух, ниспошли благодать,
Дай мне силы на песню, на плач, на проклятье,
Разумение дай, чтобы внятно сказать
Слово скорбное о невозвратной утрате!
Горе тяжкое плакать заставило нас,
Стон печали над нами пронесся, как пламя,
Пусть всё сущее в мире услышит наш глас,
Всё живущее слезы прольет вместе с нами.
Нас стена защищала, но пала стена.
Скалы, нас укрывавшие, ныне разбиты.
Нам светила луна, закатилась луна,
Слово твердое рухнуло, нет нам защиты.
Мы не ждали беды, но пришла к нам беда.
Власть добра и надежд победило безвластье.
Свет чудесного царства угас навсегда,
Счастья сад превратился в пустыню несчастья.
Это беды и горести нашего края,
Может те, что предрек многомудрый Исайя,
Ибо светлого крестовоздвиженья день
Омрачила беда и страдания тень.
И грядущее стало темно и безвестно,
Дух вражды и безверья туманит наш путь.
Нечестивые вырыли черную бездну,
Чтобы нашего пастыря в бездну столкнуть.
137
Словно лев, был он грозен, не будучи злым,
Для старейшин родов был опорой и властью,
Ликовали друзья от любви и от счастья,
И от страха враги замирали пред ним.
Был он первым по мужеству и по уму.
К самым дальним пределам неслась его слава,
Поклониться спешили соседи ему,
Восхваляли его все края и державы.
Даже греческий царь, даже юга князья
Домогались с властителем нашим свиданья
И, гордясь, что они Джеваншира друзья,
Принимали с почтеньем его назиданья.
И в гордыне забыли, что, люди, мы прах,
Что во власти господней и счастья и беды.
Бога мы прогневили, погрязнув в грехах,
И правителя нашего смерти он предал.
Ангел, что охранял его душу и плоть,
От него отдалясь, нас обрек на страданье.
В горький час отвратился от князя господь,
Оставляя насильникам на поруганье.
Лицемер потаенно свой меч навострил,
К убиенью коварно готовясь заране,
И смертельный удар Джеваншира сразил —
Темной ночью погиб он, как моавитяне.
Джеваншир, надо всеми возвысился ты.
Исходили завистники злобой безмерной.
Ты убит был тайком средь ночной темноты,
Ты скончался, израненный немилосердно.
Солнце вмиг изменило извечный свой путь,
Лишь вошла злая смерть в государеву грудь.
Пусть убийца его остается живым,
Пусть он будет для всех ненавистен и страшен.
Птицы певчие пусть не щебечут над ним,
Пусть лишь черные вороны крыльями машут.
138
Звери хищные пусть поджидают его,
Пусть вовек не найдет он ночлега под крышей.
Пламя Ирода пусть настигает его,
Пусть его пожирают и черви и мыши.
Пусть огонь пожирает его, разгорясь,
Пусть убийцу ничто не спасет от заразы,
И рука, что на славу земли поднялась,
Пусть покроется струпьями смрадной проказы.
Пусть в презренного жабы вливают свой яд,
По ночам пусть с убийцею змеи грешат.
Пусть умрет окаянный, терзаясь жестоко,
Будь он проклят, исчадие зла и порока!
Наш водитель, наш кормчий, наш князь Джеваншир,
Посмотри, что с твоими сиротами стало.
Разум твой озарял наш неправедный мир,
Нас отвага твоя от беды ограждала.
Как жемчужины, с уст обронял ты слова,
И блистал ты отвагой, носитель величья,
Ото сна пробуждался детенышем льва,
Расправлялся с трусливою утренней дичью.
И разбрасывал кромки овечьих ушей,
Славя господа истовой жертвой своей.
Как ловец, был ты ловче других и смелей,
Сокола твои были всех прочих быстрее,
Ты и спящий мудрее был прочих людей
И во сне управлял колесницей Арея.
Ты лишь взглядом единым умел отличать
Мудреца от глупца и героя от труса.
Нисходила обильно к тебе благодать,
Как священная кровь из ребра Иисуса.
Ты при жизни божественной притчею стал.
Дух бессмертья над смертным тобою витал.
Мир был светел, но темень взяла его в плен,
Как, лишенным тебя, нам поверить в удачу?
139
В опустевшей стране я потомков сирен,
А не страусов стаи сегодня оплачу.
Сколько дней и недель, сколько б лет ни прошло,
Мы не сможем забыть о великой утрате.
И тебя погубившее черное зло
Тяготеет над нами как бремя проклятья.
Ты, наш пастырь великий, был светел, как день.
Без тебя нам во тьме никуда не пробиться.
И ложится на наши угрюмые лица,
Словно пыль на дороги, бесславия тень.
Буду вечно взирать я на трон опустевший,
Бесконечно в мученьях рыдать, безутешный.
Слезы нас ослепляют, померкнул наш свет,
Перед нами путей утешения нет.
Только пламень печали, любовью зажженный,
Не погаснет в сердцах безутешных друзей.
Нам дымиться бы, как фимиам благовонный,
Чтоб сгореть без следа на могиле твоей.
Ибо здесь без тебя всё темно и туманно.
Нашей светлой надеждою был ты один.
Пред тобой прояснялись вершины Ливана,
Волны бурные Тивериадских глубин.
Если ты, наш заступник, не жил бы на свете,
Пред врагами давно бы мы пали без сил.
Без тебя одолел бы нас северный ветер,
Гунн жестокий гранаты бы наши срубил.
Без тебя опускаются руки в бессильи.
Тьма сгущается, нам не дождаться зари.
Покрываются брачные комнаты пылью,
Облачаются в траур земные цари.
Даже тем, кто короной увенчан по праву,
Мишура золотая теперь не нужна.
Тщатся сбросить владыки презренную славу,
Ибо суетность славы им стала ясна.
140
Всем уйти суждено, никому не остаться,
Нам одно лишь даровано счастье судьбой:
Слезы лить по тебе, по тебе убиваться,
Лечь в могилу когда-нибудь рядом с тобой.
141
ГРИГОР НАРЕКАЦИ
(951—1003)
97. ПЕСНЬ СЛАДОСТНАЯ
Красива, хоть черна,
Я — дочь Ерусалима.
Желанна и любима
Для друга я одна!
Мой друг — в горах олень,
Чье тело так упруго.
Далекий голос друга
Я слышу в этот день!
«Любимая моя,
Ты мне одна желанна,
Ты из лесов Ливана
Приди в мои края.
Глаза твои горят,
От плеч и от ладоней
Исходит благовоний
Счастливый аромат».
Был чище всех святых
Младенец тот хвалимый,
Людьми непостижимый
Цветок долин родных.
Ты видишь: сонм святой
На той горе толпится.
142
Ты слышишь, дух корицы
С горы исходит той?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И должно нам опять
Склониться с пастухами,
С премудрыми волхвами
Творцу хвалы воздать.
Спасителя Христа
Восславим дух нетленный,
Чей свет и чистота
Вовек благословенны!
98. ВАРДАВАР
Алмазная роза взяла
Свой блеск у дневного светила,
Когда оно тихо входило
В морскую бескрайнюю гладь.
Казалось: багровый цветок
Над ширью морской распустился,
Казалось, над ней засветился
Созревший шафрановый плод.
Шуршала густая листва,
Шумела на гнущемся древе,
Которое царь-псалмопевец
В псалме благозвучном воспел.
Цветы распускались в садах,
Прекрасны и благоуханны,
И кедры, самшиты, платаны
Пускали побеги свои.
Вдали зеленел кипарис,
Горела рябина, алея.
Своей белизною лилея
Сверкала в закатных лучах.
143
Дыхание ветра и гор
Ее лепестки овевало,
И влагой роса окропляла
Зеленые листья ее.
Всходила на небе луна,
Светилася меж облаками,
И ясные звезды роями
Во тьме окружали ее.
И не было счастью конца,
И зрело чуть слышное слово
Молитвы во имя отца
И сына и духа святого.
99. ПЕСНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
Арба в день Воскресения господня
С горы Масис спускается сегодня.
И скамьи белые на ней расставлены,
И пламенем пурпурный шелк горит,
Трон золоченый посреди стоит,
И восседает царский сын прославленный,
Крестом сложивши руки на груди.
А справа серафимы шестикрылые,
А слева херувимы, богу милые,
А отроки с крестами впереди
Сидят на скамьях и псалтырь листают,
Псалмы во славу божью возглашают,
Поют святому празднику хвалы!
Но вот всё шествие остановилось,
Но вот колес вращенье прекратилось
И встали краснобокие волы.
Тогда цветы и проса шесть снопов
Раскинули, вплели, как украшение,
Украсили арбу в честь Воскресения
И крестовидные рога волов.
Арба стоит, а по бокам жемчужины,
Постромки шелковые не натружены,
Блистает дышло светом золотым,
144
Колеса деревянные не вертятся,
И удивленным отрокам не верится,
Не знают отроки, что делать им.
Возница был красавцем молодым,
Взмахнул возница сильными руками
И золотистыми тряхнул кудрями.
Возница подал знак волам своим.
Возница юный закричал сурово
На первого вола и на второго.
И клич возницы был понятен им.
И дрогнула арба и покатилась.
И снова всё пошло и закрутилось.
И шествие вошло в Ерусалим.
И люди вознесли моленья снова
В честь Воскресенья светлого Христова,
Услышанные богом всеблагим!
100. ИЗ «КНИГИ СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ»
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 1
1
Я обращаю сбивчивую речь
К тебе, господь, не в суетности праздной,
А чтоб в огне отчаяния сжечь
Овладевающие мной соблазны.
Пусть дым кадильницы души моей,
Сколь я ни грешен, духом сколь ни беден,
Тебе угодней будет и милей,
Чем воскуренья праздничных обеден.
Мой стон истошный, ставший песнопеньем,
Прими не с гневом, а с благоволеньем.
Из дальних келий, тайных уголков
Достал я слово, как со дна колодца,
Пусть дым сожжения моих грехов
К тебе, всемилосердный, вознесется!
145
Когда перед тобой предстану я
С застывшей на губах мольбой бесплодной,
Пусть жертва добровольная моя
Тебе не будет столь же неугодной,
Как стон Иакова в краю глухом
Иль попиранье твоего закона
Правителем греховным Вавилона,
Как сказано в писании святом.
Мой дар тебе пусть будет всеблагому
Угоден.
Пусть тебя он ублажит,
Как дым кадильниц в скинии Селома,
Которую воссоздал царь Давид.
Кивот, освобожденный от плененья,
Давид поставил там на много дней.
Да будет таковым и возрожденье
Погрязнувшей в грехах души моей!
2
Час настает, и громкий судный глас
Уже гремит в ущелиях отмщенья.
Он нас зовет и порождает в нас
Страстей противоборных столкновенье.
И сонмы сил недобрых и благих:
Любовь и гнев, проклятья и молитвы —
Блистают острием мечей своих
И дух мой превращают в поле битвы!
И снова дух смятен мой, как в начале,
Когда я благодати не обрел,
Которую апостол Павел счел
Превыше Моисеевых скрижалей.
Мне ведомо, что близок день суда
И на суде нас уличат во многом,
Но божий суд не есть ли встреча с богом?
Где будет суд — я поспешу туда!
Я пред тобой, о господи, склонюсь,
И, отречась от жизни быстротечной,
Не к вечности ль твоей я приобщусь,
Хоть эта вечность будет мукой вечной?
Я грешен был, я преступал закон,
Я за грехи достоин наказанья
146
Страшней, чем мука варварских племен,
Поверженных твоею гневной дланью.
Для филистимлян и эдомитян
Годами ты отмерил наказанье,
Но вечный огнь в удел мне будет дан
За все мои сомненья и деянья.
Ждет страшный суд меня, но до тех пор
Удел при жизни выпал мне не лучший:
При жизни обречен я на позор
И ожиданье кары неминучей.
Нас вознести иль превратить во прах,
Низвергнуть в ад иль даровать спасенье —
Во всем ты властен, всё в твоих руках,
Приявший муки в наше искупленье.
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 2
1
Взывал ты, повторял священный стих,
Склонялся пред отцом своим небесным,
Судящим по делам сынов своих,
Не обольщаясь рвеньем их словесным.
Страдал твой род в египетском плену,
Но не дал ты ему лишиться веры.
С кем, Моисей, сравнить тебя дерзну,
Найду ли я достойные примеры?
Я грешен, я упрям в грехе своем,
Я— варвар, недостойный божья слова.
Та кара, коей предан был Содом,
И по моим грехам не столь сурова.
Как Ханаан, грехом я осквернен,
Я — Амалик, меня нельзя наставить.
Как идолообитель Вавилон,
Меня разрушить легче, чем исправить.
Обломком жалким я встаю из мглы,
На мне лежит проклятье, грех Иудин.
Как древний Тир, достоин я хулы,
Я, как Сидон, порочен и подсуден.
147
Я старца одряхлевшего слабей
От дней развратных и от жизни шумной.
Я — голубь, кроткий в глупости своей,
А не в своей смиренности разумной.
Я как яйцо, где скрыт змеиный яд.
Ехидна я, что львицей почиталась.
Я — Иерусалим, священный град
Пред тем, как от него лишь пыль осталась.
Я — человек, чья сущность не чиста.
Шатер пустой, не избежавший бедствий.
Я — крепость, чьи сокрушены врата, —
Наследникам ненужное наследство.
Я — дом, но дом забытый испокон.
И чтоб его избавить от проклятья,
Он должен быть очищен, обновлен,
Обмазан глиной божьей благодати.
А у меня нет для спасенья сил,
Я слаб, я сломлен тяжкими грехами,
И справедливейший определил
При жизни место мне в зловонной яме.
Я изгнан, я отвержен, я забыт,
Смятен я духом, жалок я обличьем.
Я — тот талант, который был зарыт
Рабом лукавым, как глаголет притча.
2
Всех душ и всякой плоти созидатель,
Многоусердный в милости своей,
Дай верить мне, как верил Моисей,
Пророк, твоей достойный благодати.
Дай завершить мне книгу песнопений
Достойною твоих благословений.
В обитель, где ты должен нас принять,
Я начал путь свой, плача и стеная,
Дай грех мне искупить и злаком стать,
Возликовать при сборе урожая.
И как грехи мои ни велики,
148
Не дай иссякнуть слез моих истокам,
И, как Израиль, ты не обреки
Мой дух и сердце засухе жестокой
Пред тем, как неба мы услышим глас,
А небо — глас земли, где сонмы нас,
Земля же — глас хлебов, и лоз, и хмеля,
И все услышат голос Изрееля.
Пусть чистая молитва и елей —
Всё, что тебе святыми воздается,
Проникнет в суть души моей скорей,
Чем тела оскверненного коснется.
О господи, я — глина, ты — творец,
Спаси меня, небесный мой отец,
Чтоб на земле мне духом укрепиться,
Чтоб в час, когда вступлю я в мир иной
И небо ты разверзнешь предо мной,
Я б мог его сияньем насладиться,
Чтоб под небесным этим светом впредь,
Как воску, не растаять, не сгореть.
Дай, боже, силу мне, изнеможенному,
Дай духом мне воспрянуть, обделенному.
Перед концом моим, возможно скорым,
Сведи меня с порочного пути,
Хоть я истерзан совести укором,
А не усилием тебя найти.
Меня, земною тронутого скверной,
Услышь, о боже, со своих высот.
Возьми залог моей мольбы усердной
И дай мне благодать своих щедрот.
Своим небесным светом освети
Мой слабый стон, глухое покаянье
И слово из Священного писанья,
Что в эту книгу тщусь я привнести.
Меня, мой благодетель совершенный,
Хоть жалости не стою, пожалей
И вместо меди звонкой, но презренной
Даруй мне злато милости своей.
Не повергай меня в смертельный страх,
И не ожесточай мой дух скорбящий,
Не обреки бесплодным быть в трудах,
Как пахаря на почве неродящей.
149
Не дай мне лишь стенать, а слез не лить,
В мучениях рожать и не родить,
Быть тучею, а влагой не пролиться,
Не достигать, хоть и всегда стремиться,
За помощью к бездушным приходить,
Рыдать без утешенья, без ответа,
Не дай мне у неслышащих просить.
Не дай, господь, мне жертву приносить
И знать, что неугодна жертва эта,
И заклинать того, кто глух и нем.
Не дай во сне иль наяву однажды
Тебя на миг увидеть лишь затем,
Чтобы не утолить извечной жажды.
И до того, как мой услышишь зов,
Услышь мои, о боже, покаянья
И соразмерно с тяжестью грехов
Не назначай покуда наказанья.
Щадящий, пощади, спаси, спасающий,
Освободи меня, освобождающий.
Не дай сойти с пути; прости, прощающий;
От бед оборони, обороняющий.
Недуг мой исцели, всеисцеляющий,
И путь мой озари, всеозаряющий.
За прегрешенья не карай, карающий.
Прости мой долг, от долга избавляющий,
С врагами примири, всепримиряющий.
Когда в последний раз, в последний миг
Я подниму слабеющие вежды,
Пусть мне случится твой увидеть лик,
Дарующий спасенье и надежды.
И мой последний вздох в последний час
Пусть мне минувшей жизни будет слаще.
Пусть ангел твой с меня не сводит глаз,
Ведя дорогой страшной, но манящей.
Когда умру, моей душе яви
Дух небожителей, дух бестелесный
Тех, кто дорогой веры и любви
150
Пришел, о боже, в твой чертог небесный.
Не воздавай мне за мои грехи.
Пусть будет принят дух мой в мире лучшем.
Не дай, Спаситель, волка в пастухи
Твоей больной овце, овце заблудшей.
Погрязшему в долгах — даруй прощенье,
Погибшему в грехах — пошли спасенье.
3
Ты, жаждущим дающий утоленье,
Ужели в мире не рассеешь тьму,
Ужель меня лишишь благоволенья,
Изменишь милосердью своему?
Ужели мне откажешь в состраданьи,
Ты, тот единый, в ком оно живет?
Утратишь ли, цветок, благоуханье,
Засохнешь ли, о благодатный плод?
Ужель животворящие деянья
Ты прекратишь, о наше упованье?
О ты, который кроток и велик,
Ужель пренебрежешь извечной славой,
Ужели омрачишь, о боже правый,
Пречистый свой, неомраченный лик?
Ты ль не даруешь, о мое спасенье,
Кровоточащим ранам исцеленье?
Бальзам на язвы не положишь мне?
Слепому, не пошлешь мне озаренье,
Свет предо мною не зажжешь во тьме?
Я — твой проситель, раб твой дерзновенный —
Молю тебя: меня ты не покинь.
Нетленный, жизнь дарующий вселенной,
Ты, славословленный, благословенный,
Ты был и есть — твердыня всех твердынь.
Ты был и остаешься вездесущим,
Как в прошлом, так и ныне, и в грядущем,
И за пределом вечности.
Аминь!
151
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 3
1
О повелитель сущего всего,
Бесценными дарами нас дарящий,
Господь, творящий всё из ничего,
Неведомый, всезнающий, страшащий,
И милосердный, и неумолимый,
Неизреченный и непостижимый,
Невидимый, извечный, необъятный,
И ужасающий, и благодатный,
Непроницаем ты, неосязаем,
И безначален ты и нескончаем,
Ты — то единственное, что безмерно,
Что в мире подлинно и достоверно,
Ты — то, что нам дает благословенье,
Ты — полдень без заката, свет без тени,
Единственный для нас родник покоя,
Что просветляет бытие мирское.
И безграничный ты, и вездесущий,
Ты и сладчайший мед и хлеб насущный,
Неистощимый клад, пречистый дождь,
Вовек неиссякающая мощь.
Ты и хранитель наш и наставитель.
Недуги наши знающий целитель,
Опора всех, всевидящее зренье,
Десница благодатного даренья,
Величьем осиянный, всем угодный,
Наш пастырь неустанный, царь беззлобный,
Всевидящий, и днем и ночью бдящий,
Судья, по справедливости судящий,
Взгляд негнетущий, голос утешенья,
Ты — весть, несущая успокоенье.
Твой строгий перст, всевидящее око
Остерегают смертных от порока.
Судья того, что право, что неправо,
Не вызывающая зависть слава.
Ты — светоч наш, величие без края,
152
Не зримая дорога, но прямая.
Твой след невидим, видима лишь милость,
Она с небес на землю к нам спустилась.
Слова, что я изрек тебе во славу,
Бледнее слов, которые бы мог
Услышать ты, о господи, по праву,
Когда б я не был речью столь убог.
Господь благословенный, восхваленный,
Восславленный всем сущим во вселенной,
Всё то, что нам достигнуть суждено,
Твоим внушеньем мудрым рождено.
О господи, дорогу очищенья
Ты мне в моих сомненьях указуй
И, приведя меня к вратам спасенья,
Ты удовлетворись и возликуй.
Цель песнопенья твоего раба —
Не славословье и не восхваленье,
Мои слова ничтожные — мольба,
Которой жажду обрести спасенье.
2
Собранье песен сих, где каждый стих
Наполнен скорбью черною до края,
Сложил я — ведатель страстей людских, —
Поскольку сам в себе их порицаю.
Писал я, чтоб слова дойти могли
До христиан во всех краях земли.
Писал для тех, кто в жизнь едва вступает,
Как и для тех, кто пожил и созрел,
Для тех, кто путь земной свой завершает
И преступает роковой предел.
Для праведных писал я и для грешных,
Для утешающих и безутешных,
И для судящих, и для осужденных,
Для кающихся и грехом плененных,
Для добродеятелей и злодеев,
Для девственников и прелюбодеев,
Для всех: для родовитых и ничтожных,
153
Рабов забитых и князей вельможных,
Писал я равно для мужей и жен,
Тех, кто унижен, тех, кто вознесен,
Для повелителей и угнетенных,
Для оскорбителей и оскорбленных,
Для тех, кто утешал и кто утешен.
Писал равно для конных и для пеших.
Писал равно для малых и великих,
Для горожан и горцев полудиких,
И для того, кто высший властелин,
Которому судья лишь бог один;
Для суетных людей и для благих,
Для иноков, отшельников святых.
И строки, полные моим страданьем,
Пусть станут для кого-то назиданьем.
Пусть кающийся в горьком прегрешеньи
Найдет в моих писаньях утешенье.
Пусть обратит мой труд, мое усердье
Себе во благо человек любой.
И стих мой, став молитвой и мольбой,
Да вымолит господне милосердье.
3
Всем тем, кто вникнет в сущность скорбных слов,
Всем, кто постигнет суть сего творенья,
Дай, боже, искупление грехов,
Освободи от пагубных оков
Сомнения, а значит преступленья.
Желанное даруй им отпущенье,
Пусть слезы их обильные текут,
И голосом моим они моленье
Тебе угодное да вознесут.
К тебе да вознесется их мольба
И за меня, за твоего раба.
Пусть, боже, на рабов твоих покорных,
На всех раскаявшихся, кто прочтет
С участьем книгу этих песен скорбных,
Твой свет и благодать да снизойдет!
154
И если примешь тех, кто вслед за мной
Придет к тебе с моей мольбой усердной,
Врата своей обители святой
Открой и мне, о боже милосердный.
И если слезная моя мольба
Прольется, словно дождь, грехи смывая,
То и меня, ничтожного раба,
Омоет пусть его вода живая.
И если ты спасешь, о боже, всех,
Согласных с мыслью, мною изреченной,
Ты и меня, простив мой тяжкий грех,
Спаси, о господи благословенный.
И если песнь моя в душе иной
Родит тебе угодные понятья,
Ты и меня, отец небесный мой,
Не обдели своею благодатью.
И если те, кто мой постигнет стих,
Возденут ввысь дрожащие десницы —
Пусть боль стенаний горестных моих
С молитвой чистой их соединится.
И если сказанные в книге сей
Тебе мои угодны будут речи,
То в многощедрой милости своей
Будь милосерден и к моим предтечам.
И если поколеблется, скорбя,
В священной вере некто, духом нищий,
Пусть он, воспрянув, в книге сей отыщет
Опору, уповая на тебя.
Коль маловер однажды устрашится,
Что храм его надежд не устоит,
Пусть этот шаткий храм твоя десница
Строками книги скорбной укрепит.
Когда недугом мучимый жестоко
Почти утратит кто-то с жизнью связь,
Пусть обретет он силу в этих строках
И возродится вновь, тебе молясь.
И если смертный страх или сомненье
Вдруг овладеют кем-то из людей,
Пусть в книге он найдет успокоенье,
Найдет покой по благости твоей.
155
И если груз грехов неискупленных
Потянет в пропасть грешника, пусть он
Всей сутью слов, тобою мне внушенных,
Спасен навечно будет и прощен.
И если где-то грешник есть, который
Не минет сатанинской западни, —
Дозволь, чтоб труд мой был ему опорой
И сам безумца светом осени.
И если кто-то в гибельной гордыне
Слова святых молитв забыть готов, —
Дозволь, чтоб я вернул его к святыне
Могуществом тобой внушенных слов.
И тех, кто в сатанинском ослепленьи
Уверует в презренную тщету,
Мне книгой скорбных этих песнопений
Дозволь вернуть к причастью и кресту.
И ураган неверия, взметенный,
Как над водой, над душами людей,
Смири моею песней, вдохновленной
Божественною милостью твоей.
4
Сей труд, что начинал я с упованьем
И с именем твоим,
Ты заверши,
Чтоб песнопенье стало врачеваньем,
Целящим раны тела и души.
И если труд мой скромный завершится
С твоим благословением святым, —
Пусть дух господень в нем соединится
Со скудным вдохновением моим.
Тобой дарованное озаренье
Не погаси.
Мой разум не покинь,
Но вновь и вновь приемли восхваленья
От твоего служителя.
Аминь!
156
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 9
1
И наступает срок сказать мне честно
О прегрешеньях дней моих и лет.
Но в час, когда пора держать ответ,
Моя душа робка и бессловесна.
И если я припомню всё, что было,
И воды моря превращу в чернила,
И, как пергаменты, я расстелю
Все склоны гор пологие и дали,
И тростники на перья изрублю, —
То и тогда при помощи письма
Я перечислю, господи, едва ли
Мои грехи, которых тьма и тьма.
И если кедр ливанский в три обхвата
Свалю я, сделав рычагом весов, —
На чаше их и тяжесть Арарата
Не перетянет всех моих грехов.
2
Я — древо, на котором веток много,
Но зрелых я плодов не оброню.
Как та смоковница, по воле бога
Бесплоден я, засохший на корню.
Смоковница, украшенная кроной,
Манит шумящею листвой зеленой
Усталых путников издалека.
Но подойдет к ней путник изнуренный,
И ни плода не сыщет, ни цветка.
Она — предмет презрения и брани,
Оставленная, как напоминанье,
Как некий тусклый образ душ людских,
Запятнанных греховностью и ложью,
Подвергнутых навек проклятью божью,
Погрязших в омуте грехов мирских.
157
Бывает, потом политые пашни,
Зерно приемля, хлеба не родят
И пахарь, труд оплакавши вчерашний,
Уходит прочь, куда глаза глядят.
Душа, храня пристойности обличье,
Ты, как смоковница, листвой шуршишь,
Но, как смоковница в старинной притче,
Бесплодия и ты не избежишь.
Душа моя как выгребная яма.
Ты вобрала, чтоб погубить меня,
Грехи всех смертных — со времен Адама
Свершенные до нынешнего дня.
Ты копишь то, что богу не угодно,
И потому презренна и бесплодна.
3
Я сам отяготил себя грехами,
Я над собой самим свершаю суд.
Я буду побивать себя словами,
Как из пращи камнями зверя бьют.
Я в мире жил и нагрешил премного,
И ныне я вступаю в смертный бой —
Как некий враг с врагом во имя бога
Я насмерть биться буду сам с собой.
В сокрытых мной пороках и желаньях
И помыслах, в которых был лукав,
Винюсь, как в совершенных злодеяньях,
Перед тобою на колени пав.
Молясь тебе, живу единой верой,
Что ты, который милосердней всех,
Свою отмеришь милость той же мерой,
Которой мерю я свой тяжкий грех.
Ты не откажешь дать мне подаянье,
И чем неизлечимей мой недуг,
Тем большее искусство врачеванья
Ты явишь мне, — и я воспряну вдруг.
158
Чем больший долг простишь ты мне с любовью,
Чем милосердней будешь и щедрей —
Тем истовей польется славословье
Мое, как в притче праведной твоей.
О господи, в тебе одном спасенье:
Даешь ты справедливость нам в даренье.
Лишь от твоей десницы обновленье,
И силы нам от твоего перста,
От милосердия нам искупленье,
От лика — вся земная красота,
От твоего чела — нам озаренье,
От твоего дыханья — вдохновенье,
От твоего участья — доброта,
От твоего елея — умиленье,
От знаменья — благое разуменье,
Что наши скорбь и радость — всё тщета.
Лишь ты даруешь нам освобожденье
От страха, от преступного сомненья,
Ты вкладываешь слово нам в уста.
Достоин ты земного восхваленья,
Лишь ты один вселенной лепота.
Всё в мире сущее, все поколенья
Возносят к небесам тебе моленья.
Молитва наша свята и чиста.
Аминь!
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 21
1
С тех пор как гибели себя обрек,
Уже я не восстал как человек,
Вновь не обрел в себе я человека,
Как сказано в писании святом.
159
Сойдя с пути, что праведен от века,
На этот путь я не вступил потом.
Хоть рассказал я в предыдущих главах
Про все грехи мои, но, стыд поправ,
Напомню вновь я о делах неправых,
О злодеяньях, о путях лукавых,
Не изменяя слогу прежних глав.
2
О господи, я — грешник, я — злодей,
Я заслужил твой лютый гнев и кару.
Ничтожностью, греховностью своей
Себя я уподобил Велиару.
Своею нерадивостью и ленью
Я сам себя подвергнул осужденью,
Обрек себя на горе и позор.
И демоны мои возликовали,
В бесовском хороводе заплясали,
И пляшут и ликуют до сих пор.
Удары тайные я принял, боже,
Предуготованные мне судьбой.
Я не отверг отвергнутых тобой,
Наоборот, их силы преумножил.
Бесовской я и сам грешил игрой,
И сам плясал я с бесами порой.
Они же имя божье поносили.
Но я греха не отвергал в бессильи,
Себе не говорил я — не греши!
Я грех творил,
И черви подточили
Поникнувший цветок моей души.
Я погубителей моих незримых
Не вскармливал, но не уничтожал.
Я сам невольно силы умножал
Гонителей моих непримиримых.
Я разрушителям, исчадью ада
Был преданнее, нежели творцу.
Не сладость я вкушал, а горечь яда,
И вот приходят дни мои к концу.
160
Я устрашен греховностью моей.
О, горе мне, позор и поруганье!
Как перед взором праведных людей
Предстать мне после моего признанья?
Всех лучше знаю, сколь мой грех велик,
Мне горло сжал отчаяния крик.
Когда способность мне была б дана
То видеть, что никто узреть не может,
Узрел бы я: душа моя черна,
Как идолопоклонник в храме божьем,
Понеже грехородной силы страсть
И идолов богопротивных власть
Сказать воистину — одно и то же.
В кромешной тьме, у жизни на краю,
По гибельной тропе иду и ныне,
Мой дух бессмертный — благодать твою
Я превратил в бесплодные пустыни.
3
Могу ли человеком я считаться,
Когда причислен я к творящим зло,
И существом разумным называться,
Когда в меня безумие вошло?
Хоть я и зрячий, но слепого хуже.
Внутри себя свет погасив, теперь
Я не могу прослыть ученым мужем:
К Познанью сам себе закрыл я дверь.
Слыть многомудрым, свыше просветленным
Я, погубивший душу, не могу
И просто существом одушевленным
Себя назвавши, — я и то солгу.
Среди кувшинов я — кувшин негодный.
В гранитной кладке — камень инородный.
Я в сонме избранных — избранник ложный.
Я в сонме призванных — глупец ничтожный.
И, устрашенный смертью, ибо грешен,
Покинут всеми я, а кем утешен?
Пророк Иеремия говорил,
Что Иерусалим падет в бессильи,
Так и меня страданья истощили,
161
Погиб я, потеряв остаток сил...
Как дерева червями, ткани молью,
Изъеден я своей сердечной болью.
Я истончился, словно паутина.
Моя греховность этому причина.
Я прекращаю век свой, исчезая,
Как утренний туман, роса ночная.
Я на людей надеялся, но ложно:
Надежда лишь на господа возможна.
И ныне, о содеянном скорбя,
Я, проклятый и очерненный скверной,
Надеюсь, боже, только на тебя,
Исполненного милости безмерной.
И на кресте ты никого не клял,
Терпя страданья, не ожесточился,
Когда к отцу небесному взывал
И за своих мучителей молился.
Подай мне весть, чтоб мой услышал слух,
Даруй надежду в жизни быстротечной
И в час, когда тебе свой жалкий дух
Я возвращу, —
Даруй мне дух свой вечный.
Аминь!
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 23
1
Непостижимый взору и уму,
Ты, без кого ни слова нет, ни дела,
Определяющий предел всему
И только сам не знающий предела,
Нам без тебя ни света нет, ни тьмы,
Ты слышишь наши стоны, зришь несчастья.
Невидим ты, но всё, что видим мы,
Померкло бы без твоего участья.
Ты — недоступен для рабов своих,
Но близок в вышине своей нездешней,
162
Целитель жесточайших ран людских
И утешитель боли неутешной!
2
Узри, о боже, взор мой безутешный
И сердце, что раскрыл я пред тобой.
На путь наставь мой разум многогрешный,
Но будь целителем, а не судьей.
Неверью и сомненьям нет предела,
Но чтоб греха избегнуть, дай мне сил.
Мой дух еще не отрешен от тела,
И страшен грех, что тело осквернил.
Скорблю, что дух и разум не едины,
Что на добро надежды нет в сердцах.
Скорблю, что создан человек из глины,
Замешанной на низменных страстях.
Скорблю, что нас, людей, наш ум усердный
Не сделал совершеннее скотов,
И грязью мы отмечены, и скверной,
И памятью содеянных грехов.
Что каждый совершил и что утратил
Мутит молитву нашу, застит взгляд,
И мы, сжимая плуга рукояти,
Дрожа от страха, всё глядим назад.
Мы, смертные, пленяемся ничтожным,
И не умеем мы глядеть вперед,
И в поединке истинного с ложным
Неистинное чаще верх берет.
И боль утрат идет вослед за нами,
И всюду тьма, и пелена у глаз,
И приговор возмездья пишет память
В суде сознанья каждого из нас.
О горе, если бог наш отвернется
И поразит нас гром его речей
И вечное величие столкнется
С мгновенною ничтожностью людей.
Растратил я, гонясь за наслажденьем,
Свой драгоценный дар, пропал мой труд.
Пусть божьей справедливости каменья
Меня, греховного, нещадно бьют.
163
Я путь прошел, но свет моих трудов
В потемках неусердья был не ярок.
Я не оставил по себе следов,
И свет погас, и догорел огарок.
Мой слабый ум немногое постиг
И потерял способность постиженья,
И онемел греховный мой язык
Без права отвечать на обвиненья.
Чадит лампада тусклая моя,
Мое напоминая нераденье,
И стерто имя в книге бытия,
И вписаны укор и осужденье.
3
Я вижу воина — и смерти жду,
Церковника я вижу — жду проклятья,
Идет мудрец — предчувствую беду,
Идет гонец — могу лишь горя ждать я.
Кто сердцем чист — порог мой обойдет,
Благочестивый горько упрекнет,
Навстречу мне не сделает и шага.
Водой испытан буду — захлебнусь;
От испытанья зельем не очнусь;
Услышу тихий шорох — устрашусь;
Протянут руку — в страхе отшатнусь,
Учую зло во всем сулящем благо!
На пир я буду позван — не явлюсь,
На суд твой буду призван — онемею.
Ниц упаду, слезами обольюсь,
Как будто говорить я не умею.
Мне стрелы изнутри пронзили грудь,
Слились в большую рану все сомненья,
Терплю я муку, не могу вздохнуть,
Ни днесь, ни впредь не жду отдохновенья.
Услышь, о боже, вопль души моей,
Последний стон мой, ставший песнопеньем,
Стон, слившийся со стонами людей,
Тебя молящих о моем спасеньи.
Нас, жалких обитателей земли,
Ты сам из праха сотворил земного.
Что делать нам, наставь и повели!
164
Услышь мое беспомощное слово!
Ты, сущий в каждой твари, что живет,
Превозносимый каждой тварью сущей,
Покой душевный от своих щедрот
Даруй нам в жизни сей быстротекущей!
Слово к богоматери, идущее из глубин сердца
Глава 26
1
И я один из тех, чья жизнь сурова,
Чьи слезы льются, как весной поток,
И кто стенанья превращает в слово —
В песнь с однозвучным окончаньем строк.
И стих, певучий от таких созвучий,
Щемит сердца, когда звучит в тиши.
Единозвучье раскрывает лучше
Невидимую миру боль души.
Я жил на свете горестно и сиро,
И, как гласят писания слова,
Душа, что не вполне мертва для мира,
Для бога не вполне еще жива.
Не знаю — эта песня хороша ль,
Но строки ныне с самого начала
Я рифмовал, чтобы моя печаль
Еще сильней и горестней звучала.
2
Сокровищ царских жалкий расхититель,
Я наказанью предан с давних лет,
И призовет меня казнохранитель,
Чтоб, казнокрад, я дал ему ответ.
Томлюсь в темнице без воды и пищи,
Томлюсь, мои печали велики.
Мой долг — пятьсот талантов, но я, нищий,
Давно растратил и золотники.
165
И, чтобы сердцу в песне изливаться,
Я здесь избрал особый лад строки,
Чтоб каждый стих вершился звуком «и»,
Что означает также цифру «двадцать».
Бушует нищета, как пламень горна,
В закладе сердце и душа моя,
И за вину моих деяний черных
Сурово спросит грозный судия.
И подступает страх, меня пронзая
Своим мечом безжалостным, когда
Задумываюсь я и понимаю
Неотвратимость Страшного суда.
Я, суетный, подверженный сомненьям,
Уже сегодня слышу божий глас
И мучусь, будто в огненной геенне
Мой дух и плоть горят уже сейчас.
Всё, чем владел, растратил я и прожил,
А что копил я столько лет подряд —
Презренно. И в сокровищницу божью,
Что я стяжал, того не поместят.
Плоть нечиста моя и взгляд мутится,
Но, взор молящий устремляя ввысь,
Прошу тебя, небесная царица:
Ты за меня пред господом вступись!
Грехам моим да будет отпущенье,
Пусть мне вина простится, умоли,
И пусть вовек дымятся воскуренья,
К тебе от нас летящие с земли.
3
Что, кроме щедрых слез и жалких строк,
В дар милостивцу принести я мог?
Как мне содеянное мной измерить?
Я быстрой мысли торопил крыла,
Но мысль моя размер моей потери
Всё ж охватить собою не могла.
Нет края, нет конца перечисленью
Грехов, в которых я повинен сам.
166
Я чашу малодушья и сомненья,
Как чашу смерти, подношу к губам.
Боль нестерпимая во мне таится,
Рождая, я не в силах разродиться,
И стрелы в сердце мне вонзают яд.
Жар лихорадки почки мне сжигает,
Мои мученья печень разрывают,
И желчь, скопившись, к горлу подступает,
Мою гортань стенания теснят.
Все члены тела, хоть они едины,
Друг с другом, словно смертные враги,
Меня губя, вступают в поединок.
О пресвятая дева, помоги!
О матерь божья, я твой раб презренный,
Я грешник, чьи сомненья велики,
И всё же я молю тебя смиренно:
Из тьмы грехов меня ты извлеки.
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 30
1
О милосердный, ниспошли мне сил,
О всеблагой, пусть будет мне примером
Заблудший раб, что многожды грешил
И всё ж ступил на путь добра и веры.
Пусть лишь в преддверьи рокового дня,
Пред самой смертью встал на путь он правый, —
Творивший зло, он праведней меня,
В ком дремлет соучастник — дух лукавый.
Тот дух могуч, а сам я духом слаб,
Мой искуситель у меня под боком.
Двойник мой, он — не твой смиренный раб,
А потакатель всем моим порокам.
Ведя меня дорогой суеты,
Со мною искуситель неразлучен,
Мой враг — исток моих сомнений жгучих,
167
А сколь их много — знаешь только ты!
Но кто грешит, тот кается потом,
И платим мы за радости страданьем.
И я склоняюсь пред тобой челом,
Согбенный прегрешеньями в былом
И просветленный поздним покаяньем.
2
Я повтореньем истины грешу,
И оттого моя не легче участь, —
Но я не царства божьего прошу,
Мне б жизнь влачить, немного меньше мучась.
Не пребывать мне в райской тишине,
Причисленному к сонму вознесенных:
Среди безгрешных душ не место мне, —
Мне место средь живых, но сокрушенных.
Я улыбаюсь, будто свету рад,
А про себя свою стезю кляну я,
Лицо мое спокойно, только взгляд
Горит, смятенье духа доказуя.
Со сладкою и горькою едой —
Перед собою я держу два блюда.
Держу перед собою два сосуда:
Один с отравой, с миррою другой.
Две печи есть: одна красна от жара,
Пока другая стынет без огня.
Две длани надо мною: для удара
И для того, чтоб отстранить меня.
На небесах два облака застыло:
Одно несет нам огнь, другое — град.
Тому, что будет, и тому, что было,
Две укоризны с уст моих летят.
Две жалобы летят незаглушимых —
В одной мольба, в другой укора знак.
И в сердце слабый свет надежды мнимой
И горькой скорби безнадежный мрак.
Два ливня хлещут: ливень стрел свистящий
И камнепад, грозящий всей земле.
Восходит солнце — жжет нас зной палящий,
Заходит солнце — нам темно во мгле.
168
3
Карающую занесешь десницу —
Я возмолюсь: «Казни меня скорей!»
Рука дарующая мне примнится —
Приблизиться я не посмею к ней.
Речь о грехе зайдет — приду в смятенье,
О святости — пойму свою вину.
Открыто мне дадут благословенье —
Украдкою себя я прокляну.
Я похвалу услышу — опровергну,
В ней заподозрю ложность и тщету.
Подвергнусь я хуле немилосердной —
Я слишком малою ее сочту.
Пусть осмеют, пусть предадут позору —
Сочту возмездье правым и смирюсь.
Мне пожелают люди смерти скорой —
Чтоб их слова сбылись, я помолюсь!
Когда б небесный гром меня сразил,
Я принял бы его как избавленье.
Я книгу прав своих давно закрыл —
Ни оправданья нет мне, ни спасенья!
В тот лучший мир я поспешил бы сам,
Когда бы не страшился наказанья.
Беда идущему по двум стезям,
Как говорит Священное писанье.
4
Ужели ты не слышишь, всеблагой,
Рыданий и мольбы моей усердной?
Ужели ты не видишь, милосердный:
Я, пленник зла, стою перед тобой?
Я жду, в своем погрязши заблужденьи,
Твое добро на зло мое в ответ.
Я, обреченный, жду благословенья,
Слепой, я жажду твой увидеть свет.
Протянется ль твоя десница, боже,
Чтоб тонущего грешника спасти?
Когда персты на раны мне возложишь,
Когда с неверного сведешь пути?
Научит ли твое долготерпенье
169
Усердью неприлежного меня,
И будет ли твое благоволенье,
Чтобы очистить грешного меня?
Заблудший раб, найду ли я покой
Под милосердною твоею дланью?
Чтоб, грешному, спрямить мне путь кривой,
Забрезжит ли вдали твое сиянье?
Я человек, чья совесть нечиста,
И лишь в тебе надежда очищенья.
Я проклят, и твоя лишь доброта
В меня вселяет веру во спасенье.
Я ныне приобщаюсь тайн святых
И в них ищу, рыдая, утешенье.
Я вижу: в поднятых перстах твоих
Мне, многогрешному, благословенье,
Лишь ты один способен даровать
Мне, угнетенному, освобожденье
И молвить слово, чтобы ниспослать
Рабу смятенному успокоенье.
Очищен я твоею чистотой,
Твой взгляд — моим страданьям облегченье,
И капля крови, пролитой тобой,
Освобождает душу от мученья.
Без помощи господней кто я есмь?
Мне мощь твоя дарует свет надежды,
Твой мир смятенному мне светоч здесь,
Днесь и покуда не смежу я вежды.
И нет в тебе и малой доли тьмы,
Как вне тебя нет ни добра, ни света.
Ты — надо всем, тебе подвластны мы.
Тебе, господь, да будет слава спета.
Аминь!
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 39
1
Подталкиваем дьявольской рукой
И соблазняем леностью привычной,
170
И я утратил прежний облик свой,
Свое первоначальное обличье.
А если так, то ныне мне пристало
Сказать, в чем грешен, как я прожил век,
Сказать пред миром, что со мною стало,
На что, ничтожный, я себя обрек.
2
Себе кажусь я книгою сейчас.
Я — книга воплей, стонов и сомнений,
Похожая на книгу тех видений,
Что Иезекииль узрел в свой час.
Я — город, но без башен и ворот.
Я — дом, где нету очага зимою.
Я — горькая вода, и тех, кто пьет,
Я не способен напоить собою.
Я — сад, который высох и заглох.
Я — поле, тучное травою сорной.
Я — нива, что предуготовил бог,
Но почву дьявол распахал проворно.
Я — древо, потерявшее плоды,
Годящееся только для сожженья.
Я — саженец, засохший без воды,
Светильник, потерявший дар свеченья.
И новые стенанья, плач глухой
Я облекаю в прежние созвучья.
Беспомощен зубовный скрежет мой,
И горек мой позор, и слезы жгучи.
Гнев над моей душой неумолимый,
Над грешной плотью огнь неугасимый.
Печать греха легла мне на чело.
Достоин казни я, творящий зло.
Боль, посланную с неба, на земле
Приемлю я, погрязнувший во зле.
Что ждет меня, заранее известно:
Как кучи плевел, превращусь я в дым.
171
И возвещает снова глас небесный
О том, что мой недуг — неисцелим.
3
Я каюсь, чтоб меня услышал мир.
И правда, может, схож я с той блудницей,
О коей у Исайи говорится
Во притче про надменный город Тир.
Но если скорбь блудницы позабытой
Из тьмы времен пророк донес до нас,
Как должен я взывать в свою защиту,
Как должен прозвучать мой скорбный глас?
Мне ведомо:
Пришествие господне
Настанет, —
Я дрожу уже сегодня.
И, думая о страшном Судном дне,
Предвижу нескончаемые муки,
И к небесам я простираю руки,
И жду возмездия, и страшно мне.
Что будет, всё я знаю наперед.
Но и предвидя все свои страданья
И зная, что меня в грядущем ждет, —
Я всё же нерадив на покаянья.
Но в страшный час меня ты не покинь,
О господи, отец наш всемогущий,
Чадолюбивый, добрый, вездесущий,
Прощающий своих сынов.
Аминь!
172
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Из главы 51
1
Я, смертный, не обласканный судьбой,
Ужель к себе подобному с мольбой
Мог обращаться, горестно стеная,
Бессилия людей не понимая?
Ужель к тому я обращал моленья,
Кто сам ничтожен силой, речью слаб?
У мыслящих существ искал спасенья
Я, мыслящий, но не разумный раб?
Ужель молил людей, власть предержащих,
Владык, как и дары их, преходящих?
Ужели брата я молил родного,
Который сам искал прозренья свет,
Ужели я молил отца земного,
Что сам прощенья ждал на склоне лет?
Ужели мать молил я в тишине?
Ужели ждал от той ответной вести,
Чья нежность и забота обо мне
Оборвались с мгновенной жизнью вместе?
Ужели я молил земных царей,
Не понимая, что цари земные
Способны смертным смерть нести скорей,
Чем блага жизни иль дары иные?
О нет, не к братьям, не к царям земным —
Я обращался лишь к тебе, о боже,
Лишь ты один всё можешь дать живым
И после смерти воссоздать нас можешь.
173
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Из главы 54
3
Плывет пловец, захлестнутый волнами,
Его пучина бьет, а он плывет.
Покуда взмахивает он руками,
Но силы кончатся его вот-вот.
Бьют волны и бока его, и спину,
Ест соль глаза, а морю нет конца.
Оно в свою соленую пучину
Сейчас затянет бедного пловца.
Пловец плывет, но нет ему спасенья.
Он не уйдет от вздыбленных валов.
Жалчайшее господнее творенье,
Как бедный тот пловец, и я таков.
Мне говорят — понять я не пытаюсь,
Не слышу, хоть мне голос подают.
Трубит архангел — я не пробуждаюсь,
Недвижим я, хотя меня зовут.
Я позабыл всё то, что раньше видел,
Черствее становясь день ото дня,
Бесчувственен я к боли, словно идол,
Хоть люди ранить норовят меня.
Мне лестно даже с идолом сравненье.
Я хуже, ибо совесть нечиста.
Презренный и достойный обвиненья,
Дерзаю всё ж вымаливать прощенье,
Спасенье у спасителя Христа.
174
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 55
1
Парил я на крылах души моей
Над сонмом живших в мире сем от века,
Но многогрешного меня грешней
Покуда я не видел человека.
Всё это взвесив на весах ума,
Я обратил к себе как прорицанье
Нетленный стих Давидова псалма:
«Со мною кто сравнится в злодеянья?»
Так что ж скажу я своему врагу?
Чье прокляну и чье ославлю имя?
Я, грешный, лишь себя клеймить могу
Словами беспощадными своими,
И мне, отягощенному виной,
Я верую, даруешь ты прощенье,
Как ныне я прощаю прегрешенья
Всем тем, кто был виновен предо мной.
2
Какие б я моленья возгласил,
Какие б воскурил благоуханья,
Чтоб только ты, о господи, простил
Людей, которых я порочил бранью!
Чтоб осужденного ты оправдал,
Плененному — свободу даровал,
Утешил бы скорбящих, удрученных,
Призрел обманутых и обреченных;
Чтоб скорбных духом ты уврачевал.
Когда добро намерюсь совершать я —
Чтоб ты, великий, мне прибавил сил;
Когда намерюсь произнесть проклятье —
Чтоб ты остановил и вразумил!
Чтобы в моленьях я, страдавший много,
Всем зложелателям своим простил,
Чтоб голос злобы, неугодный богу,
В ожесточенном сердце усмирил;
Чтоб я забыл вчерашние обиды,
175
Молясь о примиреньи всех людей,
И чтоб возрадовался ты, увидев,
Каким я стал по благости твоей.
Вся жизнь — в тебе, лишь ты — бессмертье смертного,
Упорство человека неусердного.
Ты — сила слабого, богатство — скудного,
Ты — мудрость для меня, для безрассудного.
Я как пловец. Ненастье, тьма и ветер
Мне ощутить мешают силу зла,
Я словно птица, что попала в сети
И гибели своей не поняла.
Не понял я, что страшен мир двуликий,
Что губит он, соблазнами маня.
Как псалмопевец говорил великий:
«Постигли беззакония меня».
3
Один мудрец назвал в года былые
Смерть без причины явной злом большим.
Хоть он — язычник, я согласен с ним:
Мгновенной смертью правят силы злые.
Как скот бессмысленный и бессловесный,
Мы исчезаем вдруг во мраке бездны,
Не осознав сей жизни пустоту.
Мы умираем и не ужасаемся,
Мы исчезаем и не удивляемся,
Мы даже в час последний не смиряемся.
Отлучены бываем — не терзаемся,
Порокам предаемся и не каемся,
Соблазнов низких не остерегаемся,
Всему предпочитаем суету.
Смиренный Иов смерть назвал покоем.
Я с ним согласен днесь и наперед,
Когда б не зло, содеянное мною,
Что втайне для меня же сеть плетет.
На свете настоящее — ничтожно,
Грядущее — темно, былое — ложно.
Я хуже всех, моя греховна суть.
В грязи желаний я погряз по горло.
176
Земные страсти мне сжигают грудь.
Нетвердый разумом, иду нетвердо.
Над глиняной обителью моей
Дожди не утихают проливные,
А слабый дух мой — глины не прочней,
Соблазны мира — не добрей стихии.
Что я скажу пред тем, как умереть?
Мои деянья скудны, страсти — странны.
Из ничего мой скарб, из ветра снедь,
Усилья тщетны, радости обманны.
Когда настигнет смерть, то силы зла
Пред справедливостью должны склониться
И заповедь, что мне дана была
Для жизни, — лишь для смерти пригодится.
4
Как сказано о том в Святом писаньи,
Пришел посланник зла, мой давний враг,
Он отнял всё, и сердца достоянье
Разграблено, и разум мой иссяк.
Я к господу, безумный, не взывал;
Чем шел быстрей, тем глубже увязал.
Стремясь к величию, терял я веру,
К безмерному стремясь — утратил меру.
Терял я большее, чем находил,
Был осторожен — лишь себе вредил.
Идти старался прямо — спотыкался,
Стремясь за лишним — нужного лишался.
Избавился от меньшего из зол,
Но гибельные страсти приобрел.
То, что искал, считал всего дороже, —
Не стало оправданием моим.
В тебе одном мое спасенье, боже,
Я пред тобой склоняюсь, всеблагим.
Тебя молю я, раб твой неусердный:
Моей молитвы в гневе не отринь.
Будь милостив, отец наш милосердный,
Прибежище души моей.
Аминь!
177
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 56
1
Как ядовитый плод на древе ада,
Или враждебной ставшая родня,
Иль сыновья, предавшие меня,
Грехи меня терзают без пощады,
Всё неотступнее день ото дня.
2
Я сердцем хмур, устами злоречив.
Мой слух неверен, взор мой похотлив.
Моя рука готова смерть нести,
Моя нога сбивается с пути.
Мой смраден вздох, походка не тверда,
Я не оставлю по себе следа.
И воля к благу у меня шатка,
Зло крепко, добродетель не крепка.
Божественный завет я позабыл,
Указанный запрет я преступил.
Я — дичь, не избежавшая стрелы,
Бежавший раб, упавший со скалы,
Я — узник, чей конец наступит вскоре,
Морской разбойник, что утонет в море.
Я — робкий ратник, я свидетель лживый,
Нестойкий латник, пахарь нерадивый,
Священник, презирающий амвон,
Законник, попирающий закон,
Звонарь церковный, невпопад звонящий.
Я — проповедник, смутно говорящий,
Я — взгляд, который неприятен людям,
Ужасен ликом я и сердцем скуден,
Я — прерванная трапеза хмельная,
Я — праздник жалкий, красота смешная,
Я — сад, который высох и заглох,
Я — жнец, который жнет чертополох,
Сажающий крапиву садовод,
Мышам доставшийся пчелиный мед.
178
Я — близкими покинутый старик,
В грехе упорствующий еретик,
Болтун пустой, гордец скотоподобный,
Хвастун и лжец, скупец, мздоимец злобный.
Я — леность, я — надменность, я — коварность,
Бесстыдство, черная неблагодарность,
Великолепье, жалкое обличьем,
Ничтожество, надутое величьем,
Величье, что пред низостью склонилось,
Могущество, чья сила истощилась.
Я — управитель-плут, советчик ложный,
Торгаш бессовестный, друг ненадежный,
Сосед злословящий, богатый скряга,
Чьей смерти ждут наследники как блага.
Бесчестный казначей, служитель-бражник,
Глашатай лживый, нерадивый стражник,
Я — нищий, жалкий, но высокомерный,
Правитель алчный, царь жестокосердный,
Я — вестник, с доброй вестью опоздавший,
Посредник, поводом раздора ставший.
Я — царь-изгнанник, царь, лишенный трона,
И царь-тиран, не знающий закона.
Я — воин, побежденный и несчастный.
Я — самовластный князь, судья пристрастный.
Я — полководец, робкий и бесславный,
Слуга лукавый, раб самоуправный.
Я — песня, сочинителя позор,
Для обвинителя я — приговор.
Когда-то раньше не творил я зла,
Мне отовсюду вслед неслась хвала.
Но всё прошло, мой мир перевернулся,
И ныне я — носитель многих зол.
К одним пришел я, ибо обманулся,
Другие я по слабости обрел.
3
Изо всего, что ныне перечислил,
Всего, чем ныне утрудил тебя,
Что тягостней тебе и ненавистней,
Каким грехом я погубил себя?
179
Что совершить и как тебя восславить
Рабу, который скорбию томим?
Как от грехов своих себя избавить,
Представ перед величием твоим?
Сколь велико, скажи, твое терпенье,
И долго ль будешь ты меня прощать,
И долго ль будешь, господи, молчать,
Мои земные видя прегрешенья?
Тебе совсем мою презреть бы речь,
Тебе б не слушать слов моих ничтожных,
Не для меня ль карающий твой меч?
Я заслужил, чтобы меня обречь
На казнь, что ждет преступников безбожных.
Но ты меня, бредущего во мгле,
И прочих, мне подобных, на земле
Врачуешь добрым светом милосердья,
Чтоб душам нашим обрести бессмертье
Там, где мерцает неземная синь.
Нас, грешных, не по нашему усердью
Ты одаряешь, господи.
Аминь.
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 71
1
Пребудь счастлив и славен, сонм святых,
Хотя порой иные отступались,
Хотя порой иные колебались,
Но вновь гореньем чистым озарялись,
И находили путь, и утверждались
В неложности молитв и дел своих.
Они являли слабости подчас,
Но отрекались от сует мгновенных
180
И возвышались в помыслах священных
Над бренной сутью каждого из нас.
Была всегда их чтима чистота,
И не было к мольбе их небо глухо.
Их чтят, как тело господа Христа,
В них — обиталище святого духа.
В них нету ни следа, ни тени тьмы.
Их праведность светла в сияньи божьем.
Они богоподобны, если мы
Кого-то богу уподобить можем.
Была их жизнь чиста и безупречна,
Неколебима воля, вера вечна.
Их истина едина и одна.
Всему, что в мире тленно или мнимо,
Противоборство их необоримо.
Их благочестие несокрушимо,
И мудрость их для нас непостижима,
Сияньем божиим озарена.
Молить их, как создателя молю я,
Деяния их чтить по мере сил
И уповать на помощь их святую —
На это нас всевышний вразумил.
2
А я, ничтожный в мыслях и делах,
Хулы достоин, грешник безнадежный,
Я бодрствую, но сон в моих глазах.
Дремлю, хотя мои открыты вежды.
Молясь, я в мыслях осуждаю близких.
Молясь, я мыслю о деяньях низких.
Иду вперед — и вдруг подамся вспять.
Едва очистившись, грешу опять.
Страстей своих греховных и гордыни
И умиротворясь я не уйму.
Я мед мешаю с горечью полыни,
В сияньи дня предвосхищаю тьму.
181
Я прячу тернии среди цветов.
Едва покаясь, снова согрешаю.
Мое цветенье не дает плодов.
Я не творю того, что возглашаю.
Даю зарок и тут же попираю,
Я простираю длань и опускаю,
Ни с кем своим достатком не делюсь.
Что посулил, того не дать стараюсь.
Едва от прежней язвы исцелюсь —
И снова гнойниками покрываюсь,
Веду корабль я, но с пути сбиваюсь,
Я отправляюсь в путь и возвращаюсь,
Едва наполнившись, опустошаюсь,
То распадаюсь, то воссоздаюсь,
То сею смуту я, то примиряю,
Виновный сам, другого обвиняю,
Я повинюсь и тут же отрекусь.
Того, что начал, я не завершаю,
Растрачиваю всё, что обретаю,
Что накопил, немедля промотаю,
Немудрый сам, я мудрых поучаю,
Вражды погасшей пламень раздуваю
И никогда того не постигаю,
Чему учусь и что постигнуть тщусь.
Что сам я разорву — потом латаю,
Я злаки мну, крапиву насаждаю,
Я белым голубем в гнездо влетаю
И вороном оттуда вылетаю.
Едва поднявшись, вновь к земле стремлюсь.
Я, белый, обернусь мгновенно черным.
Строптивый, притворяюсь я покорным,
От истины в гордыне отвернусь.
Что правою рукой оберегаю,
То левою беспечно разоряю.
Себя считаю правым, хоть неправ,
Я истину устами утверждаю,
А сердцем лгу, все истины поправ.
Сауловы деянья совершаю,
Давидово обличие приняв.
182
Сначала я заблудшим притворяюсь,
А после откровенно заблуждаюсь.
То я смиренно не подъемлю глаз,
То вместе с бесами пускаюсь в пляс.
Хвалим я грешниками и утешен,
А кто безгрешен, те меня хулят.
«Блажен ты», — говорят мне те, кто грешен.
«Ты грешен», — праведники говорят.
Но мнится мне суд праведных пристрастным,
И я не к ним, а к низким духом льну.
Порою перед грешником несчастным,
Пред самым недостойным спину гну.
Не различив, что бренно, что нетленно,
Хожу я в облачении чужом,
Но люди узнают меня мгновенно,
Как чайку в оперении чужом.
Порой многоречив я неуместно,
Когда ж ответить надобно — я нем.
Куда богатство трачу — неизвестно,
Но в день расплаты остаюсь ни с чем.
Бывает, в час восхода я богат,
Но нищим застает меня закат.
Пашу я нерадиво пашню воли.
Боюсь чего-то, что-то сделать тщусь...
Я вечером с тревогой спать ложусь
И просыпаюсь от душевной боли.
И все-таки, беспутный, безрассудный,
Я, господи, твой сын, я сын твой блудный.
Я — пленник, что собою сам пленен,
Прислужник смерти, сам я обречен.
Я — ветвь, что только для огня годится,
Я — огнь погасший, что не возгорится.
Я погибаю, сам себя кляня.
Мне ведомо: моя плачевна участь.
Чем сам я, кто гневней казнит меня?
Я сам уже теперь сухие сучья
183
Готовлю впрок для адского огня.
И пред тобою, грешный и упрямый,
Стою сейчас с повинной головой,
Как Каин — порождение Адама,
О господи, я — сын преступный твой.
О господи, твой грешный сын, я стражду.
Давно себе я вынес приговор.
Давно мой каждый шаг и вздох мой каждый
Мне самому — проклятье и укор.
3
Как мне спастись в греховной жизни сей,
Когда и Авраам мне в осужденье
Мои припоминает прегрешенья,
Когда в меня бросает Моисей
Слова, что тяжелее, чем каменья,
И праведный Навин во гневе мстит,
Весь род карает заодно с Аханом,
И выдает на гибель царь Давид
Людей безвинных гаваонитянам,
Когда он — царь великий, зло тая,
С Навалом сводит счеты, с сумасшедшим,
Когда ревнитель божий Илия
Людей палит огнем, из туч сошедшим.
И тот, кто, может, праведнее всех —
Апостол Петр людей карает сирых,
Ниспосылая смерть за малый грех
Анании с женой его Сапфирой.
Когда ведун великий душ людских,
Апостол Павел, столп вероученья,
К благим словам в посланиях своих
Примешивает смрадный запах тленья,
Моей вине нет края, нет конца.
Сонм воинов, отважных и суровых,
Блаженных сонм и сонм святых, готовых
Исполнить волю нашего творца;
Земля и твердь, и огнь, и все стихни,
Живая тварь и камни неживые —
184
Все карою грядущей мне грозят,
Напоминают мне грехи земные
И предрекают мне кромешный ад.
Грешащий, я под стать морской стихни:
Кто в душу мне пытливый бросит взгляд,
Увидит: маленькие и большие
Внутри меня чудовища кишат.
Увидит, как чудовищ этих сонмы
Меня терзают в жизни сей земной,
И подтвердит свидетель потрясенный
Правдивость слов, произнесенных мной.
О господи, моих грехов премного,
Но ты даришь спасенье нам, живым,
Единородный сын живого бога,
Ты, что всесилен и непостижим.
Господь неизреченный и нетленный,
Понеже все мы под твоей рукой,
Прости, и дух мой, бурею смятенный,
Ты, боже, укрепи и успокой.
Своим мечом карающим и правым,
Чтоб не осталось бы от них следа,
Ты отсеки бесчисленные главы
Чудовищ тайных моего стыда.
И этих скорбных песнопений слово
Услышь, не усомнись в моей мольбе,
И не отвергни, господи, сурово
Молитву, обращенную к тебе.
Мои слова, как ладан благовонный,
Прими, господь, и мир мне принеси,
И, как пророка своего Иону,
От чудищ и от бурь меня спаси!
Услышь, о господи, мои стенанья,
Прими мою молитву покаянья,
Умерь мои бессчетные страданья,
185
Меня в мой час последний не покинь.
Мое единственное упованье —
Отец и сын и дух святой.
Аминь!
Слово к богоматери, идущее из глубин сердца
Глава 80
1
В молитвах многие проведший дни,
О матерь божья, пресвятая дева,
Я днесь тебя молю: оборони
От божьего карающего гнева!
Пречистая, ты — ясный свет дневной,
Сияющая в небесах денница,
Ты, что святей обители святой,
Меня услышь, небесная царица!
Ты, укрепленная творцом земли,
Прикосновением святого духа
И сыном осененная, внемли,
Мой стон пусть твоего достигнет слуха.
Родившая того, кто триедин,
Вскормившая его, кто по рожденью
Любимый и единственный твой сын
И господин твой, царь по сотворенью.
Я, с праведного сбившийся пути,
Днесь преклонился пред тобой в смиреньи.
Услышь мои мольбы и обрати
Ко всеблагому, как свои моленья.
Ты вознеси мольбу мою и с ней
Соедини свое святое слово,
И пусть оно дойдет до всеблагого,
Любовью озаренного твоей.
Пусть не карает он меня сурово,
Хоть я, быть может, худший из людей.
Пусть не казнит, а даст мне силу снова
Ему молиться до скончанья дней.
186
2
К твоим стопам приникнуть мне дозволь,
Ты, признанная матерью живущих,
Чтоб я без мук покинуть мог юдоль
Пороков и страстей, меня гнетущих.
Пошли спасенье, свет зажги вдали,
Чтоб путь к спасенью стал бы мне приметней,
И всеблагого сына умоли,
Чтоб стал мне торжеством мой день последний.
Меня в молитве слезной помяни,
Открой мне путь, доселе неизвестный.
Пред господом колена преклони,
Дай руку падшему, о храм небесный!
Снимавшая спасителя с креста,
Мне вымоли, владычица, спасенье,
Ты, матерь Иисуса, так чиста,
Что будут приняты твои моленья.
Стань для меня защитною стеной,
В мою защиту обрати моленья,
Чтоб ныне совершилось надо мной
Таинственное чудо очищенья!
3
Я, грешный раб, до рокового дня
Тебе молиться буду, восславляя,
Когда спасешь, владычица, меня,
Когда ты смилуешься, пресвятая.
Когда ко мне ты снидешь, устрашенному,
И облегчишь мне муку, устыженному,
Когда мои рыдания прервешь
Ты, всё неистинное попирающая,
Когда простишь мою тщету и ложь,
Ты, непрощенных грешников прощающая!
Когда меня от зла ты оградишь,
Спасающая нас и ограждающая,
Когда, людские беды отвращающая,
Ты дух мой слабый в вере укрепишь!
О, если ты, заклятия снимающая,
В груди моей волненье укротишь,
187
И если, благодать всепримиряющая,
Меня, владычица, благословишь.
И если ты смятенного меня
К себе приблизишь, о присноблаженная,
И если сокрушенного меня
На верный путь наставишь, совершенная,
И если ныне успокоишь ты
В моей душе мятежное волнение,
И если недостойного прощения
Своим прощеньем удостоишь ты, —
Услышь меня, скорбями удрученного,
Спаси меня, на гибель обреченного!
Быть может, в вышине твоя рука
Благословит земной мой путь тернистый
И капля девственного молока
Падет мне в душу с губ твоих, пречистая!
Творца всего, что суще в мире сем,
Ты, матерь, беспорочно породила,
Неизреченно в нем соединила
Суть бога с человечьим естеством.
Он, судия и наставитель мой,
Создатель, зрит души моей поруху.
Хвала единству троицы святой —
Отцу и сыну и святому духу.
Аминь!
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 82
1
О господи, щедры твои даренья.
Ты — жизни свет, души успокоенье.
Во имя нас страдал ты и скорбел,
Идя путем своим неизреченным,
Спасая нас, ты муки претерпел,
Пред тем как вознестись в иной предел
И слиться с духом наисовершенным.
188
2
Во имя всех апостолов святых,
Во имя благоизбранных твоих,
Благословляемых твоею дланью,
Создавшей твердь и всё, что в мире есть,
Которым я в другом своем писаньи
По мере сил воздал хвалу и честь;
Во имя их любви и совершенства
Без милости меня ты не оставь
И на стезю желанного блаженства
Их указаньем пастырским направь.
О господи, надеждой на спасенье
Отметь меня, как тех отцов святых,
Прославленных чредою поколений
И языками всех краев земных.
Наставь меня, как тех святых людей,
Увенчанных венцами светозарными
И песнопениями благодарными
И озаренных милостью твоей.
3
Всегда ты, господи, тех отличал,
Кто проповедовал твое ученье,
Их чистые молитвы принимал,
И фимиам, и жертвоприношенья.
И хоть их кровь обильная текла,
Они при жизни были непреклонны.
Неверие в господние законы
Вовек не омрачало их чела.
Пусть им порою не хватало сил,
Они твое несли повсюду слово,
И ты их, милосердный, возродил
Из праха, из ничтожества земного.
Ученики апостолов святых,
Они сумели, претерпев страданья,
Увидеть в слепоте сует земных
Заметное не всем твое сиянье.
189
И к пиршествам причастны неземным,
Теперь они блаженствуют, провидцы.
Наставь меня, чтоб я, подобно им,
Спасенье принял из твоей десницы.
4
Блажен, кто в пламени горел, кто пролил
И кровь и слезы, избранный тобой,
И те блаженны, что по доброй воле
Ушли навек от суеты мирской.
Они попрали все свои сомненья,
И Велиар не смог их побороть
На бранном поле жизни, где в бореньи
Извечно пребывают дух и плоть.
Плывя в грозу, они достигли суши,
Обетованный отыскав предел,
И возродились легкие их души
Со скиниями их тяжелых тел.
И заблестели неземной красою
На их главах венцы в сияньи дня...
Поддержанного их мольбой святою,
Причисли к ним и грешного меня.
5
С молитвой старцев, славящих тебя,
С молитвой, что достигнет небосвода,
Свою мольбу соединил скорбя
И я, как каплю дегтя с бочкой меда.
Пусть их моления с моей мольбой
Предстанут, как уродство с красотой,
Хоть на мгновенье слившись воедино,
Как с грязью изумруд, со златом глина
Или с никчемным камнем серебро,
С неправдой правда и со злом добро.
О боже, выслушай, не отстраня
Молитву нашу! Не суди сурово
Их слово ради грешного меня
И ради них мое приемли слово.
190
О совершенный, о благословенный,
Несотворенный, всеблагой, нетленный,
Ты, господи, источник всех даров,
Всех добрых дел начало и причина,
Не осуждаешь ты своих рабов,
В отличье от людей, не мстишь безвинно.
Не умерщвляешь их, но оживляешь,
И обретаешь их, а не теряешь,
Не изгоняешь ты, а собираешь,
Не предаешь, не губишь, а спасаешь,
Ты оступающихся не толкаешь,
Погрязнувших в грязи ты поднимаешь,
Не проклинаешь, а благословляешь,
В грех не ввергаешь — веру возвращаешь,
Ты грешных не казнишь, ты их прощаешь,
Ты не колеблешь нас, а утверждаешь,
Не попираешь ты, а возрождаешь,
Спасаешь грешных ты, а не караешь,
Ты безутешных в горе утешаешь,
Жизнь сохраняешь, а не убиваешь,
Не укоряешь ты, а наставляешь.
Мы забываем — ты не забываешь,
Мы отступаем — ты не отступаешь.
В отличие от сущих на земле,
Ты милостью вражды не вызываешь,
Презренному злословью и хуле
За доброту себя не обрекаешь.
Тебя не осуждают за терпенье,
Лишь ты не заклеймен за всепрощенье,
Не обречен за кротость на гоненья,
Единственный, кому на все даренья
Ответствует не брань и не хула,
Не слово осужденья и презренья,
А истая молитва и хвала.
Так отпусти, о господи, мой грех,
Спаси, о милосердный, от проклятья.
Прости меня, хоть я грешнее всех,
И долг прости, что не сумел отдать я!
Лишь длань поднимешь ты, и сгинет зло,
Наш к совершенству путь в твоей лишь воле.
Тебе меня спасти не тяжело,
А для меня что можно сделать боле?
191
Вдохни в меня, о боже, образ твой,
Навстречу протяни свою десницу,
И дух мой грешный обретет покой,
Спасенье обретет и возродится.
6
Не приближай, господь, мой смертный час,
И мой последний вздох не торопи ты,
Чтоб я без очищенья и защиты
Не вышел в путь далекий, ждущий нас.
Я жив надеждою, как смертный каждый, —
Не дай испить мне желчь, когда возжажду.
Пусть не нагрянет смертный час во сне,
Как вражее нашествие ко мне.
Пусть лихорадка не охватит вдруг
Моих корней, не пережжет случайно,
И пусть безумье иль другой недуг
Моей душой не овладеет тайно.
Дай искупить при жизни грех мирской,
Да не умру я, задремав средь ночи,
Пусть не сулит мне гибели покой,
Пусть забытье мне смерти не пророчит.
И пусть во время сна последний вздох
Навеки не прервет мое дыханье,
Пусть не застанет смерть меня врасплох
Без памяти и слова покаянья!
7
О господи, твое долготерпенье
Спасает от отчаяния нас,
Твое всесилье — наше озаренье,
Спасенье от безумья в черный час.
Ты — от недугов наших исцеленье,
И воскрешенье, и животворенье,
Ты — наша вера, наше искупленье,
Сколь многих ты из темной бездны спас!
192
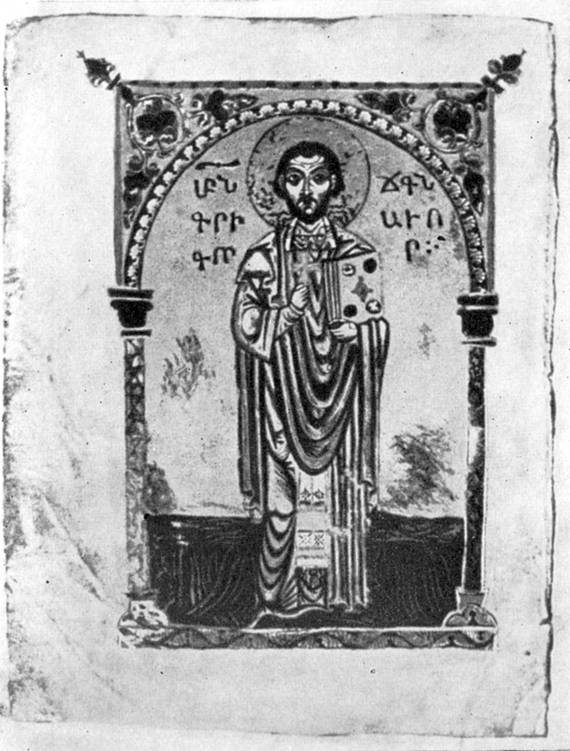
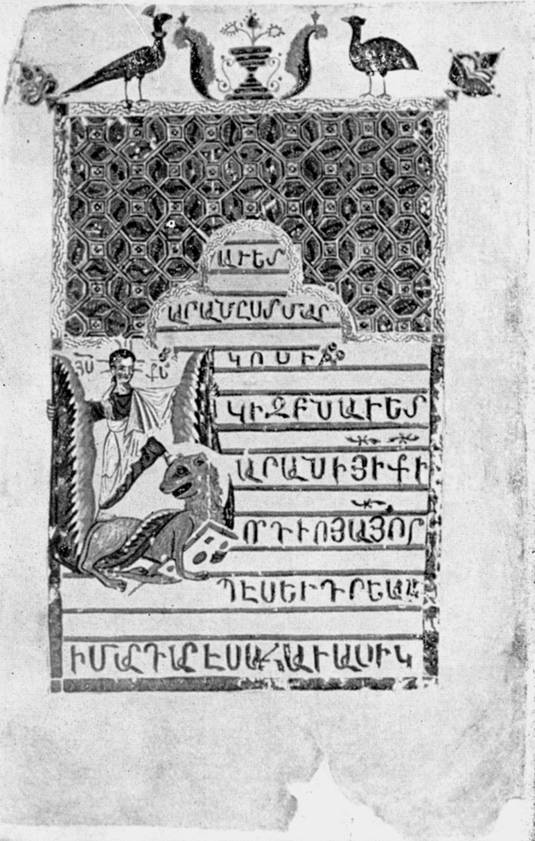
Ты слабых духом к жизни возвращаешь,
Нас из драконьей пасти вырываешь,
От гибельных страстей освобождаешь,
Чтоб видеть рядом с праведными нас!
Все в мире, павшие и вознесенные,
В грехах погрязшие и возрожденные,
Тобой спасутся, ибо ты — родник
Надежды и раба, и властелина.
Сознаньем не постичь, сколь ты велик,
Единственный для всех нас и единый.
Всё под тобою: и моря, и реки,
И прах пустынь, и камень всех твердынь.
Да будут прославляемы вовеки
Отец и сын и дух святой.
Аминь!
Слово к богу, идущее из глубин сердца
Глава 95
1
Свет истины, пречистый Иисус,
В величии своем неизреченный,
К тебе взываю и тебе молюсь,
Царь бытия, мой свет благословенный.
Мой стон невнятный, вопль истошный мой,
Преобрази в свое святое слово
И с этой нашей общею мольбой
Предстань перед творцом всего живого!
Приял ты облик наш, чтоб нас спасти,
Приял за нас проклятье и распятье,
Прости ж мой грех и на моем пути
Не обдели своею благодатью.
Ты грех наш искупил, преобразясь
По нашему подобью, достославный,
Днесь укрепи меня, со мной склонясь
Пред тем, кому один лишь ты всеравный!
193
2
Христос, во имя ран твоих святых,
Умилостивь отца всея вселенной,
Да распадется мрак скорбей моих,
Забудется мой долг, мой грех презренный!
Пусть за мои деянья приговор
По воле вседержителя смягчится,
Пусть червь меня не точит с этих пор,
Пусть наш зубовный скрежет прекратится.
И да иссякнут слезы наших глаз,
Исчезнет тьма, и ужас отдалится,
И сгинет всё, пытающее нас,
Огонь карающий да истощится!
3
Твое сиянье пусть наш мрак рассеет,
И пусть в сердцах людских растает лед.
Пусть помощь и спасенье подоспеет,
День твоего пришествия придет.
Да снизойдет твоя святая воля
На нас, и реки милости твоей
Да напоят иссохнувшее поле
Моих в страданье ввергнутых костей!
Пусть кровь из ран твоих кровоточащих
Во имя всех тобой спасенных душ
И сад моей души, где тлен и сушь,
Преобразует в сад плодоносящий.
В последний день земного бытия
И в первый день святого Воскресенья
Пусть возродится вновь душа моя,
Которую убили прегрешенья.
Пусть станет дух мой тверже всех твердынь,
Преображенный силою пречистой...
Господь благословенный, днесь и присно
Всем сущим в мире славимый.
Аминь!
194
ОВАНЕС САРКАВАГ ИМАСТАСЕР
(середина XI века — 1129)
101. МУДРАЯ БЕСЕДА, КОТОРУЮ ВЕЛ В ЧАС ПРОГУЛКИ ФИЛОСОФ ОВАНЕС САРКАВАГ С ПТИЦЕЙ, ИМЕНУЕМОЙ ПЕРЕСМЕШНИК
Отрывки
О птица, птица божия, скрываемая чащею,
Недремлющая, бдящая под веткою в тени,
То весело поющая, то жалобно молящая,
Хвалу во славу господа с моей соедини!
Ты здесь, лесолюбивая отшельница всесветная,
Живешь, не зная зависти, всех равно возлюбя.
Среди великих малая, средь малых неприметная,
Но могут и великие учиться у тебя.
Среди великих малая, средь малых невеликая,
Но лучше нас понявшая, что в мире всё — тщета.
Беспечна, незапаслива, на ветку с ветки прыгая,
Живешь во славу господа — спасителя Христа!
Искусна в песнопении, ты сладко заливаешься.
К тебе не прикасаются ни суета, ни ложь.
Зовешь ли ты кого-нибудь, клянешься ль, отрекаешься,
Ликуешь или каешься, — ты день и ночь поешь.
Ты, дух не осквернявшая и плотью не грешащая,
Вовеки не вкусившая запретного плода,
В заботах неусыпная, всегда к трудам спешащая,
И днем и в ночь безлунную — тебе светло всегда.
195
Пример святым отшельникам, укор живущим в праздности,
Ты недоступна лености, к злословью не склонна.
Певунья многогласная в своей однообразности,
Ты величава в скромности, в величии скромна.
Одним — способность пения, другим же дар молчания
Дал бог по справедливости, дал в меру наших сил.
Хоть не была ты в горнице на благовествовании,
Разноязыким пением тебя он одарил.
Мудрец из неудачливых, не преуспевший в пении,
Прошу — меня, смиренного, в ученики возьми!
Как плату за учение, создам я сочинение,
Что навсегда останется, читаемо людьми.
Ответ птицы, именуемой пересмешник
Что было мне подарено, в грехе я не утратила.
Не сорвала я с дерева плодов добра и зла.
Я избежала страшного возмездья и проклятия,
Ни башен я не строила, ни бога не кляла.
Горды своею мудростью, грешили вы надменностью,
Один язык дробили вы на сотни языков.
Грешили вы гордынею, не знали вы смиренности
И с каждым шагом множили число своих грехов.
В своих чертогах каменных отмеченные скверною,
Природу невзлюбили вы, и ваша в том вина.
Я ж, птица, от рождения была природе верною, —
За верность откровеньями ее награждена.
Вы как единство созданы, но противоборением
Разобщены вы, смертные, на множество частей.
А мы, созданья малые, велики единением,
Спастись нам помогающим от пагубных сетей.
196
Философ оправдывает ответы птицы, именуемой пересмешник, и проявляет к ней снисходительность
В суровом осуждении права ты, птица, может быть.
Хотя он и загадочен, нам мир природы мил.
Но, грешных от рождения и прегрешенья множащих,
Нас от природы истинной создатель отдалил.
О птица, птица божия, твое мы слышим пение.
Перед твоею песнею ничтожна песнь моя.
Но звучным щебетанием, суровым осуждением
Мешаешь размышлениям о тайнах бытия.
Смущаешь ты укорами покой мой, птица малая,
В минуту обретения душою высших благ.
Ты в строгом обличении всё, чем грешил, бывало, я,
Склонна преувеличивать, как будто я — твой враг.
Я трачу дни короткие на обретенье мудрости,
Ищу пути, которые предначертал творец.
Зачем же дух мой алчущий ты обвиняешь в скудости?
Тобою оклеветанный, не враг я, но истец.
И как истцу пристало мне порочить обвиненного.
Скажи: коль, птица певчая, сродни ты соловью,
Что не поешь в пустыне ты, от мира отрешенная,
А средь людей построила ты келию свою?
Искусники великие: Орфей — певец из Фракии,
И Арион прославленный, и Амфион из Фив,
Хоть пели восхитительно, но признаю, однако, я,
Что птичье пенье сладостней в тиши лесов и нив.
У всех твоих сородичей есть мастерство врожденное,
Да и тебе такое же природою дано,
Но что ж ты лес покинула и, чем-то привлеченная,
Мое жилье приметила и здесь кружишь давно?
197
Философу, обвиняя, отвечает птица, именуемая пересмешник
Постигший мудрость многую, напрасно ты винишь меня,
От века мы — исконные владетели земли.
А вы, созданья высшие, но всё ж владыки пришлые,
За грех из рая изгнанны, на землю вы пришли.
Земля сия бескрайная нам отдана в наследие,
Чтоб жили и плодились мы, не ждя иных наград.
А вы, желая многого, утратили последнее,
На небеса позарившись, вы заслужили ад!
Разбогатеть мечтали вы, да стали духом нищие,
Попрали слово божие, низвергнуты во прах.
Попали в преисподнюю, как ни стремились к высшему,
Идя за искусителем, погрязли вы в грехах.
Братоубийцы злобные, ходить вам неприкаянным,
И не услышат ангелы ваш вопиющий глас.
Вы, люди, слуги божии, роптали на Хозяина,
И, слуги ваши кроткие, мы обличаем вас.
Наказанным изгнанием за вашу суть лукавую,
Вам с нами жить, с безгрешными, и ныне и всегда.
Отвергшим пищу чистую, вам пищу есть кровавую,
У нас обитель общая и общая беда.
Рассудком наделенные, стоящие над безднами,
Вы поминутно множимым грехом осквернены.
За ваши прегрешения мы — твари бессловесные,
Созданья неразумные страдаем без вины!
За ваши прегрешения, невыполненье должного,
Созданья бессловесные, мы горестно живем.
Нет лекаря искусного, и крова нет надежного,
И нашу пищу скудную находим мы с трудом.
Познали мы лишения за ваши прегрешения.
Вы землю нашу заняли, за грех сюда попав.
Ничтожны ваши доводы и ложны обвинения,
Ответствуй же по совести — кто виноват, кто прав?
198
Сопоставление двух речей и признание философом своего поражения
Ты поразила мудростью сужденья непреложного,
Искусно ты оспорила все вымыслы тщеты,
И, мудреца ничтожного, меня, поэта ложного,
Своею речью краткою разубедила ты.
199
НЕРСЕС ШНОРАЛИ
(1103—1173)
102. НЕБО
Небо я, будучи раз навсегда сотворенным,
Неизреченно раскинулось сводом бездонным.
Отделены, как заметил еще Моисей,
Верхние воды от нижних стихией моей.
Соединило навечно пространство небесное
Оба начала: телесное и бестелесное.
Ибо, подобно стихии телесной, я зримо,
Как естество бестелесное — неощутимо.
Я покрываю собою четыре стихии,
Те, из которых возникли все твари живые.
Кроме всего, воплощаю я нечто такое,
Что различают не глазом, а только душою.
Я — полукругло, от прочих предметов отлично,
Хоть и в движеньи всегда, я всегда безгранично.
Сущему в мире — всему я конец и начало.
В пропастях я и на кручах — преград не встречало.
Я неподвижным кажусь — неподвижность обманна.
Вдаль я стремлюсь, лишь в движеньи своем постоянно.
200
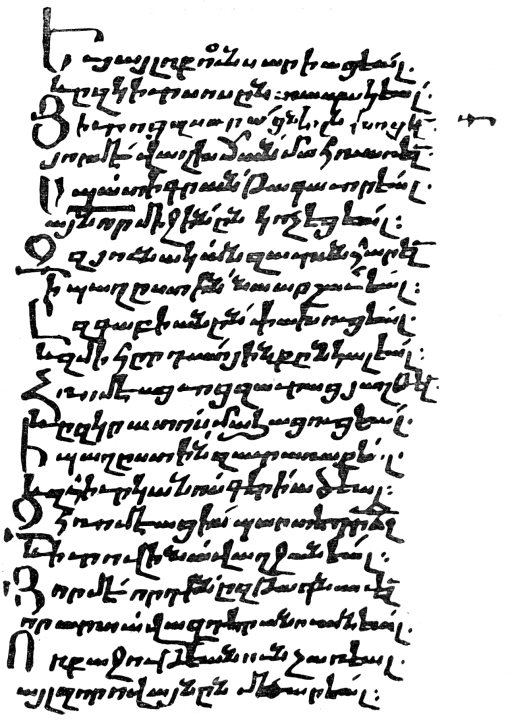
Горы высокие, что вас страшат крутизною,
Скаты, глубокие пропасти — всё подо мною.
Не прерывая движения ни на мгновенье,
Небо, я вечно в своем бытии и движеньи.
103. СОЛНЦЕ ИСТИНЫ
Солнце истины пламень любви запалило,
Лед неверия, камень греха растопило.
И ростки показались на древе сознанья,
Исторгая пьянящее благоуханье.
И на грешной земле зацвели, зашумели
Дерева, что в раю красовались доселе.
И доселе мерцавшие в небе светила
Провиденье на грешную землю спустило.
Призывает спаситель на пир свой небесный
Верных воинов рати своей бестелесной,
Но и смертные мученики и провидцы
К бестелесному сонму должны приобщиться.
Укрепили их дух, укротили сомненье
Муки господа, чудо его воскрешенья.
И явились на пир вереницы гостей
В одеяньях, окрашенных кровью своей.
Обессмертил великий господь естество
Смертных латников воинства своего.
104. НА РАСПЯТИЕ ГОСПОДНЕ
Тот жаждал на кресте, как человек простой,
Кто создал океан, наполненный водой.
Самаритянку тот «дай мне испить» просил,
Кто всю вселенную бессмертьем напоил.
И сотник римских войск, желчь с уксусом смешав,
Чрез губку напоил царя небесных слав.
202
Днем солнце было мглой затем облечено,
Что слово вечное землей оскорблено.
И громким голосом господь с креста к отцу
«Или! Или!» воззвал и предал дух творцу.
Завета Ветхого порвался завес — в миг,
Когда в мучениях даятель жизни ник.
Земля потрясена была до глубины;
Рассеклись камни скал, гроба потрясены;
Темница страшная, восколебался ад,
Тьму душ окованных он выпустил назад:
От гласа мощного того, кем жизнь дана,
Была свобода им в тот час возвращена.
Сей жизнедатель наш когда во ад сошел,
Он свет затеплил тем, кого в тюрьме обрел,
На небо верхнее из бездны их вознес
И с бестелесными — их водворил Христос;
Их свету причастил в чертоге без греха,
Во царстве свадебном святого жениха, —
Там, церкви-матери, где первенцы царят
И Авраамовых наследников где град,
Где праведных ряды пред господом отцом
Ликуют без конца о женихе святом.
С отцом и святым духом, в век веков, псалом
Распятому за нас мы славу воспоем.
105. ВСЕМ УСОПШИМ
Когда архангел возгремит трубой
И воззовет на Страшный суд всю плоть,
203
В тот страшный день всех помяни, господь,
Усопших со святыми упокой.
Когда с Востока, славой золотой,
Твой лик блеснет, чтоб сумрак побороть,
В тот страшный день всех помяни, господь,
Усопших со святыми упокой.
Ты книгу тайн разверзнешь пред собой,
И задрожит от ужаса вся плоть.
В тот страшный день всех помяни, господь,
Усопших со святыми упокой.
106. ПРИ ВОСХОДЕ СОЛНЦА
Свет, света творец, первый свет, чей дворец — неприступнейший свет!
Небесный отец! Кто хвалим сонмом духов, созданных от света!
Наши души, в свете зари, осияй твоим мысленным светом.
Свет, исшедший от света, бог сын, кто один — рожденье отца,
Солнце правды, чье имя, до солнц, сонмы духов гимном хвалили,
Наши души, в свете зари, осияй твоим мысленным светом.
Свет, идущий от света, бог дух, кто вслух чрез пророков гласил,
Благ источник, хвалят кого, с сонмом духов, отроки церкви,
Наши души, в свете зари, осияй твоим мысленным светом.
Свет, кому и названия нет, един, троичен, не разделим.
Святая троица, хвалим кого, с сонмом духов, мы, гласы земные,
Наши души, в свете зари, осияй твоим мысленным светом.
204
107. ПЛАЧ ОБ ЭДЕССЕ
Отрывки
Нерсес оставил песню слёз,
Армении католикос,
Где вещи сами говорят
Размерно на Гомеров лад,
Придав стихам печальный склад,
Об том, как пал Эдессы град.
То было писано в пятьсот
И девяносто третий год,
В день двадцать третий, в декабре,
В субботу, в час третий по заре.
Тогда пошли грозой войны
Агари на меня сыны.
Сначала зло умерщвлены
Ряды детей моей страны,
И грады вслед истреблены,
Как ряд зубцов одной стены,
Разрушены и сожжены,
В развалины обращены.
Но это всё не в год один,
А в сорок с лишним лет войны.
Я пала с прежней вышины,
И были силы сломлены.
Злодеями со стороны
Владенья были пленены;
Мне все мученья без вины,
Все беды были суждены;
Хоть были дни мои больны,
Лекарства не были даны...
Пришла я к краю крутизны,
Где двери в ад растворены.
Был истощен запас съестной;
Подвоз отрезан — за чертой;
Мы голод лютый и слепой
Со всякой ведали нуждой.
И ныне рвется голос мой,
И сердце сдавлено тугой,
И грудь вздымается волной,
205
И мысль томится слепотой,
Чуть вспомню день тот роковой
С его зловещею зарей,
Когда не вспыхнул свет дневной,
Но было всё покрыто тьмой.
Содомский факел огневой
Взлетел до неба полосой;
Не дождь из тучи грозовой
Упал, но — каменный прибой.
И нашей крепости устой
Распался, словно пень гнилой,
От самой кручи основной,
Открылся вход — орде чужой.
Но взвод остался удалой,
На шаг не отступив ногой,
Друг друга убеждали все:
Быть твердыми перед враждой,
Держаться дружеской четой
И над разрушенной плитой
Бороться с силою двойной,
Презрев врага клинок кривой!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Их вождь, вместилище грехов,
Воззвал к своим, дик и суров:
Обрек мечу и грабежу
И плену всех моих сынов.
Арабы, после этих слов,
И всяких варвары родов,
Подобно своре диких псов,
Накинулись со всех концов,
Составя цепи из рядов,
Одни вослед другим на зов,
Под труб и барабанов рев,
Подобный грому с облаков.
Дрожал простор от голосов,
Всё потрясавших до основ,
Сердца сжимались у трусов,
Росла отвага храбрецов:
Тот был на смерть лететь готов,
Тот в страхе умереть готов.
Но было мало удальцов,
Чтоб защищать валы и ров.
206
Они устали от трудов,
Бессонных, тягостных часов,
Прошедших пред лицом врагов
За месяц роковых боев.
И вот какой-то из углов
Предстал неверным без бойцов.
И враг, вскарабкавшись, проник
Внутрь башни, близ домов жилых.
Толпа, узрев в стенах своих
Врагов (хоть мало было их),
Подъемля безнадежный крик,
Бежит вдоль улиц городских...
Что видели в веках иных
Прискорбней зрелищ таковых?
Орда неверных, диких, злых,
Свирепствует меж толп людских;
Ударами мечей стальных
Всех рубит — старых, молодых.
Бойцы от валов земляных
Бегут в смятеньи напрямик
К развалинам ворот былых.
Но стая тех зверей лесных
Пронзает их клинками вмиг:
Овец так волки луговых
Преследуют в полях нагих,
Из множества ловя любых,
Топя их в токах кровяных.
Смерть грудей не коснулась чьих?
Губили и детей грудных,
И старцев, хилых и больных.
Что им ребенка нежный лик?
Что им священник-духовник?
Что даже патриарх-старик? —
Всё гибло от врагов лихих;
Кровь капала с волос седых;
Служители церквей родных,
Что кровь лишь в таинствах святых
Знавали, — кровью жил своих
Святили кровь людей простых.
Тиран, неукротим и дик,
Убийства радости постиг:
207
Так лев в лесах пускает рык
Иль в труп медведь вонзает клык.
Меж тех событий гробовых,
Для коих нет и слов земных,
Как выразит поэта стих
Весь ужас бедствий роковых?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...Но и к тебе взываю я,
Сестра восточная, Ани!
Прошу — к страданью моему
Свой голос присоедини!
И ты невестою была
И знала солнечные дни,
Всегда желанной ты была
Для близких, дальних — все они
К тебе тянулись... Царский дом
Властительных Багратуни
(Чей предок мудрый царь Давид, —
Его в молитвах помяни!)
Благоустроил твой удел.
О ты, прекрасная Ани,
Чье имя — словно звук струны,
Твои сыны — богатыри,
Светлы, отважны и сильны,
А дочери — живой цветник,
Поют, прелестны и стройны,
А достославные цари
Сидят на тронах золотых,
И воины проводят дни,
Всечасно охраняя их, —
Ты дщерей скорбных собери,
Моей бедой их стан согни;
Пускай рыдают обо мне:
Им в души горе зарони...
Чем в сердце жженье охладить?
Слезами! Лишь они одни
Помогут перенесть беду!
Но слезы многих сот людей —
Лекарства малый золотник!
208
К такому — мир давно привык.
Всё, что не выйдет из границ,
Не облегчит тоски моей!
Нет! Господи! Лицом ко мне
Все страны света поверни!
Везде, где только люди есть —
Юг, Север, Запад и Восток, —
Всех к состраданию склони,
Всех, кто услышит голос мой,
Рыданья над моей землей;
Пусть горе вместе соберет
Всех стран бесчисленный народ:
Отцов, младенцев, жен, мужей,
Невест и светлых женихов,
Подростков, отроков, детей,
Военачальников, царей,
И всех солдат, и всех князей,
И всех смиренных чернецов,
И клириков, святых отцов,
И патриархов всех церквей,
И тех, кто в пустыни своей
Бесплотен во плоти... Всех их,
А также сонмы дев святых,
Что божьим ангелам сродни,
И вардапетов пожилых,
Чья мудрость всяких слав славней,
И псалмопевцев молодых —
Оплачьте гибель сыновей,
Могучих сыновей моих!
Эдесса, в горе я жива,
Детей лишенная вдова.
Пусть прозвучит в ушах у вас
Мой скорбный глас, мой женский глас.
Я кисею свою сняла,
Рву покрывало на куски,
Я в скорби волосы рвала,
О камни билась от тоски,
Скорблю о бедствии своем,
Скорбит со мной мой темный дом.
Пурпурных одеяний нет:
Сменил их горя черный цвет!
И слезы по моей щеке
209
Текут, подобные реке.
Смотри, весь мир! Моя страна
Судьбе позорной предана!
Я над иссохшим родником,
Что бил когда-то молоком...
Где все цветы? Где все плоды?
Их нет, и нет живой воды.
О, горе мне, о, горе мне,
Богатой некогда стране.
О, где вы — цветники мои
И говорливые ручьи?
(Любой из них меня поил,
Смывая в море грязный ил!)
Зеленой я была землей,
Сравнится ли Эдем со мной?
С моею нежною листвой?
Мой ветер над полями роз
Бессмертья ароматы нес,
И пробуждал повсюду он
Зеленошумный голос крон!
О, я была погожим днем
Царицей в платье золотом,
И рощи темною каймой,
Листвы тяжелой бахромой
Его украсили кругом.
И стены, споря с высотой,
Вздымали башни над собой.
О, я в величии своем
Небес касалась головой.
Срослись навек с моей землей
Подвалы храмов и домов,
Торговых улиц и рядов,
Узорных каменных дворцов...
О, как бледна ты, речь людей:
Великолепие церквей
Нет силы выразить в словах
Земных — ведь человек есть прах.
Пускай тысячекратно он
Умом великим одарен,
Не может он в своей тщете
Хвалу небесной красоте
210
Воздать! Столиц подобных нет!
Таких, как я, не видел свет!
Так пребывала в славе я,
В великой радости своей...
О, где ты, вся моя семья,
Десятки тысяч сыновей,
Десятки тысяч дочерей?
Вы танцевали предо мной;
Вы — розы, что цвели весной,
Вы — щедрой яблони плоды,
Вы — виноградник мой густой,
Вы — саженцы моей лозы,
Мой сладкий сад, сад золотой!
И семь десятков городов
Взрастила я у стен своих,
Царицей восседала я,
Торжественная, среди них.
По всей земле, в любой стране
Живут легенды обо мне!
Но вот вишап, насильник злой,
Бесстыдный, ядовитый враг,
Приполз неслышною змеей,
Чтобы пронзить меня стрелой.
Коварство в мыслях затая,
Как барс, в песках скрывался он
И, выждав, чтоб уснула я,
Напал! О, проклят будь, дракон!
Он знал: богатыри мои
Так далеко... И он тогда
В кровопролитные бои
Повел войска... Беда... беда...
Осадой мучил он меня.
О, сколько боли и огня!
И всё же враг не одолел
Ничтожной горстки храбрецов.
Он стал кротом, он землю ел,
Призвал умельцев, хитрецов;
Он стал кротом, он землю рыл
Под неприступною стеной,
Тараном стену он долбил —
211
И пламя справилось со мной...
Вишап кричал из-за стены:
«Сдавайтесь, вы обречены!
Упорство не поможет вам!
Кто сдастся — тем свободу дам!»
И собрался совет мужей
В могучей крепости моей,
И поклялись, что все умрут,
Но даже камня не сдадут!
Один ответ на вражью речь:
На пламя — пламя, меч на меч.
Ворот врагам не отворять,
Речам коварным не внимать.
И верными судьбе своей
Быть как Вардан, как Маккавей.
От башни к башне клич летел:
«Брат, не страшись! Будь горд и смел!
Не попирай священных уз,
Но имя доброе храни
И кровный братский наш союз,
Чтоб многие года и дни
Вся слава подвигов твоих
Жила среди племен земных!»
212
ОВАНЕС ЕРЗНКАЦИ ПЛУЗ
(ок. 1230—1293)
108
Наш мир подобен колесу: то вверх, то вниз влечет судьба;
Верх падает, и вновь ему взнестись настанет череда.
Так плотник мастерит равно и колыбели и гроба:
Приходит сей, уходит тот, а он работает всегда.
109
Язык для речи служит нам, речь праведных — что злата звон.
Бог людям дал один язык, язык у змия — раздвоен.
И у кого два языка, один колюч, другой — червлен,
Становится сродни змее и всеми ненавидим он.
110
Подобен морю мир: сухим остаться, переплыв, — нельзя.
Как выплыл мой челнок в простор, того и не заметил я.
Вот я почти у берегов, но страшно мне подводных скал,
Чтоб вдребезги мою ладью один удар не разломал.
Но господу я помолюсь — да ветр попутный он пошлет,
Осветит мглу и утлый челн в благую гавань приведет.
213
111
Я, все грехи свои собрав, оплакал зло прошедших лет.
Шел к небу караван, и я, сложив грехи, пошел вослед.
Но ангел мой, представ, сказал: «Куда идешь ты, дай ответ!
В раю для тех, кто предстает с подобным грузом, — места нет!»
112
О безрассудный человек, проснись, опомнись же скорей!
Ты душу вольную отверг и, низкий раб своих страстей,
Пируешь за столом греха, смешав часы ночей и дней,
Глотаешь всё, что б ни нашел, жир набирая для червей.
113. ОВАНЕС И АША
Что такое со мной случилось,
Что за тьма надо мной сгустилась?
Был я сталью, сталь искрошилась.
Был скалой, скала обвалилась.
Грудь колыша, стан изгибая,
Шла красавица молодая.
Повстречала меня — обернулась,
Увидала меня, встрепенулась.
Я с субботы на воскресенье
Шел из верхнего храма в селенье,
Нес кадило с пахучим ладаном,
Ты меня ослепила негаданно.
Шел, шептал я псалом Давидов,
Задрожал я, тебя увидев.
Чуть заметно ты двинула бровью,
Я — осекся на полуслове.
Я увидел тебя — отвернулся,
Но ты бросила яблоко спелое.
214
Я рванулся к нему, нагнулся,
Поднял яблоко красно-белое.
Я живу по Христову завету,
Мусульманин родитель твой.
Что же значит яблоко это,
Наземь брошенное тобой?
Ты сказала мне: «Семя гяура,
Не смотри на меня так хмуро!
Ничего, что отец твой священник,
Мой отец — мулла и кади.
Всё забудем мы во мгновенье,
Лишь прижмешь ты меня к груди».
Молит господа мать Ованеса —
Пусть изгонят из сына беса.
Жжет она восковые свечи,
Шепчет в церкви такие речи:
«Пойте, дьяконы, «Бог, помилуй!» —
Может, сын опомнится милый.
Возгласите, отцы, «Аллилуйю» —
Жизнь спасите его молодую!
Он не знает божьего страха,
Повторяет лишь имя аллаха,
В прегрешеньях своих не кается.
«Нет спасенья мне!» — убивается!
Отступись, мой сыночек, сдайся,
Повинись, помолись, покайся!
Проповедник во храме божьем
Грех клянет твой, простить не может!»
— «Мать моя, я, твой сын и наследник,
Говорю, что неправ проповедник.
Если раз на Ашу он глянет —
Сам, как я, он безумным станет».
— «Отступись, мой сыночек, сдайся,
Помолись, повинись, покайся!
215
Слышишь, мать твоя плачет, старуха.
Неужель твое сердце глухо?»
— «Мать моя, я твой раб до могилы,
Ты вскормила меня, взрастила,
Но не жди, чтоб я отступился,
От любви мой ум помутился!»
— «Отступись, мой сыночек, сдайся,
Помолись, повинись, покайся!
Для тебя, любимого сына,
Присмотрю я дочь армянина.
Отступись, мой сыночек, сдайся,
Помолись, повинись, покайся!
Для тебя невеста найдется,
Что над верой твоей не смеется!»
— «Примирись ты, о мать дорогая,
Не гневись ты, меня ругая.
Тонок стан у Аши невинной,
Звонок голос ее соловьиный».
...А Аша пред отцом стояла,
Слезы горькие утирала.
Бил ее и корил кади:
С армянином, мол, не ходи!
...Ованес нашел ее вскоре.
«Ты, Аша, облегчи мое горе!
Я, стеная, в горах блуждаю,
Как свеча восковая таю».
Говорит Аша:
«Всё на свете
Я отдам, но чтоб быть с тобой.
Ты три раза вокруг мечети,
Взяв кольцо, обойди с муллой.
Примешь веру моих собратьев,
Станешь ханом в моих объятьях!»
— «Нет, Аша, хоть в твоей я власти,
Нам не будет с тобою счастья.
216
Я, исполнив твое пожеланье,
Обреку и тебя на страданье!
Лучше ты от своих законов
Отступись, Аша, а потом
Восемь выучи наших канонов
И псалмы в писаньи святом —
То, что, грешный, я сам позабыл
В час, когда тебя полюбил!»
— «Ростом малый, умом великий,
Будь моим, Ованес, владыкой.
Поведи меня, молодую,
В день пресветлый в церковь святую!
Я, твоей подчинившись вере,
Не разувшись, открою двери,
И священник во храме божьем
Пусть венец на меня возложит!»
217
КОСТАНДИН ЕРЗНКАЦИ
(ок. 1250 — начало XIV века)
114. ВЕСНА
Веселье вкруг нас и веселье вдали,
Нам ветры веселую песнь принесли.
Великая благость господня, — внемли! —
Сегодня исходит с небес до земли.
Лежала земля, и мрачна и темна,
Покрытая льдами, тверда, холодна,
Про травы, про зелень забыла она,
И снова сегодня она зелена!
Зима была темным вертепом тюрьмы,
Но снова вернулась весна на холмы
И всех нас выводит на волю из тьмы!
Вновь солнце на небе увидели мы!
Земля, словно мать, велика добротой,
Рождает все вещи, одну за другой,
И кормит и поит, питает собой....
Вот вновь она блещет своей красотой.
Дохнул ветерком запевающим Юг,
Из мира исчезли все горести вдруг,
Нет места, где мог бы гнездиться недуг,
И всё переполнено счастьем вокруг.
Тихонько гремя над землей свысока,
Под сводом лазурным плывут облака —
218
И падает вдруг водяная река,
Луга затопив, широка, глубока.
Мир весело праздновать свадьбу готов:
Веселье во всем для плодовых дерев,
Цветами всех красок и разных родов
Раскрашены дали полей и лугов.
На море влюбленном — опененный вал,
И гад между волн, веселясь, заплясал;
Ключи, зазвенев, побежали из скал,
И быстрый поток по камням засверкал.
А реки, сбегая с возвышенных гор,
Гудят как могучий, торжественный хор;
Прорезав долины цветущий ковер,
Стремятся в морской, им любезный, простор.
Спускаются телки и козы к ручьям,
Играют и скачут по свежим цветам;
И звери, что крылись зимой по лесам,
Сбегаются, рады свободным полям.
Слетаются птицы, поют над гнездом:
Вот ласточка нежно щебечет псалом,
Вот — луга певец, улетевший тайком,
Приветствует день в далеке голубом.
Зверям и скотам так приятно играть,
И множиться в мире, и мир наполнять;
Сзывает птенцов легкокрылая мать,
Их учит на крыльях некрепких летать.
И также цветы образуют гряду
В больших цветниках и в плодовом саду;
Другие вошли покачаться в пруду,
И облик их бледный похож на звезду.
Но вот наконец прилетел соловей,
Чтоб петь возрождение в песне своей;
Он строит шатер из зеленых ветвей,
Чтоб алая роза зажглась поскорей!
219
115. ПЕСНЯ ЧИСТОЙ ВЕСНЫ
Опять сверкает солнце в небе,
Горят цветы в садах земных,
И всюду слышен птичий щебет,
Песнь соловьев и птиц иных.
Опять цветы вдали на взгорьях
Пестреют, как всегда весной,
И рыбы устремились к морю
В раскованной воде речной.
Природа суть свою раскрыла,
Не утаив от нас щедрот,
И, опьяненный розой милой,
Влюбленный соловей поет:
«Ты свет мой ясный в мире сером,
На свете белом ты одна.
Юпитер мой, моя Венера,
Ты солнце в небе и луна.
Не отвратишь ты увяданья,
Как я осенний свой отлет,
Но мысль о нашем расставаньи
Теснит в груди моей дыханье
И мне покоя не дает.
Ты рдеешь ярче всех рубинов,
Ты благороднее, чем лал,
Ты — сказочнее Чинмачина,
Я свой рассудок потерял!»
...Друзья, скорей друзей зовите,
Пусть все откликнутся на зов.
В сады весенние идите,
Шатры постройте из цветов.
Сойдитесь поскорее, други,
Ликуя, что пришла весна.
Друг другу протяните руки,
Налейте сладкого вина.
220
Нарцисс — цветок пестроцветущий,
Лилея, гиацинт, рейхан
Красуются в зеленой пуще,
И воздух их дыханьем пьян.
И маки алые пылают,
И ликованью нет конца,
И птицы звонко восхваляют
Благословенного творца.
116. ПЕСНЯ ЧИСТОЙ ЛЮБВИ
Будь благословен твой лик сияющий,
Жизнь мою от счастья отдаляющий.
Ты — весенний ветер, я — миндаль.
Дует ветер твой не для меня ль?
Из того, к чему я здесь привык,
С чем сравню твой несравненный лик?
Ты — звезда, что светит моему
Сердцу, погруженному во тьму!
Ты идешь — прислужники вокруг.
Мне бы тоже стать одним из слуг.
Я готов служить, лишь призови,
Знак подай мне, пленнику любви.
Если б только чудо совершилось,
Если б я твою увидел милость,
Я бы распластался, жалкий раб,
Чтоб меня ты попирать могла б.
Говорят, любовь к тебе — темница,
Где немало юношей томится,
Где находят всё же добрый знак
Люди, погруженные во мрак.
Тот, кого не сжег твой взор небесный,
Для тебя что камень бессловесный.
Кто тобой пленен — тот человек.
Страшен плен, но кто его избег?
221
Ты — цветок, чьи лепестки горят,
Я вдали вдыхаю аромат.
Но шипы между тобой и мной:
Не сорвать мне розы неземной.
Я прошу, царица, об одном —
О свободе быть твоим рабом.
Говорю: возьми к себе в рабы.
Для меня счастливей нет судьбы.
Костандин — я раб смиренный твой.
Взгляд ловлю я несравненный твой.
Что же по примеру всех владык
От раба ты отвращаешь лик?
117. Я — ТВОЙ ПЛЕННИК, СЖАЛЬСЯ НАДО МНОЙ
Отрывки
Ты — мой свет, ты словно солнце светишь,
Лучшее, что суще под луной,
Не беги, едва меня заметишь,
Я — твой пленник, сжалься надо мной.
Если ж ты меня не замечаешь,
О душа души моей больной,
Свет моих очей ты отнимаешь,
Я — твой пленник, сжалься надо мной.
Всех ты словом одарить готова,
А меня твое сжигает слово,
Ты не отвергай меня сурово,
Я — твой пленник, сжалься надо мной!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я покоя навсегда лишился,
От любви мой разум помутился.
Хочешь ли, чтоб с жизнью я простился?
Я — твой пленник, сжалься надо мной.
Нет звезды на нашем небе лучшей,
Почему ж ты прячешься за тучей,
222
От меня скрываешь свет свой жгучий?
Я — твой пленник, сжалься надо мной.
Роза в пору своего цветенья,
Ты — моя любовь, мое мученье.
Скрыть не могут люди восхищенья,
Если видят лик твой неземной!
Как два лука, брови вдруг натянешь,
Стрелы выпустишь, мне сердце ранишь.
И не то что исцелишь — не глянешь
И пройдешь спокойно, стороной.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нет мне от любви моей спасенья,
Ты — мое лекарство и леченье.
Приоткрой лицо хоть на мгновенье,
Встань во всей красе передо мной.
Ночью я не сплю, лежу и плачу,
Днем бреду куда-то наудачу.
Без тебя я ничего не значу,
Ты моя душа, мой свет дневной.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Если ты лишишь меня надежды,
В клочья разорву свои одежды.
Если я навек закрою вежды —
Будешь ты одна тому виной.
Я — пловец, плыву в открытом море,
Не доплыть, иссякнут силы вскоре.
Услыхать мой стон из бездны горя
И спасти дано тебе одной.
Но спасти, помочь ты мне не хочешь,
Ты проходишь, опускаешь очи.
Ты со мной черства, стыдлива очень.
Я — твой пленник, сжалься надо мной.
Ты мой свет, ты ярче солнца светишь.
Почему ж меня ты не приветишь,
Прочь идешь, едва меня заметишь.
Я — твой пленник, сжалься надо мной.
223
118. ПЕСНЯ ЛЮБВИ
Такой прекрасной, несравненной
Никто не видел под луной.
Твой образ дивный, незабвенный
Повсюду следует за мной.
Тебя ищу я наудачу,
Я муку прячу, но не спрячу,
Кровавыми слезами плачу
И днем и в тишине ночной.
Твои шаги, твое дыханье
Порой приносят мне страданья.
От твоего благоуханья
Я стал безумный и хмельной.
Ты красотой меня пленила,
Как полуночное светило.
Ты путь мой светом озарила,
То свет — я знаю — неземной!
Любовь моя — как наважденье,
Мое проклятье и спасенье.
Ты — храм мой светлый, и моленья
Я возношу тебе одной!
На шее жемчуга и лалы,
Шелка твоей одежды алы,
Как с пламенным вином фиалы,
Как розы в цветнике весной.
Что б ни надела — ты прекрасна,
Весь мир ты озаряешь властно.
Подобную тебе напрасно
Искать в любой стране иной.
Я чахну от любви и боли,
И я молю тебя, как молит
О благодатной влаге поле,
Которое сжигает зной!
224
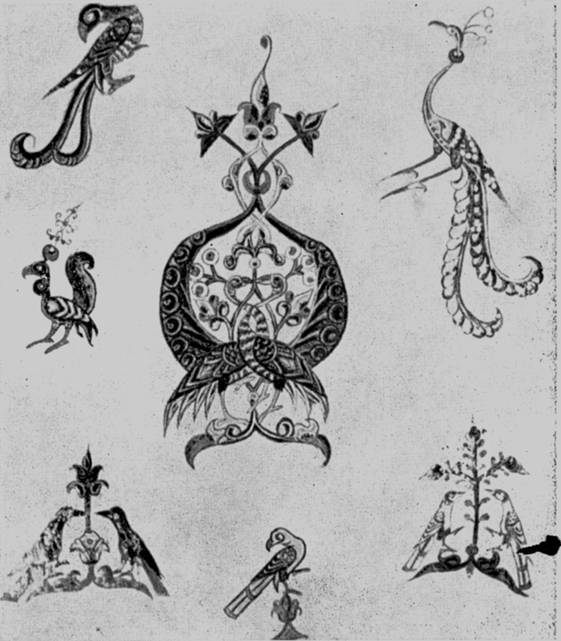
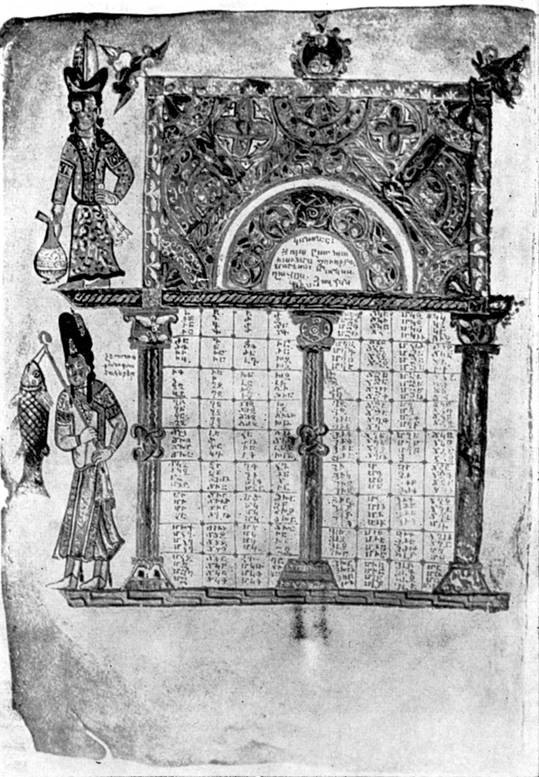
Тебя вокруг ищу я взглядом
И если знаю: ты не рядом —
Мир кажется мне сущим адом,
И ты одна тому виной!
Но если я тебя замечу,
Я сердце болью изувечу,
Я саз возьму, пойду навстречу, —
Я стать хочу твоим слугой.
Под этим небом необъятным
Подъемлю чашу с ароматным
Вином хмельным и благодатным,
Подобным лишь тебе одной!
119. ИНЫЕ ЗЛОСЛОВЯТ ОБО МНЕ
Иные злословят обо мне из зависти: мол, каким образом я могу говорить такие слова, когда я не учился у мастера; но одно дело учиться, другое дело — дар духа. Я расскажу вам об одном удивительном видении, которое приснилось мне, когда я пятнадцатилетним юношей находился в монастыре и когда я увидел человека в солнечном одеянии, источающего свет.
Иные зависти полны и злого мне хотят
За то, что я пишу стихи, а в них — родник услад.
Твердят: «Как это он речам дает столь нежный лад,
Что между нас ему никто не равен, не собрат?»
У них рассудок омрачен и слеп духовный взгляд,
Они не ведают, отколь мой дар во мне зачат.
Я только глиняный сосуд, а в нем бесценный клад
От бога вещею душой, как манна, восприят.
Кто посягнет на этот клад как дерзкий супостат,
Тот против бога восстает, пред богом виноват;
А кто захочет мне внимать и вникнуть будет рад, —
Тому поведаю про то, как дух мой стал богат.
225
В монастыре, в пятнадцать лет, еще годами млад,
Я был однажды в ночь, во сне, виденьем чудным взят:
Пресветлый юноша сидел, как царь, среди палат;
Как солнце был прекрасен он, и свет — его наряд.
Пред дивной славою его я страхом был объят,
Не мог спросить: «Господь, кто ты?» — уста не говорят.
Я пал пред ним, едва успев к нему возвысить взгляд,
И, лежа ниц, спросил его, до трех спросил я крат.
Я молвил: «Грешен я, ты, царь, прости меня, ты свят».
Я молвил: «Болен духом я, — уста твои целят».
Я молвил: «Беден я, язык безмолвием заклят,
Дай мне от дара твоего, насыть духовный глад».
Он сердцем милостивым внял все три мольбы подряд,
Сошел с престола, подошел, ступил одной из пят,
Попрал меня, прошел по мне и повернул назад.
Я встал, ликуя, награжден сладчайшей из наград.
Я молвил: «Я узрел тебя, я был у райских врат,
И если грешника лучи святые осенят —
Я позабуду эту жизнь, где суета и смрад,
За то, что принял ты меня, последнее из чад».
И голос прозвучал в ответ, как сладостный раскат:
«Иди». И вздрогнул я, и сон раздрался, словно плат.
Я встал и, препоясав стан, творил молитв обряд,
Прося, чтобы святого сна мне был сужден возврат.
И много дней, молясь в слезах, я ждал, что буду внят,
Что снова светлые лучи мне очи озарят;
И ночью я не мог уснуть, и днем не знал отрад;
Никто не ведал, что за сны безумного томят.
Но то, что значил этот сон, мне было невдогад,
Его не понял я, затем что был летами млад;
И только позже, став мудрей и знаньями богат,
Постиг я таинства его и что они гласят.
226
И вдруг я начал говорить, я стал витиеват;
И самого меня дивил речей искусный склад;
Меня надежда и любовь влекли в их дивный сад,
И я в обмен на душу их свою вручил в заклад.
Как манна с горной высоты, слова во мне лежат,
Затем что видел я его сидящим средь палат;
И с той поры, как этот дар моей душой прият,
Мой дух и плоть моя во всем закон его творят.
Мой дух ликует, перед ним отныне нет преград,
Я пью без губ того вина сладчайший аромат;
Я этой страстью опьянен, мечты к нему летят,
И мне не надобно людей, не страшен злобный брат.
Я в этом мире — как глупец, мечты — мой сладкий яд;
Иной толкует — «он мудрец», иной — «он бесноват».
Иные злятся на меня, и зубы их скрипят,
А есть такие — и пускай, — что точат свой булат.
120. БОРЬБА ПЛОТИ И ДУХА
Ты Костандину свой завет с духовных дал высот;
Как будто понял я; теперь отвечу в свой черед:
Твой суд суровый на меня еще да не падет,
Я слаб, не мог бы я снести столь тяжкой ноши гнет.
Мой дух ученья мудрецов, как истину, блюдет,
Но телом я в плотском плену, оно земным живет;
Меж двух огней моя свеча, и тот и этот жжет;
Опоры мыслям нет моим, они идут вразброд.
Меня всех четырех стихий стремит круговорот:
Огонь меня возносит ввысь, земля к себе влечет,
То угасает пламень мой под влажной пылью вод,
То ветра мощного струя его опять взметет.
Две воли властвуют во мне, я раб у двух господ,
Не остается невредим, кто пламя обоймет.
227
Скажи, кто по морским волнам стопами перейдет
И чья могучая рука задержит ветра ход?
И в назидание себе я молвлю наперед,
Затем что всех моих грехов я знаю полный счет:
Как с братом, говорить с тобой мне, слабому, нейдет,
Мне лучше в прах упасть лицом, чтобы топтал народ.
Я много пролил жарких слез, и много слышал тот,
Кто с нежной лаской врачевал недуг моих забот,
Затем что много от людей я выстрадал невзгод,
И в ранах сердце у меня, и боль мне душу жжет.
Я валом окружил себя, был грозен мой оплот,
И на меня восстал весь мир и двинулся в поход;
Вот безоружен я и наг средь бранных непогод,
Со всех сторон меня разит незримых стрел полет.
Иные говорят: «Глупец и мрачный сумасброд».
Другие вторят им: «Тот прав, кто кровь его прольет».
А я отвечу: «Костандин, пускай шумит народ;
Не верь другим и не ищи в отчаяньи исход».
121. СЛОВО НА ЧАС ПЕЧАЛИ, НАПИСАННОЕ О БРАТЬЯХ, ОБИДЕВШИХ МЕНЯ
О доколь, сердцем скорбя, тяжко вздыхать наедине
И всегда, день ото дня, грусть и печаль ведать одне!
Незнаком душе покой, и не придет радость ко мне,
Чтоб хоть миг вкусил я мир и отдохнуть мог в тишине.
Как волна, бурно несусь, отдыха нет темной волне,
Не доплыть до берегов, и нет пути к тихой стране.
Нет друзей, любимой нет, опоры нет внутри и вне.
Кто поймет, сколько скорбей в каждом моем прожитом дне!
Для меня близкого нет, среди чужих и в моей родне,
Кто бы мог меня обнять и пожалеть мог обо мне.
228
Тот, кто был дорог душе, прочь отошел, стал в стороне.
Как винить мысли чужих, если нам боль несут оне?
Где найду мудрый совет, совет любви, ценный вдвойне, —
Почему весь мир со мной в злобной вражде, как на войне?
Тот, кому, дух мой раскрыв, я всё дарю, что в нем на дне,
Тот всегда, как лицемер, ласков со мной только извне.
О доколь, сердце мое, будешь пылать в знойном огне
И терпеть лживую жизнь у ней в плену, как в западне!
Пробудись, забудь мечты; эти мечты снятся во сне,
Соверши волю души, полно хмелеть в пьяном вине.
Костандин, внемли совет, с правдой его чти наравне:
От сует земных душу замкни в твердой броне.
Эта жизнь многих влекла, многие с ней слились вполне;
Все они, словно свинец канув на дно, спят в глубине.
229
ФРИК
(ХIII — начало XIV века)
122. СЕРДЦЕ МОЕ, ОТЧЕГО ТЫ ЗАБИЛОСЬ?
Сердце мое, отчего ты забилось?
Быстрая мысль, ты куда устремилась?
Что ты, слеза, по щеке покатилась?
Память, а ты почему замутилась?
Много грешил, суесловил я много,
Я отдалился от господа бога.
Ныне меня посетила тревога,
Ангел святой поманил меня строго.
Всё, что святыней считал я когда-то,
Нищему духом, давно уж не свято.
Сделал замки и воздвиг я палаты,
Скрыл в сундуки я каменья и злато.
Грешник с посыпанной пеплом главою,
Что ты дрожишь над несметной казною?
И богачи, поглощенные тьмою,
Много ли взяли из мира с собою?..
123. ЦВЕТОК ЛЮБВИ
Цветок любви чудесный этот
Растет не в дальней стороне,
Он зацветает вешним цветом
Внутри людей, а не вовне.
230
Он любящим приносит благо,
Он указует им пути.
Исполнись львиною отвагой
И тот цветок в себе взрасти!
Ты силам темным на потребу
Не пребывай в греховном сне.
Но, устремляя очи к небу,
Покайся, Фрик, в своей вине.
Страшись страстей, что правят нами,
Помысли о грядущем дне
И плачь кровавыми слезами,
Чтоб в вечном не гореть огне.
124. К БОГАТЫМ
Вином грешите, ложью
В кругу распутных жен.
Вам слаще слова божья
Греховных песен звон.
Но близится расплата:
Суд страшный, трубный глас,
Прислужники разврата,
Что ожидает вас!
На нищих вы кричите
И гоните их вон,
Вы бедняка браните
За то, что беден он.
Но бог поднимет руку
И спросит в судный час:
«Чтоб облегчить мне муку,
Кто пострадал из вас?
Как Лазарь, я в бессильи
Лежал у ваших врат,
Но вы пройти спешили
И отводили взгляд».
231
Дарили вы презренье
Всем тем, кто обделен,
Но в огненной геенне
Конец ваш предрешен.
На муку вас осудят
За пурпур, за виссон.
Последний нищий будет
Скорей, чем вы, спасен!
В роскошестве излишнем
Забыли вы закон:
Кто яму роет ближним,
В ней будет погребен.
Пред Матерью Пречистой
Покайтесь до конца,
Своей молитвой истой
Смягчите гнев творца.
Заступница поможет
И сына в судный час
Умилостивить может,
Чтоб вас простил и спас.
Молите всеблагого,
Чтоб отпустил вину.
Мое услышьте слово —
Нельзя вверяться сну!
Покайтесь же в моленьи
И смойте поскорей
Слезами искупленья
Грехи души своей.
Чтоб сыновьями ада
Вам, богачам, не быть,
Раскаяться вам надо
И господа молить.
Чтоб пищею дракона
По смерти вам не стать,
232
Господнего закона
Примите благодать.
Из вас постигнет каждый,
Что в мире всё тщета,
Переступив однажды
Последние врата.
Зачем же о богатых
Ты так печешься, Фрик?
Ведь нищий сам, ты златом
Не полнишь свой тайник.
Нет у тебя ни крова,
Ни тех, кого любил.
Богатства никакого
Ты здесь не накопил.
Ты прожил век — и ныне,
Как прежде, бос и гол.
Ты этот мир покинешь
Таким же, как пришел.
И всё ж, когда голодным
Руки ты не простер,
Ты древом был бесплодным,
Пригодным лишь в костер.
Что черно здесь, что бело,
Постичь лишь ныне смог,
Когда расстаться с телом
Душе приходит срок.
Отвергни, Фрик, беспечность
Земного бытия,
Обресть старайся вечность —
Там родина твоя.
При жизни совершайте
Лишь добрые дела.
Вовек не пожелайте
Себе подобным зла.
233
Наградою двоякой
Добро нам воздает.
В извечном мире — благо.
Здесь — славу и почет.
Духовный слух добавьте
К земному, чтобы внять
Великой божьей правде,
Чтоб господа познать.
Сей мир — не достоянье.
Я сам себя пытал:
«Достойные деянья
Ты часто ль совершал?»
Здесь помощи просите
Лишь у небесных сил,
Чтоб сжалился спаситель
И нам грехи простил.
И ныне покаяньем
Свой просветлите взор
И добрые деянья
Творите с этих пор.
Вас одарить мне нечем,
Но каждый, кто умен,
Моей да внемлет речи
И будет просветлен.
А люди, у которых
Пустая голова,
Пусть почитают вздором
Разумные слова.
125. КОЛЕСО СУДЬБЫ
Гей ты, судьба! Нам изменив, ты нас свергаешь с высоты;
Ты останавливаешь вмиг коловращенье суеты.
От века зыблющийся мир на склоне скользком держишь ты,
Подставив меру зла, твердишь: «Сыпь все заботы и мечты!»
235
Ах, колесо! Злодея ты лелеешь в доме золотом,
А честный должен подбирать объедки за чужим столом.
Ты в рыцари выводишь тех, кому б сидеть в хлеву свином,
Без заступа ты роешь ров и рушишь праведника дом.
Скажи: «Ты не права, судьба!» — и смех услышишь без конца.
За что ученых гонишь ты, а любишь злого иль глупца?
Из них ты делаешь вельмож, их ты доводишь до венца
И шлешь по горам и полям бродить за хлебом мудреца.
Теперь еще труднее нам, когда татарин сел на трон,
Всех обделил он, и воров поставил господами он.
Но ты ни с кем ведь не родня: вновь повернется ось времен,
Ударишь ты, и нет царя, исчезнет он, как утром сон.
Как верить, колесо, тебе, ведь ты не любишь никого!
Нет правды у тебя, нет клятв, нет совести, нет ничего!
Сегодня возведешь на трон, а завтра сокрушишь его,
Повергнешь в пепл и в прах, лишишь — честей, короны и всего.
Лишь, исподлобия взглянув, судьба хребет свой повернет —
Что тут бумага, что перо иль даже всадников сто сот!
Все терпят: от пинков судьбы и царь спины не сбережет.
Не сдержишь — стрелами тебя, и полетишь на дно высот!
Судья неправедный! Зачем ты правый презираешь суд?
Ты с правым во вражде всегда, а твой любимец — вор иль плут.
Ошибки чаще ты творишь, судьба, чем на земле весь люд;
Ты землю, море, небо — всё заворожаешь в пять минут.
Невежда пред тобой велик, а мудрый головой поник,
И что кругом ты неправа, какой не вымолвит язык!
Но, слышу, мне судьба в ответ: «Не лай, как пес, пустой старик,
С тех пор как я — судьба, никто еще не лгал, как этот Фрик!»
235
— «Моя судьба, меня ты бьешь, ты — мой неправедный судья,
Но вспомни, что от бога всё и власть — его, а не моя!»
Судьба еще: «Величит бог как бедняка, так и царя,
Хоть я — судьба, но вот тебе дать ничего не вправе я!
Бог повелит — ты будешь царь, я посажу тебя в чертог;
Бог не велит — и будешь ты скитаться нищим вдоль дорог».
— «Судьба, я замолкаю: всё — прекрасно, что дозволил бог;
Но, нашим по грехам, порой — армянский к нам создатель строг».
126. ЖАЛОБЫ
Бог истинный, бог милосердный,
К тебе взываю, раб твой верный,
С тобой вступить дерзаю в спор
Я, твой слуга нелицемерный.
На сей земле, что многолюдна,
Твое любое дело чудно.
Но многие из дел твоих,
Немудрому, постичь мне трудно.
О господи, твои творенья —
Адам и Ева в райской сени
Вкушали мир, и был язык
Един до их грехопаденья.
Создатель, окажи мне милость:
Дай мне постичь, как получилось,
Что от единственной четы
Двунадесять племен родилось?
Теперь пестра юдоль земная,
И что ни местность — речь иная,
И все людские племена
Враждуют, устали не зная.
236
Свой сохранил язык библейский
Израильтянин иудейский,
Сберег сириец свой язык,
Свое наречье — курд халдейский.
Всем племенам язык подарен,
Но грека не поймет татарин,
Грек — славянина, гунна — перс,
Латинянина — внук Агари.
Татарина — далмат испанский,
Китайца — житель ханаанский,
Франк армянина не поймет,
Алана — тюрок самаркандский.
И, как наречья, вера тоже
У множества племен не схожа.
Иные племена не чтут
Креста святого, матерь божью.
К святым словам их сердце глухо.
У них нет истинного слуха.
У них нет веры ни в отца,
Ни в сына, ни в святого духа.
Так почему ж на белом свете
Могучи нечестивцы эти?
Они святые церкви жгут,
Чтоб возводить свои мечети.
Те нехристи в великой силе,
Что христиан осиротили
И превратили жен во вдов
И столько бедствий натворили.
Вершится всё по божьей воле,
Но, боже, нам терпеть доколе?
Доколе будешь им прощать,
Не замечая нашей боли?
Ужель нашел ты оправданье
Тем, кто приносит нам страданья?
237
Доколе можем мы терпеть?
Мы — люди, а не изваянья.
Зачем, подобно травам сорным,
Людей, нас вырывают с корнем?
Зачем ломают, как тростник,
И жгут в неистовстве упорном?
Иль ввергли в гнев тебя армяне,
Как некогда израильтяне?
За это ль свой великий гнев
Нам обращаешь в наказанье?
К добру и праведности склонным,
Ты видишь сам, как нелегко нам.
Иль все погрязли мы в грехе,
Живя не по твоим законам?
Коль так, хоть я не всех мудрее,
Скажу: не будь ты к нам добрее
И многогрешный мой народ
С лица земли сотри скорее!
Нам жить иль гибнуть не иначе,
Чем так, как это ты назначишь.
По приговору твоему
И веселимся мы и плачем!
Не по твоей ли мудрой воле
Один живет сто лет и боле,
Другой является на свет
И вянет, как травинка в поле.
Скорбит отец, судьбой гонимый,
Был сын один — погиб любимый.
А у соседа десять душ —
И здравы все, и невредимы.
Тот жив, хоть умереть мечтает,
Другому б жить — он умирает.
Старуха дряхлая живет,
Отроковица угасает.
238
Жизнь одному кошель раздула,
Другому лишь суму швырнула,
У одного — табун коней,
А у другого нет и мула.
Одним судьба дарит палаты,
Другим — на рукава заплаты.
Одним жалеет медяка,
Другим дарует горы злата.
Иным судьба дает поблажки,
Пути других бывают тяжки.
Один из нас одет в атлас,
Другой — в заплатанной рубашке.
Один в страданьях безутешен,
Плетется безоружный, пеший.
Другой гарцует на коне,
Оружьем дорогим обвешан.
И этот всадник с силой бычьей
Свой обнажает меч привычный.
Жену бедняги и детей
Берет как честную добычу.
Не ты ли разделил, владыка,
Весь мир на малых и великих,
Чтобы один в довольстве жил,
Другой чтоб вечно горе мыкал?
Кто в мире счастлив, кто беспечен?
Кто здесь удачею отмечен?
Хоть десять лет я проищу —
Счастливцев я не многих встречу.
Кто ж те счастливцы: царь на троне,
Или священник на амвоне,
Придворный льстец, богач купец,
Писец, творящий беззаконье?
Беда и счастье — всё незряче,
Нас больно бьют, и горько плачет
239
Тот, у кого богатства нет,
Нет красноречья, нет удачи.
Несчастен муж, судьбой гонимый,
Не нужный никому, не чтимый,
Идет, терзаемый бедой,
И все-таки неколебимый.
Иной священник льстец бывалый, —
В день праздничный ему, пожалуй,
При целовании креста
Перепадает куш немалый.
Удел завидный у счастливца,
В почетный угол он садится,
И «Аллилуйя» не проймет
Нажравшегося нечестивца.
Богат неправедный священник,
А брат его и соплеменник
Пред ним сгорает, как свеча,
И унижается, как пленник.
Недобр священник к неимущим,
Им грех и малый не отпущен.
Он страждущего бедняка
Считает наказаньем сущим.
Того лишь встретит он с почтеньем,
Кто в силе, кто богат именьем,
Пусть даже богачи — глупцы,
Он внемлет их пустым реченьям.
Создатель в этой жизни бренной
Нас верой одарил священной,
Но блага все отмерил нам
Он мерою неравноценной.
Не всяк удачею отмечен,
Один угрюм, другой беспечен.
Не все красивы и умны
И обладают красноречьем.
240
Одним легко даются знанья,
Другим способность созиданья,
Чтоб строить над рекой мосты,
И храмы, и другие зданья.
Иной хоть и творенье божье,
Но язвы у него на коже.
Иной, со скрюченной рукой,
И мула сам взнуздать не может.
Тот человек, как дьявол, злобен,
А этот ангелу подобен.
Он много добрых дел творит,
Приятен всем и всем угоден.
Прости меня, отец небесный,
Прости мой ропот, грех словесный, —
Чему на свете должно быть,
Лишь одному тебе известно.
Всему есть предопределенье.
Мир — это божие творенье.
И всё, что суще в мире сем,
Шлет господу благословенье.
241
ХАЧАТУР КЕЧАРЕЦИ
(XIII — начало XIV века)
127. БРЕННОЕ ТЕЛО КОРИЛА ДУША
Бренное тело корила душа,
Телу, скорбя, говорила душа:
«Грешное, все ты соблазны познало
Этого мира, где святости мало.
Ты и меня погубило грехами,
Ввергнуло в неугасимое пламя.
Ты и в аду, не избегнув огня,
Будешь терзаться и мучать меня».
Тело ответило: «Полно, душа,
Я — во служеньи, а ты — госпожа.
Ложно, неправо меня не суди,
Раны кровавые не береди.
Конь я, и ты оседлала меня,
Гонишь куда ни попало коня.
Всё по твоей совершается воле,
В мире — я горсточка праха, не боле».
128. ГОСПОДЬ СЛОВАМ МОИМ СВИДЕТЕЛЬ
Господь словам моим свидетель:
Всё в мире суета и ложь.
Лишь скорбь найдешь на этом свете,
А в гроб лишь саван унесешь.
242
В твоих усильях мало толку,
Цена твоим стараньям — грош,
И это всё ты незадолго
Перед концом своим поймешь.
Всегда ликующий беспечно
Юнец на дерево похож,
Но расцветание не вечно,
Но листья пожелтеют сплошь.
Тебе зимою станет хуже,
Нагой, ты задрожишь от стужи.
Весна позор твой обнаружит,
Великий стыд перенесешь!
Я — тоже пленник заблужденья,
И мне иного обвиненья
Не предъявляйте в осужденье:
Мне в сердце не вонзайте нож.
Мой взор померк, и нет спасенья,
Нет мне, больному, излеченья.
Я слышу смерти приближенье,
Она меня ввергает в дрожь.
129. Я, СМЕРТНЫЙ, СОТВОРЕН ИЗ ПРАХА
Я, смертный, сотворен из праха,
Из четырех стихий земных,
Во тьме я шел, дрожал от страха,
Слеза текла из глаз моих.
Кого-то пламенем сжигал я,
И сам терпел, сгорал дотла,
И зло кому-то причинял я,
Страдая от людского зла.
Мой дух был пламенем неложным,
Но канул я в глухую тьму,
Я знал почет, но стал ничтожным
По безрассудству моему.
243
Был родником с водой сладчайшей —
Грехом я сам себя мутил.
Блистал я, был звездой ярчайшей —
Свой свет я погасить спешил.
О Хачатур, дремать позорно,
Твой час последний предрешен.
Жизнь — это снег на склоне горном,
Грядет весна — растает он.
Твой сон тебя страшит, кончаясь,
Влечет он в бездну, а не ввысь.
Заплачь, вздохни, промолви: «Каюсь!»
От сна греховного очнись.
130. ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ ПОДОБНА МОРЮ
Жизнь на земле была как море,
Мне выплыть было не дано.
Подобно морю, было горе,
Тянувшее меня на дно.
Любовь была темна, как бездна,
Меня влекла во мрак безвестный,
И дней моих цветок чудесный
Раскрылся и увял давно.
И смерть настанет, не обманет:
Мой взор навеки затуманит,
Лицо мое землистым станет,
И станет всё темным-темно.
Влекомые тщетой земною,
Пройдут живые стороною,
Все, кто при жизни был со мною,
Меня забудут всё равно.
244
АРАКЕЛ СЮНЕЦИ
(ок. 1350—1425)
131. ИЗ «АДАМОВОЙ КНИГИ»
Об убранстве прародителей и рая
Из главы II
Как описать мне прелесть рая?
Не может быть прекрасней края.
Как солнце и луна сверкая,
Цветок там каждый расцветал.
Лицо Адамово лучилось,
В нем отражалась божья милость,
Оно сверкало и светилось,
И райский свет на нем играл.
Оно сияньем озарялось;
В нем солнце так преображалось,
Что солнцем и лицо казалось.
Бессмертья свет на нем блистал.
Адам, сияньем осененный,
Был неземным ростком зеленым.
Он был цветком новорожденным,
Он свет бессмертья источал.
Своим блаженством восхищенный,
Душой и мыслью просветленный,
Как на свету алмаз граненый,
Сияньем божьим он сиял.
245
Под сенью райского предела
Сливался свет души и тела,
Душа сияньем пламенела,
И свет сей тело озарял.
Над ним господь был вездесущий,
Под ним шумели рая кущи,
Глядел Адам на мир цветущий
И божью милость восславлял.
Благоуханную обитель
Оглядывал наш прародитель.
Он, опьяненный райский житель,
Благие запахи вдыхал.
Он любовался этим краем,
Он пел, он упивался раем.
Что сам он был неувядаем,
Наш прародитель понимал.
Он к божьей славе приобщался,
Любви сияньем упивался,
Восторг его из сердца рвался
И благодарностью звучал.
Сияли чудным озареньем
Творец и тот, кто был твореньем.
Над каждой тварью и растеньем
Дух целомудрия витал.
Цветы, казалось, пламенели;
И сонмы ангельские пели,
Они пьянили и пьянели,
Сливаясь в радостный хорал.
И может, божеская милость
В том благодатно проявилась,
Что самому Адаму мнилось:
И он сиянье излучал.
Сомненьем поздним не тревожим,
Адам на бога был похожим,
246
И, будучи подобьем божьим,
В себе он бога ощущал.
Плач о неизбежной кончине, о пути души и борьбе ее со злыми духами
Из главы V
Не избежать и мне сего удела:
Душа моя отринется от тела
И пустится в тот страшный, без предела
Далекий путь неведомо куда.
Обступят душу сонмы бесов разных,
Ужасных сутью, ликом безобразных,
Еще страшней сомнений тех опасных,
Что бесы мне внушали иногда.
Душа моя окажется в их власти,
Сулящей ей лишь беды и напасти,
И душу раздерут мою на части,
Чтоб ей пропасть, исчезнуть без следа.
Те бесы с адской злобою во взгляде
Начнут огонь вздувать и крючья ладить,
Кружиться станут спереди и сзади,
Повсюду — слева, справа — вот беда!
В том мире тесном, мире помрачневшем
Придется худо душам отлетевшим,
Стыдом отягощенным, многогрешным,
Не ждавшим в жизни Страшного суда.
И, проявив бесовское старанье,
Припомнят бесы все мои деянья
И станут мне готовить наказанье,
Для коего и брошен я сюда.
Но перед тем, как дьявол завладеет
Моей душой, как телом Моисея,
Быть может, скажет ангел, мрак рассея:
«Господь его прощает навсегда!»
247
ОВАНЕС ТЛКУРАНЦИ
(XIV—XV века)
132. ПЕСНЯ ЛЮБВИ
В сиянии сидела ты
Подобной солнцу красоты;
Похожа на прекрасный сад,
Где роз и лилий аромат
Цветы лучистые струят.
Твой взор — как гладь морских валов,
А брови — сумрак облаков;
Меж тонких губ ряды зубов
Блестят, как нити жемчугов.
Монахи, встретившись с тобой,
О книге позабыв святой,
Дрожат всем телом в летний зной,
Зима ж им кажется весной.
С тобой вступить могу ль я в спор?
Любовью твердь ты плавишь гор,
Ты крепостей крушишь затвор,
Ты скалы мчишь в морской простор.
Безумец бедный, Ованес!
Ты пел златой ковчег чудес,
Чтоб, по суду благих небес,
Червь тело грыз, а душу — бес!
248
183. ЛИК ТВОЙ - СОЛНЦЕ
Лик твой — солнце, и не мудрено,
Что тобою всё озарено.
Любишь иль не любишь — всё равно
От любви мне гибнуть суждено.
Только что стояла здесь скала,
Ты прошла — взглянула и сожгла.
Гибнем, но не замечаем зла
Мы, чьи души сожжены дотла.
Дочери иной, тебе под стать,
Не могла родить другая мать,
Взор твой излучает благодать,
Божья на лице твоем печать.
Лоб твой ослепляет белизной,
Губы — словно алый мак весной,
С чем сравнить мне лик твой неземной?
Ты подобна лишь себе одной!
Я сгораю; больше нету сил;
Я за то страдаю, что грешил.
Чудо из чудес господь свершил:
Он тебя из праха сотворил.
Плачу я — безумный Ованес,
Я сгораю, мой покой исчез.
Ты — огонь мой, ты — мое страданье,
Кара, посланная мне с небес!
134. ВСТРЕТИЛ Я КРАСАВИЦУ НЕЖДАННО
Встретил я красавицу нежданно.
Глянув на пылавшие уста,
Замер я и рухнул бездыханно,
Понял: без нее земля пуста.
Я такое увидал впервые.
Очи — словно волны голубые,
249
Волосы — как нити золотые,
Брови — ночи зимней чернота.
Светел мир ее лишь благодатью,
Я пленен ее лицом и статью.
Душу за нее готов отдать я,
Столь она прекрасна и чиста.
И, когда мы встретились глазами,
Как свечу, меня спалило пламя.
Обезумев, я на месте замер,
Ибо понял: я ей — не чета.
Ованес, не стоило влюбляться:
Наши дни не долго в мире длятся,
Чаще вспоминай, чтоб исцеляться,
Что не вечна в мире красота.
135. НЕ УБЕЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ
Ты пышный цветник, ты, как роза, горда.
Глаза — морей опьяненных вода.
Грудь — сад плодовый. Скрыться куда?
Ты грозный судья, и жду я суда.
Любовь, не убей меня,
Не будь палачом!
Сильнее креста твоя благодать,
Я сил не найду с тобой совладать.
Земля ты иль пламя? Рядом сядь.
Я болен — и вот здоров я опять.
Любовь, не убей меня,
Не будь палачом!
И стыд позабыт. Священник, монах,
И вам не спастись — настигнет впотьмах,
Нарушит ваш сон любовь. Где же страх?
Смеется, злословит народ — всё прах.
Любовь, не убей меня,
Не будь палачом!
250
О, ты молоко, и миндаль, и мед.
Пускай острый шип глаза разорвет
Тому, кто тебя не чтит. О разлет
Бровей! Кипарис, пронзающий свод.
Любовь, не убей меня,
Не будь палачом!
Как бабочка, опален я огнем.
Ты солнечный лик, пылающий днем.
Когда остаюсь с тобой вдвоем,
Дрожу, и смятенье в сердце моем.
Любовь, не убей меня,
Не будь палачом!
Я светлый твой лоб сравню со звездой.
Шамам — твоя грудь, эдем золотой.
О яблоки щек, коль сахар со мной,
То и на Мысыр махну я рукой.
Любовь, не убей меня,
Не будь палачом!
За твой поцелуй отдам Хоросан,
Абаш и Дели, Емен, Индостан.
Цена твоих кос — Китай и Яздан,
Стамбул и Хата — всё обилие стран.
О Тлкуранци, всё сказал ты пока,
Ведь ум твой легче крыла мотылька.
136. ПЕСНЯ ОВАНЕСА О ЛЮБВИ
Я гибну! Сжалься надо мной! Любовь сказала: умирай!
Возьми же заступ золотой и мне могилу ископай.
Пусть на костре сожгут меня: душа, стеня, взлетит огнем.
Кто не знавал сего огня? И сушь и зелень гибнет в нем.
Мой бедный прах вином омыв, пускай певец над ним споет,
Как в саван, в листья положив, в саду весеннем погребет.
251
Жестокая! Глаза твои учить могли бы палачей,
Ты всех влечешь в тюрьму любви, и бойня — камни перед ней!
О! сердце ты мое сожгла, чтоб углем брови подвести.
О! кровь мою ты пролила, чтоб алый сок для ног найти.
Кидайте яблоки в меня! — я нежным ранен языком,
Я пленник твой! Мой дух, пьяня, ты поишь сладостным вином.
Мне нынче ночью снился сон, что на куски я разнесен:
Зверье сосало кровь мою, мой труп достался воронью.
Льва надо мной зияла пасть; и все струилась кровь моя...
Твоя искала крови страсть, — являйся, жажды не тая.
Землей, что топчет удалец, клянусь: во мне душа — одна!
Меня сожгла ты! наконец, пей кровь мою взамен вина!
С моей главы на сердце вдруг упали клубы черных туч.
Желчь разлилась, туман вокруг, а слез поток — кровав и жгуч.
Мы ели за одним столом, из кубка пили одного,
Садились вместе, шли вдвоем, ах! что осталось от того!
Свои слова и свой обет ты помнишь? Им свидетель — бог!
Теперь меж нами связи нет, всё зложелатель превозмог.
За зло пусть бог заплатит злом, чтоб враг мог зло свое испить,
И добрым пусть воздаст добром, чтоб вновь вдвоем с тобой нам быть.
Да мне укажет бог пути! Деревья зацветут в лесах,
И древу сердца вновь цвести, и вновь пернатым петь в ветвях!
Безумный Ованес! терпи, работай, полно унывать!
Надеждой твердой дух крепи: она придет — вновь целовать!
252
137
Земля подобна раю стала
По мановению творца,
Чьей благодати нет конца,
Чьей благодати нет начала.
Коснулась божия рука
Листа, и ветви, и цветка,
В горах замерзшая река
Оттаяла и зажурчала.
Идут коровы со двора,
Пастись в лугах пришла пора.
Резвится, пляшет детвора,
Как ей по возрасту пристало.
Юнцы влюбленные стоят,
Вослед красавицам глядят,
Но те не ловят жаркий взгляд,
Не смотрят на кого попало.
Вернулись птицы в свой приют
И хлопотливо гнезда вьют.
И завершая тяжкий труд,
Они поют свои хоралы.
Вновь прилетели в отчий край
И соловей и попугай,
И, превращая землю в рай,
Их песнопенье зазвучало.
Простор лугов и склоны гор
Покрыл затейливый узор —
Раскинулся цветов ковер,
И вся земля возликовала.
Расцвел нарцисс, как добрый знак,
Короной возгордился мак,
И орхидея белый стяг
Ввысь подняла и засняла.
253
Вот тубероза средь лилей
Стоит, других цветов мудрей,
Поскольку мудростью своей
Больных проказой исцеляла.
Расцвел весь мир, как вешний сад,
И всяк живущий в мире рад,
Все господа благодарят:
Его глагол — всему начало.
Не счесть его благих щедрот,
И зреет всякий сладкий плод,
Обилье вишен ветку гнет,
Склонясь, она к земле припала.
Кизила ягоды горят,
Каштаны зрелые висят,
И соком налился гранат,
И зреют груши небывало.
И, словно поздняя трава,
Желтеет на ветвях айва,
Отяжелели дерева,
И много персиков опало.
Но сходит всё в краях земных.
И вот в садах полупустых
Нет абрикосов золотых,
И фиников, и яблок мало.
Куда ни глянь — пустеет сад,
Но дозревает виноград,
Чья сладость слаще всех услад
В раю Адама искушала.
Поднесший виноград к устам,
Из рая изгнан был Адам, —
Но сладость винограда нам
Блаженство рая даровала.
И вот уже сады пусты.
Где нынче листья, где цветы?
254
Былой не видно красоты,
Листва пожухла и опала.
Страдают птицы без вины,
Что в дальний край лететь должны.
Не всем дождаться им весны,
Чтоб снова всё начать сначала.
А осень оставляет нам
Сады — как опустелый храм;
Они подобны старикам:
Что отцвело, того не стало.
138. ПЕСНЬ О ХРАБРОМ ЛИПАРИТЕ
Прославим бога, вечен он
И в бесконечности сокрыт.
По воле бога стал силен
Слуга господень Липарит.
Мы чтим героев и святых:
Саркис, Торос, Мушег, Вардан...
Был Липарит храбрее их,
Сильней, чем Тырдат, царь армян.
Героя конь неукротим,
Копье качается в руке.
Враги трепещут перед ним,
Иноплеменники — в тоске.
Конца нет войнам. Каждый год
Их десять, двадцать. Гибнут вновь
И вновь войска. Не меньше вод
Реки Джиган пролилась кровь.
Зло накопилось, как вино
В мехах. Подходит к Сису рать.
Манчак, чье сердце злом полно,
Задумал Сис великий брать.
С Манчаком тысяч шестьдесят
В кольчугах выехали в ряд.
Их копья гибкие блестят,
Их сабли и щиты горят.
Вот тысяч шестьдесят врагов
Подняли исступленный вой.
255
Военных труб грохочет зов,
Фанфары призывают в бой.
Скотов неверных рать стоит,
Но вид воинственный их лжив:
Им страшен храбрый Липарит,
Они дрожат, как ветви ив.
Святой король сказал тогда:
«Ради тебя явилась к нам,
О Липарит, врагов орда
И вон остановилась там.
Разила их твоя рука,
Ты конницу их брал в полон,
Пленил ты сына Манчака,
Ты нам принес султана трон».
И Липарит сказал: «Готов
Я на себя принять беду;
Не будем тратить лишних слов,
Пусть я на смерть сейчас пойду».
Коня седлает Липарит,
Кольчугой тело сжал свое,
Над головою поднял щит,
В руке — упругое копье.
Склонился он у алтаря
И положил земной поклон.
Почтив небесного царя,
Земных князей восславил он.
Благословение небес
На сына шлет (вокруг отряд
Заплакал): «Сын мой, Ованес,
Прощай. И ты, Василий, брат.
Ты, госпожа моя, Манан,
Ты, солнцу равная лицом.
Я должен умереть от ран;
Вглядись в меня перед концом».
И к королю, могуч и прост,
Он обращается потом:
«Храни, король, надежно мост,
Чтоб мог пройти я тем мостом».
Призвал Христа, рванулся львом
И конницу врагов рассек.
Бегут. Страх овладел врагом.
То мчится барс, не человек.
256
Там горы трупов, ужас, боль,
Кипит кровавая река.
Но позавидовал король
И вспять вернул свои войска.
Враги воспрянули, и взят
Был ими мост, и нет пути.
Вот скачет Липарит назад,
Но мост ему не перейти.
И копья бьют его в упор,
Враги теснят со всех сторон;
Он вправо, влево бросил взор, —
Помощников не видит он.
Враги справляют торжество,
Им крови хочется святой.
Вот тело брошено его,
Но взяли голову с собой.
И страх над городом навис.
Напрасно горожан отряд
Сопротивлялся. Занят Сис,
Враги вошли, дома горят.
Церковных не щадили стен.
Разрушен город и сожжен.
Служителей церковных в плен
Угнали, увели их жен.
А тело павшего от ран
Струило свет. Конец таков:
Сам Липарит и сам Ован
Погибли от руки врагов.
И повторяют в наши дни
Священник, простолюдин, князь:
«Господь, героя помяни», —
За стол с молитвою садясь.
Тлкуранци я, Ованес,
Сложил вам жалобную речь,
Чтоб этот подвиг не исчез,
Чтоб память о бойце сберечь.
139. КОЛЬ НЕ БЫЛО Б МУЖЕЙ...
Коль не было б мужей, что грешных нас
Предостеречь хотят святым писаньем, —
257
Смерть и без них была бы всякий раз
Остереженьем и напоминаньем.
Дотянется до всех ее рука,
До полководца и до властелина,
До богатея и до бедняка;
Ты схимник или царь — ей всё едино.
Я видел покорителей земли,
Но ведал я: их слава быстротечна;
И в час назначенный они ушли,
Взяв лишь одну сажень земли навечно.
И тот, кто тело холил много лет,
Тот, кто себя умащивал до лоска,
Ушел навечно, и его скелет
Лежит в могиле на подгнивших досках.
Я видел многих богачей, скупых,
В чьи сундуки текли златые реки,
Но даже им всего два золотых
В дорогу дали, положив на веки.
Твердил владыка: «Есмь я Соломон!»
Была блестящей жизнь его и длинной,
Но эта жизнь окончилась, и он
Стал под землею пищей муравьиной.
Не одного я видел удальца, —
Теперь они давно лежат в могилах,
И даже муравья согнать с лица,
Ходившие на львов, они не в силах.
Красивы, юны были женихи,
Стройны невесты были и невинны.
Краса поблекла их, и пауки
В гробах забытых свили паутины.
Единый в мире властвует закон:
Всё, что на свет родится, — умирает.
И если ты рассудком наделен,
Тебе об этом помнить не мешает.
258
140. К СМЕРТИ
Лишь о тебе помыслю, смерть, в душе тоска.
Всего ты горче, пред тобой — желчь не горька!
Ты горче горького! лишь ты — к себе близка!
Пусть горче ад: в него влечет — твоя рука!
Ты мстишь Адамовым сынам, ведешь их в ад;
Ты — наказанье за грехи, за райский сад.
Давида с Моисеем ты берешь подряд;
Взят Авраам, и Исаак под землю взят;
Тобой низвергнут Константин и Тиридат.
Тебя и тысячи врагов не устрашат.
Шесть панцирей надень, их все — твой дрот пробьет;
В тюрьму всех бросишь и скалой завалишь вход.
Ты — тот орел безмернокрыл, чей мощен лет,
И волочит концами крыл он весь народ.
Блажен, кого в добре найдет его черед,
Но схваченных во зле — в огонь твой взмах метнет!
О, Тлкуранский Ованес! ты учишь всех,
И семь десятков лет ты сам ласкаешь грех!
259
МКРТИЧ НАГАШ
(1393—70-е годы, XV века)
141. СУЕТА МИРА
О братья, в мире все дела — сон и обман!
Где господа, князья, цари, султан и хан?
Строй крепость, город иль дворец, иль бранный стан —
Всё ж будет под землей приют — навеки дан.
Разумен будь, Нагаш, презри грехов дурман,
Не верь, что сбережешь добро: оно — туман,
Стрелами полный, смерть для всех — несет колчан,
Всем будет под землей приют — навеки дан.
Мир — вероломен, он добра — нам не сулит,
Веселье длится день, потом — вновь скорбь и стыд.
Не верь же миру, он всегда — обман таит,
Он обещает, но дает — лишь желчь обид.
Тех, обещая им покой, — всю жизнь томит;
Тех, обещав богатство им, — нуждой язвит,
И счастье предлагает всем, — ах, лишь на вид!
Уводит в море нас, где бездн — злой зев раскрыт.
Проходят дни: вдруг смертный день — наводит страх.
И света солнца ты лишен — несчастен, наг.
Ах, отроки! ваш будет лик — истлевший прах,
Пройдете вы, как летний сон, — в ночных мечтах.
Знай, раб! что и твоя любовь — лишь тень во днях,
Не возлюбляй же ты мирских — минутных благ.
260
Не собирай земных богатств — с огнем в очах:
Одет и сыт? Доволен будь! — иное — прах!
Трудись и доброе твори, — бедняк Нагаш!
Свои заветы чти: другим — пример ты дашь!
Поток греха тебя, пловца, — унес куда ж?
И, благ ища, стал — не добра, но зла ты — страж!
142. О ЖАДНОСТИ
От века и до наших дней любому злу в судьбе земной
Тупая жадность — лишь она — была единственной виной.
«У жадного и бога нет, — апостол говорит святой. —
Того он бога признает, под чьей находится пятой».
Он — хищный волк. Его закон: людскую кровь пускать рекой.
Он пьет, но кровью никогда не насыщается людской.
Хоть и богат и властен он, но по природе он такой:
Всех обездолить норовит, всё захватить своей рукой.
Всё, всё — и войны, и тоска, и зависть, и ночной разбой,
Проделки шайки воровской — всё из-за жадности людской.
Клятвопреступники, лжецы, кричащие наперебой,
От веры отошли святой — всё из-за жадности людской.
Один болтается в петле, другой сидит в тюрьме сырой,
А те пропали с головой — всё из-за жадности людской.
Цари садятся на коней, цари воюют меж собой,
Гоня покорных на убой, — всё из-за жадности людской.
261
Чтоб увести народы в плен, проходят вихрем над страной,
Равняют города с землей, — всё из-за жадности людской.
Один поднялся на отца, братоубийцей стал другой,
У них святое под ногой — всё из-за жадности людской.
В католикосы лезет всяк, кто в беззаконии — герой,
Пролез в епископы иной — всё из-за жадности людской.
С епископом развратник пьет — и властью наделен мирской
За мзду монетой золотой — всё из-за жадности людской.
Архимандритов новых рой во всем плетется за толпой,
В прилавок превратив налой, — всё из-за жадности людской.
Монахи, бросив монастырь, по селам шляются толпой:
Забудь молитвы! Песни пой! — всё из-за жадности людской.
И иереи — за дубье! Тот — с окровавленной щекой,
А тот — с припухнувшей губой — всё из-за жадности людской.
Нагаш, ты — пленник суеты, следи всечасно за собой;
Немало всяческих грехов и ты имеешь, как любой.
143. СТРАННИК
«Я умоляю: слово «странник»
Ты всякий раз не повторяй.
В чужом краю скорбит изгнанник,
Хоть этот край кому-то — рай.
Несчастный странник — словно птица,
262
Которой к стае не прибиться,
Пока она не возвратится
В свой отчий, в свой любимый край».
— «Не убивайся, бедный странник,
Минуют тяжкие года:
Не навсегда твое изгнанье,
Не навсегда твоя беда.
Молись, господь тебе поможет,
На родину вернет, быть может,
Чтоб ты забыл по воле божьей
Чужие эти города».
— «Я всех молю о состраданьи,
Шепчу: «О боже, пощади!»
Чернее самого изгнанья
Лишь сердце у меня в груди.
И от былых воспоминаний
Лишь множатся мои страданья,
И стеснено мое дыханье,
И нет просвета впереди!»
— «Не причитай, не плачь, изгнанник,
Не победишь слезами зло.
На свете ни одно страданье
От причитаний не прошло.
От громогласного стенанья
Не исполняются желанья, И никого еще рыданье
В родимый край не привело!»
— «Изгнаннику повсюду горе,
С бедой смирился он давно.
Он никогда ни с кем не спорит,
Ему надежды не дано.
В толпе чужих он горе прячет,
Для них он ничего не значит.
Кровавыми слезами плачет,
Всё перед ним черным-черно!»
— «Увы, родимого предела
Для смертных нету под луной,
263
Мы странники на свете белом,
Не на земле наш дом родной.
Но так живи в своем изгнаньи,
Чтобы за все твои деянья
Ты новых не обрел страданий
В отчизне нашей неземной».
264
АРАКЕЛ БАГИШЕЦИ
(XIV—XV века)
144. ПЕСНЯ О РОЗЕ И СОЛОВЬЕ
Песнь изумительную вы услышите сейчас,
И телу и душе она готовит радость в нас.
Я буду славить соловья, чей так приятен глас,
И розу, чей цветной убор так сладостен для глаз.
Так молвит розе соловей: «Влечешь меня лишь ты!
Знай: я тебя люблю; ты — храм любви и красоты!
Должна в тебя сойти любовь святая с высоты;
Твоей любовью расцветут по всей земле цветы».
Так молвит роза соловью: «О дивный соловей!
Как счастлива, в душе моей, я от твоих речей;
Но ты летаешь высоко, я — вечно средь полей:
Я слить могу ль свою любовь с любовию твоей».
Так молвит розе соловей: «Внемли, что я пою:
Чтоб сердце поняло твое, до дна, любовь мою,
Я, красоту твою ценя, с небес росу пролью,
С моей любовью ты сольешь тогда любовь свою».
Так молвит роза соловью и это говорит:
«Боюсь, что молния с небес ко мне с росой слетит,
Что яркость лепестков моих то пламя опалит,
И станет на смех всем цветам мой искаженный вид».
Так молвит розе соловей: «Внемли моим словам,
И неисчерпный ключ любви тогда тебе я дам:
265
Чтоб чистым и зеленым быть всегда твоим листам,
И ток поящих вод пошлю всем на земле цветам».
Так молвит роза соловью, ее ответ таков:
«Меня не разуверил смысл твоих отважных слов:
Боюсь, что ключ твой потечет водой без берегов,
Что он зальет и унесет красу моих листов».
Так молвит розе соловей: «Хочу я тучей стать,
От солнечных лучей тебя я буду защищать,
И с нежностью в палящий день навесом отенять,
И сладостной своей росой, в часы зари, питать».
Так молвит роза соловью и это говорит:
«Мне страшно, я боюсь, что гром из тучи загремит,
Что лепестки мои, гремя, всех красок он лишит,
И станет на смех всем цветам мой искаженный вид».
Так молвит розе соловей: «Я солнцем стать могу,
Свой заревой, свой нежный свет я для тебя зажгу,
Я красок тысячу твоих любовно сберегу,
И честью всех других цветов ты станешь на лугу».
Так молвит роза соловью: «Так хрупок мой наряд!
Рассветные часы меня пугают и палят;
Боюсь я солнечных лучей: они меня пронзят,
И упадут все лепестки на луг, за рядом ряд».
Так молвит розе соловей, и так поет певец:
«Достойна ты! ты всем цветам — прекраснейший венец;
Что я любовью опьянен, признаюсь наконец!
Тебя зеленой навсегда да сохранит творец!»
Так молвит роза соловью в ответ на песнь певца:
«Твой нежен голос, веселишь ты всех людей сердца,
И песнь на тысячу ладов ты строишь без конца,
Ты — честь и ты — краса всех птиц по милости творца!»
Так молвит розе соловей: «Ты всех лекарство зол,
Кто болен, исцеленье тот в любви к тебе обрел.
266
Кто страждет и еще к тебе за благом не пришел, —
Томим раскаяньем, что он спасенья не нашел».
Так молвит роза соловью: «О дивный соловей!
Откуда песнь твоя, что всех певучей и сильней?
Я в умиленьи от твоих властительных речей.
Наверно, равного тебе нет во вселенной всей».
Так молвит розе соловей: «Есть царь, что надо мной,
Дарует всем цветам дары он щедрою рукой,
И если жаждешь ты узреть его перед собой —
Прославлена в века веков ты будешь всей землей!»
Так молвит роза соловью: «Я завистью полна!
Служить ему — тебе судьба бесценная дана!
Да, если осыпал тебя он милостью сполна,
Понятно мне, я почему томилась здесь одна!»
Так молвит розе соловей, и вот его ответ:
«Когда всем сердцем примешь ты мой радостный обет,
Тебя, и телом и душой, прославит целый свет,
И, как рабы, все будут чтить твой непорочный цвет».
Так молвит роза соловью: «Спеши мне всё открыть!
Я вся желанием горю — твои слова испить!
Что есть на сердце, ничего не должен ты таить,
Когда любовию меня ты хочешь покорить!»
Так молвит розе соловей: «Несу благую весть:
Рабою быть царя — твоя достойнейшая честь!
Начнут тебя превозносить все птицы, сколько есть,
И песен про тебя спою я столько, что не счесть!»
Так молвит роза соловью: «Тебя благодарю:
Служить желаю всей душой подобному царю,
Но пред величием его я радостью горю.
Чем я пленю его и что ему я подарю?»
Так молвит розе соловей: «Тебе я бодрость дам.
Узнай, что снизойти к тебе сей царь желает сам.
267
Ты, в радости безмерной, верь божественным мечтам,
Затем, что будешь ты его — нерукотворный храм!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тот соловей, краса всех птиц, — архангел Гавриил,
И богоматерь — роза та, святее всех святых,
И царь тот — Иисус Христос, владыка вышних сил.
В бессмертной розе воплотясь, он к людям нисходил.
Всё это, полн земных грехов, писал я, Аракел,
Так соловья и розу я, как только мог, воспел;
А Гавриила в соловье изобразить хотел,
Марию — в розе, и Христа — в царе, как я умел.
И всех молю я ныне, кто мои стихи прочтет,
И всех, кто на веселый лад иль нежный их споет:
Да богу имя он мое в молитве назовет,
И за молитву ту господь к нему да низойдет.
268
KEPOBБE
(конец XV века)
145. ГОРЕ НЕСЧАСТНОМУ МНЕ
Я по кладбищу бродил нынешним утром унылым
И увидал средь могил свежую чью-то могилу.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
В этой могиле лежал юноша, мне неизвестный.
«Прочь уходи, — я сказал, — юным в могиле не место».
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
И отвечал мне мертвец — юноша некогда славный:
«Был я, как ты, о глупец, ветреным в жизни недавней.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Пил я, бывало, и ел, думал о вечности мало,
Да невзначай заболел; всё, чем владел я, — пропало.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Даже средь белого дня, слабый, не видел я света;
Хоть вопрошали меня, не было сил для ответа.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Я навсегда опустил руки, что сильными были.
Сладкоречивым я был, замер язык мой в бессильи.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Видя, что я занемог, плакали сестры и братья.
Им, умирая, не мог внятного слова сказать я.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
269
Близкие люди пришли, чем-то помочь мне хотели,
Но удержать не смогли дух мой в слабеющем теле.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Стали мне саван кроить и торопить погребенье,
Чтоб я не начал смердеть, делали мне омовенья.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Перстень и в ухе серьга были при жизни — их сняли,
Как после битвы врага, братья меня обобрали.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Взяли меня, понесли к этой унылой ограде,
Близкие следом пошли, плача о скорбной утрате.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Короток был, как всегда, грустный обряд погребенья.
Так и попал я сюда, мерзким червям на съеденье.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Брат мой, он лжив, этот свет, бренно блаженство земное,
Сколько б ни прожил ты лет, ляжешь ты рядом со мною.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Путь освети свой добром, благом, свершенным сегодня,
Чтоб, оскверненный грехом, ты не горел в преисподней.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Кайся до смертного дня — он, хоть не ждешь, а настанет.
Брат мой, тебя, как меня, пусть сатана не обманет.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Поторопись, вознеси матери божьей моленья.
Господа ты упроси, чтоб даровал он прощенье.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Жалкий глупец Керовбе, праздных речей опасайся,
Смерть предстоит и тебе, кайся при жизни, спасайся.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!
Добрых ты дел не творил, ты суесловил, бывало.
Славу мирскую любил, ту, что в геенну толкала.
Горе несчастному мне, мне, злосчастному, горе!»
270
ГРИГОРИС АХТАМАРЦИ
(конец XV — XVI век)
146. ПЕСНЬ ОБ ОДНОМ ЕПИСКОПЕ
Лишь утром розы заблестят —
Влетает соловей в мой сад,
И розу воспевать он рад.
И слышу: встань, покинь свой сад!
Опустошил я горный скат, —
Камнями защитил свой сад,
Собрал колючки для оград —
И слышу: встань, покинь свой сад!
Устроил я в саду каскад,
Росу небес он брызжет в сад;
Льет не вода — фонтан услад.
И слышу: встань, покинь свой сад!
В моем саду цветет гранат,
Лоз виноградных полон сад,
Льнет к зреющим плодам мой взгляд.
И слышу: встань, покинь свой сад!
И белых роз и алых ряд
Расцвел, украсив горный сад;
Хочу впивать их аромат...
И слышу: встань, покинь свой сад!
В точиле мнется виноград,
Вином меня утешит сад,
271
Хочу я пить в тиши прохлад.
И слышу: встань, покинь свой сад!
Сорву я десять роз подряд:
Они вино твое, мой сад,
Пусть ароматом напоят.
И слышу: встань, покинь свой сад!
Увы! в цветы вселился яд,
Не дышит розами мой сад,
Распались камни колоннад...
Да! мне пора покинуть сад.
Не внемлет роза соловью,
Я больше сладко не пою,
Кто душу отозвал мою?
Ах, бедный раб, оплачь свой сад!
147. ПЕСНЯ
Весна пришла! весна пришла! сады — в убранстве роз.
И горлинка и соловей поют, поют до слез,
Горя любовию к цветку, что краше всех возрос,
Чей в зелени румяный лик влечет бессчетность грез!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
О, солнце! о, луна! звезда, встающая с зарей!
Венера, льющая огонь лучистый и живой!
О, ослепительный алмаз! о, жемчуг дорогой!
Пурпуровый цветок в саду! фиалка в мгле лесной!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
Ты — светлый вяз! лилея ты, чей стебль благоухан!
На пыльной людной площади зеленый ты фонтан!
272
Что град Катай! что весь Китай! что славный Хоросан!
Они — ничто перед тобой, и я любовью пьян!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
Дух бальзамический струят персты, белей, чем снег.
Ты — сладкий сахар! ты — миндаль! ты — ладана ковчег!
Ты — свежий, сладостный цветник, сад, полный вешних нег!
Ты — красный яблок, а к нему зеленый льнет побег!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
Ты — багрянеющий топаз! сверкающий рубин!
Ты — беспорочный изумруд! цветной аквамарин!
Ты — перл, обточенный волной на дне морских глубин,
Отважным добытый пловцом из сумрачных пучин!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
Ты — нунуфар! ты — базилик, цветущий долгий срок!
Ты — мирта! нежный бальзамин! ты — лилии цветок!
Ты — гамаспюр, в садах весны пустивший свой росток!
Ты — лавр, из коего плетут в земном раю венок!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
Ты — деревцо, где без плодов зеленой ветки нет!
Ты — пальма в почках без конца, ты — пальмы первоцвет!
Ты — лес, что острым запахом цветов и трав согрет!
Ты — роза и фиалка, ты — над морем алый свет!
273
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
Ты из миндальных деревцов роскошный, пышный сад!
Ты — запах амбры! мускус — ты! ты — дивный аромат!
Ты — апельсиновых цветов душистее стократ!
Ты — кипарис, и ты — платан! ты — кедр, шатер услад!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
О, гамаспюр ты, что, цветя, не вянешь никогда!
О, эликсир ты, что целишь все скорби без следа!
Прекрасная! будь, как миндаль, зеленой навсегда,
Чтоб видели красу твою мы долгие года!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
Да льются милости творца вокруг тебя дождем!
Да осеняет он тебя всегда святым крестом!
Да направляет он тебя везде прямым путем!
Да будешь ты охранена от всяких зол отцом!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
О, чудный образ! ты вовек — прекрасна и чиста!
Как ангелы, сияньем ты небесным облита!
Твой рот — божественный алтарь и фимиам — уста.
А зубы — нити жемчугов, и вся ты — Красота!
Я опьянен! я опьянен! любовью опьянен!
Я опьянен! я опьянен! при солнце взят в полон!
Я опьянен! я опьянен! все дни мои — что сон!
274
148. ПЕСНЬ О РОЗЕ И СОЛОВЬЕ
Когда исчезла роза, в сад явился соловей,
Узрев ее шатер пустым, затосковал по ней,
Всех спрашивал, не находя возлюбленной своей,
В ночи взывал, за часом час плачевней и грустней.
«О сад, с тобой я говорю! Дай мне, о сад, ответ!
Ты розы не берег моей, любимой розы нет,
Главы, царицы всех цветов, увы, пропал и след,
Чей был бессмертен аромат, чей был прекрасен цвет!
Так рухнет пусть твоя стена и распадешься ты;
Засохнут пусть твоих дерев и ветки и листы,
Пусть топчет всякая нога просторы пустоты,
Исчезнут злаки, и трава, и корни, и кусты.
«Обильноводный, не теки, — я говорю ручью, —
Стряхните, дерева, листву зеленую свою!»,
Я, без смущенья, говорю, отчетливо пою:
Достойнейшую унесли любимицу мою.
Ах, розу унесли мою, и ныне я уныл,
Отняли свет очей моих, и мрак меня стеснил,
Я плачу и при свете дня и при лучах светил,
Моей привычкой стала грусть, в душе нет прежних сил.
То надо мною учинил садовник, может быть:
Он розу от меня унес, чтоб боль мне причинить.
Ее мне больше не видать! рабу, мне как же быть?
На грусть веселый свой напев я должен изменить.
Боюсь, быть может, ветер встал, суровый, страшный, злой,
И листья розы оттого увяли под грозой.
Иль дуновением ее палящий солнца зной
Обжег и розу омертвил с непрочной красотой.
Иль, мне завидуя, цветы свершили это всё,
Похитив, тайно унесли всё счастие мое.
Иль сильный град на розу пал, из туч, как лезвие,
Сразив жестоко, от куста отрезал он ее».
275
Одно в ответ цветы гласят на много голосов:
«Где роза спрятана, об том — нет вести у цветов.
Утеха мы тебе, певец — на тысячу ладов,
И каждый всё тебе из нас пересказать готов».
На крыльях в воздух соловей взлетел на этот раз,
Подумал: «Расспрошу у птиц я обо всем сейчас.
Что знают, пусть об том скорей мне сообщат рассказ,
А то, как море, хлынет ток слез у меня из глаз».
«Вы знаете ль, свершилось что? О птицы, к вам вопрос.
Из сада розу унесли, чистейшую из роз!
Не знаете ль, куда ушла иль кто ее унес?
Вы, может, видели ее иль весть вам кто принес?»
А те в ответ: «Создатель бог то ведает лишь сам,
Лишь он один читает всё, что скрыто по сердцам.
Иди, лети, ищи ее ты по другим местам,
Но розы не видали мы, господь свидетель нам».
И огорчился соловей, сказал: «Куда пойду!
Ведь до рассвета я всю ночь терзаюсь, как в бреду.
Мне страшно, что без розы вдруг я смерть свою найду,
Тоскуя, с розой разлучен, в могилу я сойду.
Хотя б, без розы, дали мне весь мировой простор,
Всё будет жалким для меня, презренный, лишний вздор!
Пусть песнопевцы мне поют и с музыкою хор,
Мне будет сладкий их напев — как тягостный укор.
Куда же унесли тебя иль скрыли где тебя?
Твою высокую любовь как позабуду я?
Страдает сердце у меня, как и душа моя,
И увядают все цветы сегодня, грусть тая.
Я весь дрожу, вся жизнь моя — как будто сны одни,
И самый солнца свет, как мрак, мне кажется в тени.
В мучениях и в горести провел я эти дни,
И жизни той, что прожил я, в счет не войдут они.
276
Моя разлука тяжела, терпимая едва.
Не обо мне ли издавна сказал пророк слова:
„Не хуже ль я, чем пеликан, в стране, где жизнь мертва,
И на развалинах не я ль уселся, как сова!"»
Пришел садовник и его утешил средь забот,
Сказал: «Не плачь, о соловей, ведь роза вновь придет.
Смотри — фиалка уж пришла, предтеча розы — вот,
Я с доброй вестью прихожу, несу поклон вперед».
И соловей благодарил и был безмерно рад:
«Дай бог, чтоб ты блаженно жил и дней бессчетных ряд,
Пускай твои цветы цветут, распустится твой сад,
Пусть обновятся в нем фонтан и камни из оград!
Все веточки и все ростки пусть зеленеют в нем,
Росой покроются с небес, заплещут как огнем,
Размерно зыблются пускай под нежным ветерком,
На радость людям аромат пусть разливают днем!»
Взяв, розе ко двору снесли посланье от певца,
Там розу-астру перед ней избрали, как чтеца.
Встав на ноги, она, держа посланье у лица,
Прочла от соловья письмо всем громко до конца:
«Душой любимая! тебе я низкий шлю поклон!
Блаженная! здорова ль ты, лишь этим я смущен.
На господа надеюсь я, кто всем обогащен,
Что беспорочной и живой тебя содеял он.
Простерши руки, целый день я возношу мольбы,
Молюсь, чтоб длились для тебя дни радостной судьбы.
Ты — всем земным цветам глава, они — твои рабы,
Над ними всеми ты царишь и правишь без борьбы.
По цвету несравненна ты, и запах твой хорош,
Ты ярче солнечных лучей сиянье утром льешь.
Когда увижу я тебя, как будет час пригож:
Ведь по природе ты кротка и ненавидишь ложь.
277
Покорнейший пишу поклон тебе издалека,
Прошу тебя: вернись ко мне и пожалей слегка.
Коль хочешь ведать, как живет покорный твой слуга,
Знай: у него и толк, и ум — всё отняла тоска.
Покой и мир утратил я, гнезда не создавал;
Ни капли сил нет у меня, всю кровь я потерял;
Тебя не видя, я дрожу, почти совсем пропал,
До утра в бденьи нахожусь, все ночи я не спал.
Тоскуя, надрываюсь я: наступит ли весна!
В печали, в думах по тебе душа изнурена.
Морозная, суровая — зима проведена;
Всё горе по тебе, всю скорбь изведал я сполна.
С упреком говорили мне: „Зачем страдать любя!
Ты — раб! Царица всех цветов полюбит ли тебя!"»
И отвечала роза так, когда закончил чтец:
«Отправлю множество цветов к нему я, наконец,
Да скрасят горы, и поля, и за дворцом дворец,
Чтоб с радостью среди цветов мог обитать певец.
Мне ехать не пришла пора, немного подожду.
Пусть подождет и соловей немногих дней чреду,
Что высока его любовь — не подлежит суду.
Ему скажите, чтоб меня он поискал в саду».
Услышав это, соловей стал очень ликовать,
Сказал: «Благую нынче весть мне довелось узнать:
Прелестнейшая роза — в сад вернется к нам опять.
С единой розой твари все возможно ли равнять!»
Поднялось солнце в небеса и до Овна дошло.
Вдруг туча на небе росой взгремела тяжело,
И тысяч тысяча цветов внезапно возросло,
Но розы, хоть искал певец, там не было назло.
Зеленой розы лист потом он заприметил вдруг,
Она была еще светлей и ярче всех подруг, —
278
За завесой, на трон воссев, обозревала луг,
И били, как рабы, челом ей все цветы вокруг.
«О боже! — молвил соловей, — тебя благодарю!
Все славят господа уста, и я хвалой горю.
Всё славословье вознесем небесному царю!
Я розу меж кустов узрел в счастливую зарю».
Опомнись, Ахтамарец, ты! в стихах не суесловь!
Припомни, что колючий шип — здесь, на земле, любовь:
На слезы обречет и скорбь, согрев недолго кровь.
Что проку в радости, когда — потом рыдать нам вновь!
149. ПЕСНЯ ЛЮБВИ
Цветут цветы в моем саду,
На счастье мне иль на беду?
В моем саду благоуханном,
Желанная, тебя я жду.
В твоей груди таится мед,
Речь сладостная с губ течет.
Мне видится твое сиянье,
Мне душу ожиданье жжет.
Один я, нету мне пути,
Мне в мире счастья не найти.
Своей непостижимой тайной
Мой ум смятенный просвети.
Я жду, как ждал в былые дни;
В моем саду, в его тени
Мы спрячемся, как в тайной келье,
Как будто в мире мы одни.
Твоим словам внимать хочу,
И стан твой обнимать хочу.
Украдкой поцелуй твой сладкий
С горящих губ сорвать хочу.
279
Пусть мне ослепнуть суждено,
Твой лик увижу всё равно.
В моей душе твое сиянье
Навечно запечатлено.
И ты меня своим огнем
Воспламени — и мы вдвоем
Ввысь вознесемся на мгновенье
И рай небесный обретем.
Пока не стар, пока я жив,
Прошу — услышь ты мой призыв.
Взываю я, к тебе, далекой,
Свой взор молящий устремив.
Любовью ли наказан я,
На царство ли помазан я —
Не знаю, но своей любовью
К твоей любви привязан я.
Ты ладан иль цветок живой,
Сабур ты, мак ли луговой —
Весь этот мир тобой наполнен
И все опьянены тобой.
Алмаз ты или же топаз?
Ты блеском ослепила нас,
И все сердца тревожно бьются,
И слезы капают из глаз.
Владычица моей души,
Ты эти слезы осуши,
Ты — благодатный ветер южный,
Цветок, раскрывшийся в тиши.
Моя целебная вода,
Жемчужно-светлая звезда,
Ты в сердце мне тайком проникла
И там осталась навсегда.
280
150. ТЫ — РАЙ ДЛЯ МЕНЯ
Ты — рай, что расцвел в начале времен.
Где солнца восход, раскинулся он.
Цветов и плодов сияние тут,
Сюда серафимы вход стерегут.
Ты — солнечный глаз, дарящий лучи,
Ты — шаг полнолунья, тихий в ночи.
Мерцанье звезды, блеск росы с утра,
Теплого юга благие ветра.
Ты — жемчуг среди сапфиров, на дне
Морей затаившийся в глубине
И вынесенный пловцом из волны;
Ты яхонт, ты изумруд без цены.
Величье небес, красота миров
И благоразумие — твой покров.
Ты — мирт, кипарис, янтарь и сандал,
Я б розой тебя раскрытой назвал.
Ты — цвет лимонный. В полуночный час
Я встал и бродил. Ты светоч для глаз,
Мой нард и шафран. Мы вместе пойдем,
Вино я припас, и открыт мой дом.
Ты — золото и серебро. Смотря
На косы из черного янтаря,
Смотря на тебя, кто вздыхать с тоской
Не станет, утратив души покой?
Калиса лист, апельсина цветок,
Ты — пальма, шафрана свежий росток!
Павлиньего переливы крыла,
Ты столько мне радости принесла!
Ты — лилий благоуханье и роз,
Ты — дол, что цветами щедро зарос,
Фиалка, мускус, нарцисс, нунуфар,
Ты — ладан, ты средоточие чар.
281
Разбит над тобой зеленый шатер,
Стою и руки к тебе я простер.
Уходишь — и вздохи теснят опять.
О, поговори и рядом присядь!
Волнуюсь всегда — и ночью и днем,
Где б ни был — вне дома я или в нем,
Желаний трепет в груди не уйму,
Тоскую по образу твоему.
Ахтамарци, о нет, не пустословь.
Что жизнь? Только прах. Вспомни это вновь:
Ты раб добровольный, ты славишь грех,
И будешь унижен ты больше всех.
151. ПЕСНЯ
(Борьба духа и плоти)
Вечно телом душа стеснена;
В непрестанных стенаньях, она
Богу молится, слез не тая:
«Рассуди, справедливый судья».
Бог меня сотворил, и закон
Заповедал мне, грешному, он:
Пусть не делят раздор и вражда
Душу с телом моим никогда.
Но я сам для себя стал судьей,
Потому суд неправеден мой.
Дерзость люди взрастили в сердцах,
Потеряли к создателю страх.
Говорю я теперь: горе мне.
Нет душе исцеленья. В огне
Одинокая будет страдать,
Призывая Христа благодать.
Я измучен обильем грехов,
Я дрожу. Мне не сбросить оков.
282
И враждует с душой моей плоть,
И друг друга хотят побороть.
Я покоя найти не могу.
Как бродяга, всё в том же кругу
Я блуждаю. Хоть на два бы дня
Кров и отдых нашлись для меня!
О Григорис, когда, не боясь,
Ты отмыл бы греховную грязь!
Излечись, разве время для сна?
Мир наш — тление, жизнь непрочна;
Смерти день приближается. Где
Врач твой, где исцеленье в беде?
Завтра явится Вестник в пути
И прикажет отсюда уйти.
283
НААПЕТ КУЧАК
(XVI век)
152
О ночь, продлись! останься, мгла! стань годом, если можешь, ты!
Ведь милая ко мне пришла! стань веком, если можешь, ты!
Помедли, утра грозный час! ведь игры двух тревожишь ты!
Где радость? в скорбь ты клонишь нас! ты сладость гонишь темноты!
153
«На кровле ты легла уснуть, твоя созвездьям светит грудь,
Позволь же мне к тебе прильнуть, иль укажи домой мне путь!»
— «Тебе нельзя со мной уснуть, нельзя и дома отдохнуть,
Но так дрожи и жди, пока — захочет утра свет блеснуть!»
154
Ты в мире — перстень золотой, а я — алмаз на нем;
Ты — зелень, нежащая пруд, а я — росинка днем;
Ты — яблочко, что берегут, я — лист в венце твоем;
И я, когда тебя сорвут, иссохну под лучом.
284
155
В ту долгую ночь лишь раз, лишь два я прялку повернуть могла,
Мне вспомнился желанный яр, я встала, пряжу убрала,
И, сладким ковш налив вином, я к двери яра подошла:
«Желанный яр! Открой мне дверь! Стою в снегу, дай мне тепла!»
156
Ты хвалишься, луна небес, что озарен весь мир тобой.
Но вот луна земная — здесь, в моих объятьях и со мной!
Не веришь? я могу поднять покров над дивной красотой,
Но страшно: влюбишься и ты и целый мир накажешь тьмой!
157
Идя близ церкви, видел я, у гроба ряд зажженных свеч:
То юношу во гроб любовь заставила до срока лечь.
Шептали свечи, воск струя, и грустную я слышал речь:
«Он от любви страдал, а нам — должно то пламя сердце жечь!»
158
Как красиво расцветали все кусты в бахче моей!
Но цветы похитил кто-то, льются слезы из очей.
Я мечусь, как перепелка, потерявшая детей.
Сеть свою скорей раскинь, чтоб запутался я в ней.
285
159
Ты сказала: «Я твоя!» Неужели это — ложь?
Ты закаялась любить! Иль иного ты найдешь?
Мне такое будет горе, что к иному ты прильнешь
И к следам моих лобзаний ты уста его прижмешь!
160
«Высоко ты ходишь, — милой передай привет, луна!»
— «Передам привет я милой, но не знаю, где она».
— «Видишь дерево в саду, где высокая стена? Пьет из чаши голубой там под деревом она
И армянской речью славит сладость ласки и вина».
161
Спорят с морем под Месрой эти очи глубиной,
Эти кудри разметались ветром зыблемой волной.
Возросла ты, точно ива, ты — как яблок наливной.
Ты наполнишь ароматом белой розы мир земной.
162
Когда ты была моей, на деревьях листва была!
К другим ты теперь ушла, — снег лежит, где листва была!
Вернись, образумься, друг; будь снова здесь, как была, —
Я солнцем встану сам: будет свет, где тень была!
163
Взяли милой моей портрет, по стране вдаль понесли,
Всех людей расспросили — нет, равного не нашли,
И шесть тысяч пятьсот живописцев со всей земли
Даже тени подобного изобразить не могли!
286
164
С той поры, как рожден на свет, мне спасенья в молитвах нет.
И пускай священник зовет — сворочу, не пойду вослед.
А красавица поглядит — славословлю и шлю привет.
У колен ее — мой алтарь, я грудям ее дал обет.
165
Ты журчишь между скал, ручей. Из какой ты страны, из чьей?
Мне в ущелье не видно струй, только всё голосок звончей.
Видно, ты любовью богат — всё спешишь к любимой, ручей.
На чужбине, видно, любовь — мчишься к ней и не спишь ночей.
166
Мне б глядеть на твой нежный лик, озаренный лучом луны.
Целовать бы в губы тебя, — они сладким вином пьяны.
В темно-синих твоих глазах — перелив и качанье волн.
Словно розовый венчик, рот благовонной росою полн.
167
Я молод, ты молода: нам любовь — для счастья и мук.
Твой стан — словно лук. Но нет, уступает в гибкости лук.
Соски твои — виноград, грудь твоя подобна заре:
Чем больше ее открыть — тем светлее станет вокруг,
168
Глаза твои — океан, брови сумрачней облаков.
Взяла ты румянец щек у розовых лепестков.
287
Куда б ни явилась ты — там свеч не надобно жечь.
Сияньем твоих грудей воскрешаешь ты мертвецов.
169
Откуда ты пришла в мой дом, я был с тобою незнаком!
Огонь был в рукаве твоем, теперь я сам горю огнем,
Ты золото любви тайком расплавила в огне своем,
Чтоб сердце мне окольцевать, как птицу, золотым кольцом.
170
Взгляни на тяжелый камень, одумайся, ради бога:
Как этот камень ни крепок — уступит воде дорогу.
Воде жернова покорны, хоть весу в жернове много,
А сердце — комочек малый, его ли осудим строго!
171
Я избит из-за тебя так, что обнажились кости,
Шелком рану врач зашил, след искать — и думать бросьте.
Изломайте хоть всего — дотащусь я к милой в гости,
Приложусь щекой к щеке — и не станет в сердце злости.
172
Скучал я смертельной скукой, томила меня тоска,
И вдруг тебя, дорогая, увидел издалека,
Обрадовался, как путник журчанию родника,
Припасть бы к нему губами: ведь жажда так велика.
173
Милая, если позволишь платье твое расстегнуть —
Я с твоего разрешенья в сад превращу твою грудь,
288
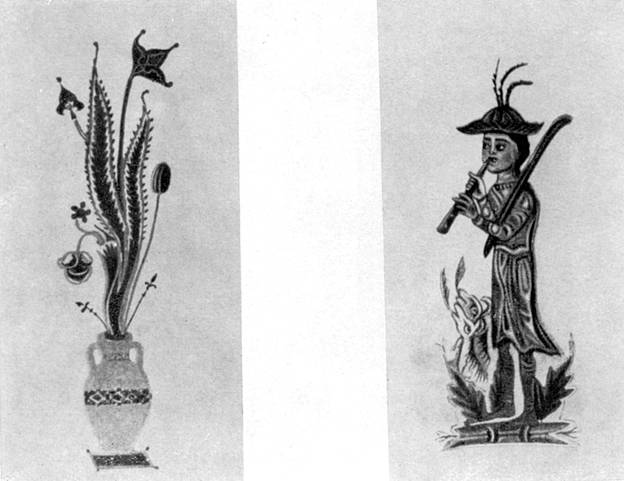
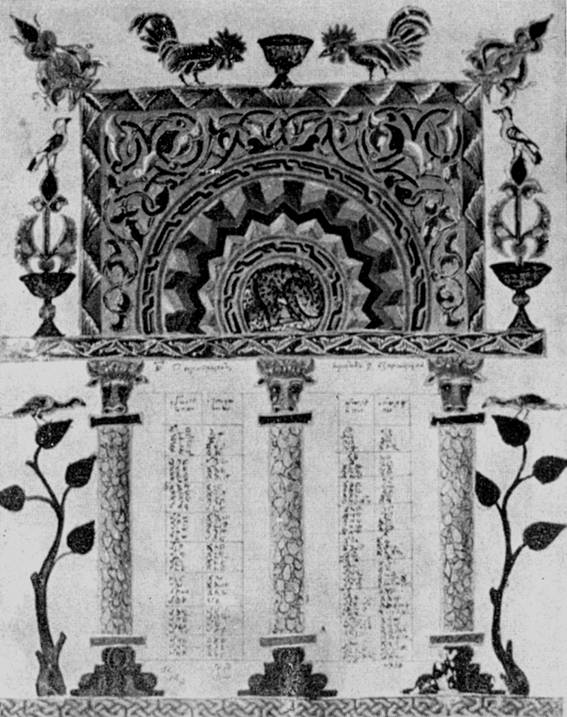
Благословлять его стану, в этом уверена будь,
Сам сатана не посмеет смертью прервать этот путь.
174
Твердили мне: «Красавец наш», — когда я рос в семье родной,
Но побледнел я и поблек от встреч с гордячкою одной.
Любовь и камень раздробит, проверено всё это мной,
Отгородитесь от нее стеной железной иль стальной.
175
Белогрудой красоте платье синее идет,
Пуговицы расстегнет — юношу с ума сведет.
Пусть красильщик ни один синей краски не найдет,
Чтоб ей в синем не ходить, не сводить с ума народ.
176
«Что возьмешь за поцелуй, молви, дивное созданье?»
Усмехнулась: «А твое велико ли достоянье?
Если хочешь заплатить, не получишь ты лобзанья,
Если любишь горячо — утолю твое желанье».
177
Шла она с другим, болтая по привычке к многословью,
Жалуясь ему на что-то, поводя сердито бровью.
«Бог с ней, — сердце подсказало, — отойди не прекословя,
Ведь любовь по принужденью не считается любовью».
178
Я вздыхал, ища напрасно сладостной любви утех,
Вздох мой к облакам поднялся, и пошел при этом снег;
На голову мне свалился, но откуда летом снег?
Лишь меня он осыпает или падает на всех?
289
179
Ручною птицей на земле я подбирать зерно не мог,
Под облаками я летал, чтоб не настиг жестокий рок,
Но всюду — западня любви, и я себя не уберег:
Не только ноги, как другим, — опутал крылья мне силок.
180
Я решил уйти подальше, чтоб с любовью разлучиться,
Но в пути любовь успела в жаркий пламень превратиться.
Если кто огня желает — я могу им поделиться,
Множество сердец несчастных опалит одна зарница.
181
В мире две великих силы: смерть и скорбь любви земной.
Влюбишься, потом уносит ангел смерти в мир иной,
Ну, а мертвые не плачут, скрытые сырой землей.
Кто же этот несчастливец? Он ни мертвый, ни живой.
182
Люди пришли и сказали: «Стал твой любимый монахом».
В недоуменьи безмолвном я размышляю со страхом:
«Как он смирится с горохом — сладкое ел на пирах он,
Как власяницу наденет — к тонким привык он рубахам?!»
183
Вино твоего румянца мне пить бы опять, опять.
Библейский рай — твое тело, ах, яблоко бы сорвать!
Уснуть на груди прекрасной — не высшая ли благодать?
За это ангелу смерти не жалко мне долг отдать.
290
181
Вышла из-за гор луна с голубой звездою вместе,
Обнял я мою любовь — грусть ушла с бедою вместе.
Бог сказал: «Люби ее, говорю тебе по чести!
Я не создавал ведь двух — равных красотою — вместе».
185
Шла в церковь милая моя, я преградил дорогу.
«Стой, не угодны, — говорю, — твои молитвы богу,
Сам за тебя я помолюсь у божьего порога,
Лоб расшибу, коль ты меня полюбишь хоть немного».
186
Пришел по делу, вышла ты, и я забыл о деле,
И шагу не могу ступить, и руки онемели.
Ну что ты делаешь с людьми, чтоб двинуться не смели?
Любил не раз я — в первый раз не достигаю цели.
187
Гляну вниз иль гляну вверх я — краше не найду,
Затмеваешь ты подругу, как луна звезду.
Поздравляют с Новым годом только раз в году,
А меня сто раз поздравьте — к милой я иду.
188
Ты — пальмовое деревцо с негнущимся стволом,
Твоим павлином сделаюсь, построю тут же дом,
Нарву цветов, целебных трав в горах, в лесу густом,
Других домов не надо нам — мы станем жить в моем.
291
189
Я вышел ночью за вином, держа кувшин в руке,
Навстречу милая идет: «Что толку в кабачке?
Пойдем ко мне: горю свечой, истаяла в тоске,
Слезами обливаюсь я, их — что воды в реке».
190
Я увидел на веревке выстиранное белье,
Средь белья висит рубашка — сердце замерло мое.
Рукава расшиты шелком, на груди еще шитье...
Ах, купить ценою жизни мне б владелицу ее!
191
Шла любимая из бани, раскрасневшись от тепла.
На нее глядели люди, позабыв свои дела.
Чуть откинув покрывало, черной бровью повела:
Мол, иди, дружок, спокойно, а ночная ляжет мгла —
Приходи, — скупой на ласки никогда я не была.
192
Если б та, чей стан свободно перехвачен пояском,
Бедною была, а я бы не был жалким бедняком —
Тысячу монет бы отдал, распростившись с кошельком!
За три родинки на щечках приплатил бы я тайком —
Стоит каждая алмаза и свиданья вечерком.
193
Я смертно по тебе тоскую, и стоишь ты того.
Зависит жизнь моя от часа прихода твоего.
Порой бывает долговечным земное существо,
Но долгий век без милой сердцу не стоит ничего.
292
194
«Вот гранат, разрежь, ты видишь, сколько зернышек внутри, —
За зерно по поцелую, лишнего мне не дари».
— «Я тебя считала умным, уходи и не дури.
Это слыханное ль дело — целоваться до зари?!»
195
Благословен ушедший с милой за дальний перевал.
Мост перешли они, и тотчас тот мост разрушил шквал;
Засыпало следы их снегом, буран забушевал...
Он взял ее лицо в ладони и — днем — поцеловал.
196
«Из чего ты создана? Из рубина, изумруда?
Мылась розовой водой из какого ты сосуда?»
— «Если это обо мне, я и вправду белогруда,
Пуговицы расстегну — погляди-ка, что за чудо!»
197
Как-то из дому я вышел, хмель в крови моей играл,
Вдруг за пазухой у милой яблоки я увидал.
А она потом сказала: «Лучшие унес, бахвал!»
Ну и что же тут такого, не насильно я их взял!
198
Выбери четверостишье, что на ум тебе придет,
Говори про наше время, про людей, про жизни ход,
Только не хули без смысла бездомовников-сирот,
Полагая, что скитальцы — необидчивый народ.
293
199
Если б стало чернилами всё бесконечное море,
Тростники всех болот стали перьями б, с лучшими споря, —
Все монахи Стамбула, и Рима, и наших нагорий,
Мудрецы Хоросана, чтецы — будь хоть все они в сборе —
Не смогли бы прочесть эту длинную летопись горя.
200
Обращаюсь я к творцу: сохрани ушедших вдаль!
На чужбине милый мой — велика моя печаль,
Пусть вернется, без него никому меня не жаль.
С плотью плоть соедини, сердце к сердцу ты причаль.
201
Худо стать бедняком, распроститься с богатством своим,
Разлучиться с семьей и скитаться по странам чужим,
Встретив ту, что любил, отвернуться со вздохом глухим.
Да о чем говорить! Если дерево стало сухим —
Опадает листва, не отыщется тени под ним.
202
Самым худшим из проклятий проклинала сына мать:
«Уходи в края чужие, чтоб навек скитальцем стать,
С твердым камнем в изголовье на песке ты будешь спать,
Встанешь рано и припомнишь отчей кровли благодать».
203
Ежечасно сокрушаюсь о скитальчестве своем.
Протекаю по чужбине тихо плещущим ручьем.
Где останусь, где иссякну — знает лишь творец о том.
294
Кто на шею крест наденет, осенив чело крестом?
Кем-то брошенной стрелою падаю бесцельно днем
И лежу пустым колчаном в горьком сумраке ночном.
204
Обидевший скитальца пусть станет сам таким,
Пускай поймет, что значит под небом жить чужим.
Хотя дождем там будешь осыпан золотым —
Всё будет вспоминаться родных селений дым.
205
Яблоки прячешь ты целый год за пазухой, на груди,
Я оставался в своем селе, не думал, что впереди.
Девушка с верхней улицы вдруг сказала: «Ко мне приди,
Будешь всю ночь в объятьях моих, а в край чужой не ходи».
206
Жалок тот, кто, имея немало родных и семью,
Сам от них оторвался и жизнь омрачает свою.
Все по праздникам вместе, как будто в цветущем раю,
Он же сломанной веткой иссохнет в пустынном краю.
207
Цари, князья, врата закона, властители земли,
Вы, злых начальников поставив, скрываетесь вдали.
Пришли к вам те, кого на горе, на смерть вы обрекли.
Подумайте, они не к богу — к вам с жалобой пришли!
295
208
Спросили мудреца: «Скажи, ты знаешь или нет,
Зачем при теле душу дал творец, создавший свет?»
— «Возможно, чтоб людей поднять превыше зол и бед,
Иль душу в тело он вложил, как в перстень самоцвет».
209
Я странствовал. Как в зеркале увидел мир. И что ж?
Вернувшись, понял: по сердцу в нем друга не найдешь.
С кем хлеб и соль разделишь ты, с кем чашу разопьешь?
Все люди изолгались так, что стала правдой ложь.
210
Цари, султаны, все, кому пришлось высоко сесть, —
Стоят рабы, стоят войска, вам воздавая честь.
Законы грозные у вас, повсюду ложь и лесть.
Вершите свой неправый суд — над вами высший есть!
211
Абрикосами, инжиром радуют деревья в срок.
Без плодов красива ива, но какой же в этом прок?
Часто любят молчаливо, но какой же в этом прок?
Умереть, любя, не диво, но какой же в этом прок?
212
От долгих раздумий растут и печаль и забота,
И сахар не сладок, и жжется вода отчего-то,
И таешь свечою, страшась до холодного пота,
Жизнь так непосильно трудна, что и жить неохота.
296
213
Приносит зло и белое и красное вино.
С тех пор как стал я пьянствовать — вокруг темным-темно.
Но видел и непьющих я, им счастья не дано:
Хоть день и ночь работают — нет денег всё равно.
214
Невинным агнцем был рожден я матерью моею
И вынут из купели был жемчужины светлее.
Я вырос, грешником я стал, погряз в грехах по шею.
Как это сделал сатана — понятья не имею.
215
Запомни сказанное мной, внимательно прослушай,
Совет мой в серьги преврати и вдень скорее в уши:
С тем, кто болтает о тебе, всегда держись посуше —
Стрелу метнувши, прячут лук завистливые души.
216
Душа моя ушла из тела, и горько плакал я:
«Душа, куда ты улетела, в тебе вся жизнь моя».
— «Я думала, что ты умнее, безумна речь твоя:
Когда разрушен дом, хозяин уходит из жилья».
217
Вот что мне в голову пришло, спасибо мысли за приход:
Какое дело до невежд тому, кого признал народ!
Похож невежда на огонь — где упадет, там и сожжет,
А умный — чистая вода, где ни пройдет — всё зацветет.
297
218
Клеветы человеческой пуще всего берегись.
Научи меня, господи, как от нее мне спастись.
Лев бежит от злоречия, прячется хищная рысь,
И орел поднимается в неомраченную высь.
219
Бог, создавший людей для счастья,
Не бросай меня в пламя страсти!
Ну, а бросишь, так пожалей —
Защити от другой напасти:
Огради от суда людей,
А не можешь — скорей убей,
Ибо, чем от позора пасть мне,
Лучше пасть от руки твоей!
220
Не нужна ты мне, не нужна,
Мне с тобой ни покоя, ни сна,
Обожгла ты меня стрелою
И осталась сама холодна.
Скажут мне: ты стала водою —
Пить не буду, рук не омою;
Скажут мне: ты стала лозою —
Не коснусь твоего вина.
221
Пред тобою я, мой желанный,
Скатерть белую расстелю,
Куропатку с кожей румяной
Соком сливовым оболью,
И напиток хмельной и пряный
Я в две чаши для нас налью.
298
Облекусь в наряд тонкотканый,
Чтобы ты за дымкой туманной
Видел белую грудь мою.
222
Как нам быть — все про нас говорят.
Разве грех, если мы полюбили?
Что ж наш рай превращают в ад?
Где появимся я ли, ты ли —
Вслед глядят, источают яд.
В чем грешны мы, что преступили?
Полюбили мы — не убили,
Так чего же от нас хотят?
223
Ночью вышел я из ворот,
Чтоб увидеть свою дорогую, —
Ангел смерти стоит и ждет...
«Жизнь мою пожалей молодую,
Избери ты жертву другую.
Там напротив старик живет.
Наливает он влагу хмельную,
Держит чашу, а сам не пьет.
Он красавицу не целует
И другим целовать не дает!»
224
Я по белому свету ходил
И мечтал, что раньше иль позже
Стану я красавице мил —
Той, кого никто не пленил.
Зря я мучился свыше сил:
Ты лежала на чьем-то ложе,
Кто-то бросил тебя; и что же,
Я нашел тебя, полюбил.
299
225
Я ошибся, пожалуй, в одном —
Подрядился к любви пастухом.
Думал, будет любовь и в ненастье
Согревать мой холодный дом.
Взгляд мой слезы кровавые застят,
Сердце жарким горит огнем,
И в любви не нашел я счастья,
Счастья, может быть, нет ни в чем.
226
Мой любимый, ты всё не со мною.
Но тебя я верну, погоди,
Окружу глухою стеною
И запру, словно сердце в груди!
И тогда снисхожденья не жди.
Я сожгу все мосты под луною,
Все мосты, что уже за спиною,
Все мосты, что еще впереди!
227
Как завидую я лампадам:
То погаснут они, то горят.
Подожженный пламенным взглядом,
Я горю много дней подряд.
Мой огонь не уходит чадом,
Погасить — он погаснет навряд.
Может быть, и гасить не надо,
Жизнь моя мне кажется адом.
Догорю — и кончится ад.
228
Белогрудая в кофте белой,
По груди твоей нежной, незрелой
300
Я рукою легко скользнул,
Я губами к губам прильнул,
И в глазах у меня потемнело.
Поднял руки я: «Боже, сделай,
Чтобы я на груди этой белой
Вечным сном блаженно уснул!»
229
Милый мой, мне принесший зло,
Свет мой ясный, быстрей — в седло.
Скройся прочь, чтоб мое проклятье
Поразить тебя не могло!
230
Ах, любовь, с тобой пропадешь.
Ты мне в сердце вошла, как нож.
Нож наткнулся на что-то, согнулся,
И не вынешь, не разогнешь.
231
Говорил я сто раз подряд:
«Сшейте милой моей наряд.
Верх из солнышка ей скроите,
Лунный свет пойдет на подклад.
Облака на подбивку возьмите,
Звезды яркие прикрепите
Вместо пуговиц — пусть горят.
Петли жилами обмечите,
Из меня все жилы тяните —
Этой муке я буду рад!»
232
Всё опять началось сначала.
Подошла ты, слово сказала —
301
И пронзила меня стрела.
Разве мук моих было мало?
Иль бездушна ты, как скала?
Помолчав, ты мне отвечала:
«Погляди, я безумной стала.
Страсть твоя и меня сожгла».
233
Ты пронзила мне грудь стрелою,
Кровь сочится из раны моей.
Сжальтесь, юноши, надо мною,
Позовите ко мне лекарей —
Пусть меня исцелят скорей,
Иль глаза я навек закрою,
И тогда скажут люди с тоскою:
«Он погиб от любви своей!»
234
В эту ночь я блюла закон;
Я спала на холодном ложе,
И луна, озарив небосклон,
Одиноко дремала тоже.
И приснился мне сладкий сон:
Тот явился, кто всех дороже.
Я проснулась, исчез и он.
Сны, как жизнь, мгновенны, о боже!
235
Шел я вечером — было темно,
Лишь одно светилось окно
И открытыми двери были.
Я вошел; ты густое вино
Наливала из полной бутыли.
И сказал я, что думал давно:
«Выпей, милая, лишь за одно:
Чтоб мы вечно друг друга любили!»
302
236
Я, как всякая птица, дика.
Я твоя, коль удержит рука.
А упустишь — в небе растаю
Иль смешаюсь с чужою стаей,
Не узнаешь издалека.
В клетку вновь ты меня не заманишь,
Станешь ладить силок — не обманешь,
Не боюсь твоего силка.
237
О, гордячка моя непреклонная,
День мой горький и ночь бессонная,
Как желанны мне губы твои!
Сколько можно пытать влюбленного?
Сколько можно сжигать сожженного?
От меня ты себя не таи
Иль сама для меня, обреченного,
Белый саван скорее скрои!
238
Что ты белые щеки румянишь,
Что ты жжешь меня, что ты манишь?
Что ты речь бровями ведешь,
То нечаянно в душу заглянешь,
То намеренно взгляд отведешь,
То вдруг пуговицу расстегнешь,
Белой кожей блеснешь и ранишь?
Знаю: ты всё равно обманешь —
Навсегда от меня уйдешь.
239
Шел по улице неторопливо,
А навстречу мне милая шла,
Опустивши глаза стыдливо.
303
Подбежал я — была ни была, —
Обнял милую нетерпеливо.
Зашептала она боязливо:
«На виду, среди бела дня
Для чего позоришь меня?»
240
Я опился, но не вином,
Распалился, но не огнем.
От любви душа опьянела,
От любви мое сердце сгорело.
Я стою под твоим окном.
Вышла ты ко мне оробело,
А меня не пускаешь в дом.
Для чего ж два яблока зрело
Под твоим голубым платком!
Тронуть их рука захотела,
Ты заплакала: «Люди кругом.
Целоваться днем разве дело!
Ты меня поцелуешь смело
Сотню раз во мраке ночном».
241
Ловчий сокол я с красным кольцом,
Ты — залетная голубица.
Я заметил твой след с трудом,
Я ловлю — ты не хочешь ловиться.
Человеческим языком
Говоришь ты: «Что зря трудиться?
Не охоться за мною днем:
Будет ночь, я — ночная птица!»
242
«Что, бедняжка, ты так бледна?
Чем ты тяжко удручена?
Разве друг твой погиб на чужбине
И осталась ты в мире одна?»
304
— «Нет, совсем по другой причине
Я лишилась покоя и сна.
Душу я потеряла, и ныне
Без души мне жизнь не нужна».
243
Ой вы горы, ой серые скалы,
Я любимого потеряла!
Ой луга, ой трава и цветы,
Не на ваше ль он лег покрывало?
Ой тропинки, дороги, мосты,
Не прошел ли он здесь, как бывало?
Он ушел, я спала, не слыхала —
Были сны мои слишком чисты!
244
Я в любви, как ребенок малый,
Силой отнятый от груди.
Погляди, что со мною сталось,
Погоди уходить, пощади!
Ничего у меня не осталось,
Только тьма и тьма впереди.
Пожалей хоть самую малость:
Дай воды, мой жар остуди!
245
Эх, глаза, мне бы выжечь вас
Без пощады железом каленым;
Лучше тьма — мне не нужно глаз,
Что на милого смотрят влюбленно.
Мне б язык отрезать сейчас,
Чтобы слов не болтал затаенных.
Мне бы сердце пронзить сто раз,
Чтоб не билось оно исступленно,
Обреченно, как в смертный час.
305
246
Говорят, что любовь на земле
Нам и горе приносит и радость,
В ней соседствуют, как в миндале,
Горечь сладкая, горькая сладость.
В горький час я тебя полюбил,
Мне любовь эта горькая в тягость.
Пожалей, больше нет моих сил,
Дай познать мне сладчайшую радость.
247
Словно лавка с товаром красным
Грудь твоя: там — и шелк и атлас.
Мне бы этим добром прекрасным,
Став купцом, завладеть сейчас,
Чтоб лежать на ложе атласном,
Не смыкать до рассвета глаз.
248
Сердцу жаловались глаза:
«В миг, когда ты добьешься счастья,
От обиды нас жжет слеза,
Нас клянут, нам сулят напасти».
Отвечало сердце глазам:
«Не лукавьте, я в вашей власти:
Что не может понравиться вам,
Не внушит мне горячей страсти».
249
Непослушным глазам своим
Я сказал, как родитель детям:
«Тленен мир, красота его — дым,
Не пленяйтесь вы миром этим».
306
— «Горе нам с мудрецом таким, —
Отвечали глаза возмущенно, —
Лучше вовсе пусть будет слепым
Человек, что не смотрит влюбленно
Вслед красавицам молодым!»
250
О миндаль, над твоей головой
Ветер дул и дожди проливались.
Ветви редкой покрыты листвой,
Цвет опал, лишь орехи остались.
Сколько слез в день рождения свой
Пролила ты, а все улыбались.
Так пройди же ты путь свой земной,
Чтобы, взыскана доброй молвой,
Улыбалась ты в час роковой
И слезами бы все обливались.
251
Говорят у нас горожане,
Что замужних любить — не расчет.
Суесловить весь город станет,
Стыд-позор на тебя падет.
А жена, что мужа обманет,
На свиданье тайком пойдет,
И тебя любить перестанет,
Коль замену тебе найдет.
252
Ради бога, что создал нас,
Не играй своими бровями,
Пожалей, и лучами глаз
Не пронзай меня, как мечами.
Ради солнца, что светит над нами,
Не ввергай мое сердце в пламя.
Сирота я, и так что ни час,
Обливаюсь от боли слезами.
307
253
О царица, пусть будет воспета
Мать, что в муках тебя родила.
Ни луна, ни другая планета
Не светлей твоего чела.
Ты — денница, ты — утра примета,
Блещешь где-то во тьме облаков,
Темноту отлучаешь от света
Возле греческих берегов.
254
Где была ты, откуда пришла?
Если ты не посланница зла —
Отпусти меня, сделай милость!
Ты сожгла мое сердце дотла,
Ты в душе моей поселилась
И дороги назад не нашла,
Ты в сознаньи моем заблудилась,
Ты моими слезами текла.
255
Звезды, с неба сойдите прочь:
Всё равно мне — что день, что ночь!
Если есть от любви леченье,
Пусть мне лекарь придет помочь.
Пусть поможет боль превозмочь,
Облегчит, сколь может, мученья.
256
Нет пути ни назад, ни вперед —
Я стою у твоих ворот,
От меня отказались братья.
Пусть огонь, что не в силах унять я,
И тебя найдет и сожжет.
Ты меня заключи в объятья —
Или горе меня убьет,
308
И падет на тебя проклятье,
Божий гнев на тебя падет.
257
Ты — ловушка моя, западня,
Как хитро завлекла ты меня.
Ты лампады глаз засветила,
Промелькнула, серьгами звеня.
Из жемчужин занавес сшила.
Им от мира себя заслоня,
Ты пленила меня, покорила
И лишила светлого дня.
258
Я тебе надоел, ну что же!
Как прикажешь, тебе видней,
Твой покой моего дороже.
Ты — луна, я — туман над ней.
Я уйду, и тебе, быть может,
Станет легче на несколько дней,
Но потом тебя страх встревожит,
И тогда ты станешь умней.
259
Было слышно: вода рокочет,
Ветерок играет травой.
Но отрадней всех звуков прочих
Был мне голос моей дорогой.
Как безбожно любовь порочит
Тот, кто спит в этот час неземной,
Кто сберечь этой ночью хочет
Поцелуй для ночи другой.
309
260
Твердь небесная, твердь земная
Просветлели от края до края.
Ты встречала рассвета знак,
Из объятий моих ускользая.
Я молил, чтоб вернулся мрак,
Говорил: «Погоди, дорогая».
Но рассвет подкрался, как враг,
От меня тебя отрывая.
261
Черноброва ты, тонкостанна,
Лоб высокий, лицо румяно.
Белизну ты внутри несешь,
Грудь твоя словно два шамама, —
Что ж припасть мне к ней не даешь?
Ведь и ты уйдешь в край туманный,
В край, куда красоты не возьмешь.
Почему ж при жизни так странно
Ты со мною себя ведешь?
262
В мире этом, где боль гнездится,
Мне бы лучше ввек не родиться.
Я ж родился и полюбил
Ту, которой ничуть не мил.
С жизнью я готов распроститься,
Говорю: «Больше нету сил!» —
Лишь смеется моя царица.
Боже, что на земле творится!
Гибну я, хоть еще не жил.
310
263
Ах, чего от меня хотят,
Отчего без конца чернят?
Я люблю тебя, дорогого,
Что ж кольнуть меня норовят!
Если так — полюблю другого,
Буду всех я любить подряд.
И тогда пусть снова и снова
Говорят, говорят, говорят!
264
Кто солгал нам, что под луной
Нет нигде куропатки ручной?
Я одну увидал украдкой
И грущу о ней об одной.
Брови тонки, уста ее сладки,
А в глазах ее свет и зной.
Даже мертвого в жар лихорадки
Может бросить, чтоб тот без оглядки
Шел за ней дорогой земной.
265
Мне б рубашкою стать льняною,
Чтобы тело твое обтянуть,
Стать бы пуговкой золотою,
Чтобы к шее твоей прильнуть.
Мне бы влагою стать хмельною
Иль гранатовою водою,
Чтоб пролиться хоть каплей одною
На твою белоснежную грудь.
311
266
Ты — красива, ты — молода,
И твои поцелуи сладки,
Ты — как море, а море всегда
Исцеляет от лихорадки.
Вот нырнуть, поплыть без оглядки
И вернуться скорей сюда,
В тень ресниц твоих, чтоб украдкой
Задремать иль уснуть навсегда.
267
Месяц, месяц, куда ни пойду —
Ты повсюду, ты весь на виду.
Ты глядишь, как ночная птица,
На красавицу в белом саду.
Душно, жарко, милой не спится,
Расстегнуть ей одежды случится,
И твой свет от груди отразится
И любую затмит звезду.
268
Мне пред тем, как совсем рассвело,
У тебя задремать случилось.
Шум на кровлю к нам донесло,
Там стропило под кровлей бранилось:
«Наша скромница осрамилась!» —
Тут же с глаз моих сон смело.
Неужели и в дереве зло,
Как в людских сердцах, затаилось?
Это дерево в роще росло, —
Где злословию научилось?
312
269
Брови черные, грудь бела,
Как безжалостна ты и зла!
Если я умру, пусть считают,
Будто мать меня не родила.
Землю юноши покидают,
Чью дорогу ты перешла.
Иль не женщина ты земная,
А небесная кара злая,
Что на грешную землю сошла?
270
Замок твой на скале в лесу
Высотой пугает своею.
Я ль проникнуть туда не сумею,
Я ль твою не увижу красу?
Ни пред чем я не оробею,
Я крылами орла завладею,
Львиным сердцем и мудростью змея
Стены замка в прах разнесу.
Ты, любимая, будешь моею —
Иль отчаяния не снесу.
271
«Ты не яблочко ли румяное,
Не пора ли тебя сорвать?
Белолицая, тонкостанная,
Не пора ли тебя целовать?
Но Евфрат — река окаянная —
Между мной и тобой опять».
— «Милый, речи твои туманные
Не могу я никак понять.
Я Евфрат перешла, как пьяная,
Я мосты сожгла деревянные,
Больше нечего мне терять!»
313
272
Что мне делать, скажи, ради бога,
Как мне быть с этой страстью земной?
Почему ты, моя недотрога,
Целоваться не хочешь со мной?
Говоришь, чтоб держал себя строго.
Но от этого я больной.
Будь щедрее ты хоть немного,
Жизнь не ждет: всё пройдет под луной...
273
Лишь глазами ты поведешь —
И меня залучишь ты в сети.
Ты кивнешь мне и бросишь в дрожь,
И пройдешь, как проходит ветер.
Как мне жить, я на тень похож.
Ты за участь мою в ответе.
Если ты ко мне не придешь —
Что мне делать на этом свете?
274
Стан твой тонок, ты высока,
Как тростиночка, ты гибка,
Говорят, что вода живая
Наподобие родника
Из груди твоей бьет, исцеляя
Всех, кто выпьет хоть полглотка.
Счастлив тот, кто пьет, припадая
К бугорку твоего соска!
275
Ты — жемчужина, ты — светла,
Сколько горя ты мне принесла!
Что с тобою — не знаю — будет:
Мать родная тебя продала.
314
Пусть в армянском краю осудят
Ту, что в муках тебя родила.
Пусть повсюду узнают люди,
Как ничтожна она и зла.
276
На земле, где мы все живем,
Только ангела смерти дом
Пусть провалится, испепелится,
Пусть хозяин погибнет в нем.
Стоит мне в кого-то влюбиться —
Ангел смерти, как злая птица,
Над любимым парит челом.
Я предвижу: скоро случится —
Надо мной он будет кружиться
И накроет своим крылом.
277
Дорогая, однажды тайком
Темной ночью проник я в твой дом.
Целовал тебя — ты улыбалась,
Ты спала слишком крепким сном
Или спящей только казалась —
Для меня это тайной осталось;
Но я часто думал потом,
Что ты спящею притворялась
И боялась признаться в том.
278
Я, влюбясь, изготовил чернила,
Я добавил к ним серебра,
И на руку твой образ милый
Я нанес острием пера.
315
Прижимаюсь к портрету милой,
Лишь наступит ночная пора.
Только это дает мне силы
Дотерпеть и дожить до утра.
279
Видишь, яблоня на пригорке?
Греет солнце ее сквозь туман.
Чтоб полить, принесу в ведерке
Я воды из реки Иордан.
Буду холить, следить буду зорко,
Чтоб мои не пропали труды,
Чтоб случилось однажды на зорьке
Мне сорвать дорогие плоды.
280
Ты — и яблоко, и — цветок.
Ждал, терпел я, покуда мог,
Но приходит конец терпенью,
Нету силы, я сердце сжег.
Твой обман — для меня мученье,
Лживость — худший людской порок.
И за это твое прегрешенье
От тебя отвернется бог.
281
Это яблоко, вижу, созрело.
Хоть созрело, да не сорвешь.
Лишь манит кожурой красно-белой,
Но терновник изранил мне тело,
Сквозь ограду его не пройдешь.
Стану воином, выйду смело,
Изрублю весь терновник сплошь
И пригублю плод этот спелый,
А потом — что с меня возьмешь!
316
282
Я страдаю, горю в огне.
Страшно солнцу сказать обо мне:
Может солнце навек закатиться.
Боль свою открою луне.
Если даже с ней что-то случится,
Хоть померкнет луна в вышине —
Через месяц опять обновится.
283
Тут старушка живет у нас,
Каждый шорох слышит, слепая,
Ей еще бы ослепнуть раз,
Иль оглохнуть, чтобы глухая
Не учуяла бы сейчас,
Как мой милый крадется, не зная,
Что старушка живет у нас.
284
Чахну, сохну который день я,
Нет в судьбе моей просветленья.
Ты хоть яблок мне принеси,
Окажи мне благоволенье,
О болезни моей расспроси.
Ты — болезнь моя и мученье,
Ты — и лекарь мой, и леченье,
Излечи меня, воскреси!
285
Пусть завидуют все кругом:
Нынче милый придет в мой дом.
Он придет, и в сердце моем
Разожжет горячее пламя.
317
Я друзей позову потом,
Чтоб они пировали с нами;
Море сделаю я вином,
Чаши винные — кораблями.
286
На любимую бросьте взгляд —
Как к лицу наряд ей зеленый!
На всех пуговицах подряд
Отблеск звездных лучей зеленый.
Обнялись и вошли мы в сад,
Там петляет ручей зеленый.
Там большие деревья стоят,
Цвет листвы и ветвей — зеленый.
287
Как исправить мне глупость мою?
Полюбил дочь змеи — змею.
Жизнь беспечно змее доверил,
Яд змеиный покорно пью.
Я стою у запертой двери,
Мать-змея жалит душу мою.
Чем обиду мою измерю?
Жалок тот, кто любит змею.
288
Спой мне песню, о спутник мой,
Скрась мне горе в дороге длинной,
Спой про месяц мне молодой,
Спой о ратной славе старинной.
Но о милой моей не пой,
Хоть ни в чем она не повинна.
Странник я на земле чужой,
А у странников сердце пустынно.
318
289
Боль и радость в сердце моем,
Я люблю тебя, дорогую.
Нет нам счастья, давай уйдем
Поскорее в страну другую.
Будем жить мы с тобой вдвоем,
Позабудем тревогу слепую.
Всё оставим: и отчий дом,
И врагов, и молву людскую.
280
Чье легло на меня проклятье?
Должен край родной покидать я.
Выйди, путь мой благослови.
Только год прошу тебя ждать я.
Год молись и меня зови!
Возвращусь я — кинься в объятья,
Не вернусь — сшей черное платье
В знак погибшей нашей любви!
291
Стал ручьем я по воле божьей,
Я по землям чужим бегу.
Я ищу на тебя похожих
И найти никак не могу.
Я подобной тебе, быть может,
Не найду на своем веку.
Выйду я из тесного ложа,
Кровью красною потеку.
292
Что я, глупая, натворила,
Проводила, кого любила,
На дорогу сама повела
И ущельям его поручила.
319
Я высокую гору молила,
Чтоб его оградила от зла.
Я сама себя погубила,
Сколько слез я потом пролила!
293
Милый твой в Алеппо живет.
Он глаза свои сделал весами,
Сделал брови свои рычагами,
Белый сахар он продает.
И красавиц, до сахара падких,
Он к лотку своему зовет.
Он за сладость берет то, что сладко, —
Поцелуи за сахар берет.
294
В плен меня увезли, мой брат.
Отпустили, а я не рад —
Для чего меня возвратили,
Если с милой меня разлучили,
И напрасен был мой возврат.
Жизнь мою на замок закрыли,
Ключ зарыли, как тайный клад.
Кузнецов на земле ослепили,
Ни вперед мне пути, ни назад.
295
Милый, как мне с тобой расстаться!
На пути твоем встану стеной.
Скажешь: «Я не могу остаться» —
И уйдешь, распростясь со мной.
О любимый, года промчатся.
На чужбине, о мой родной,
Будет сердце твое сжиматься,
Тосковать обо мне одной.
320
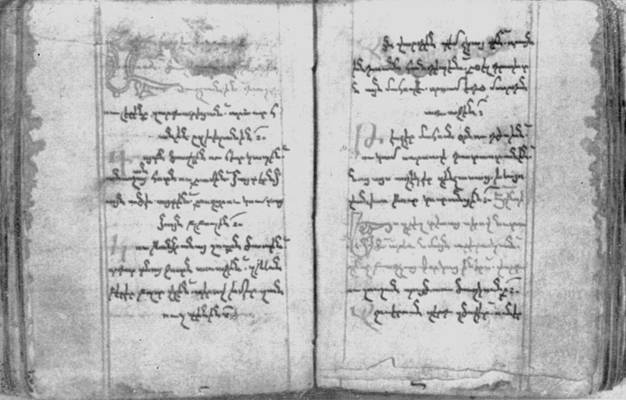
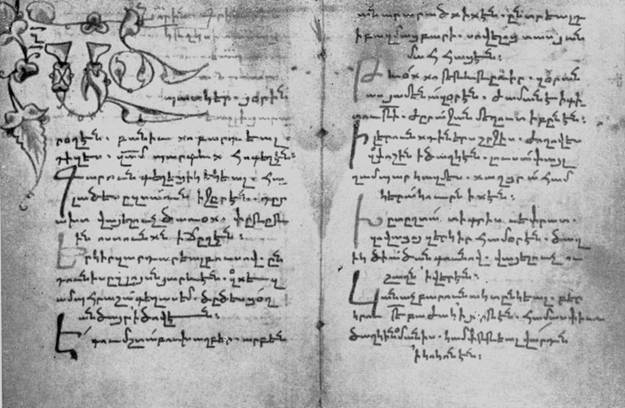
296
Я, как скала, крепка:
Не раздробить меня.
Как туча, высока:
Не покорить меня.
Пусть будет лук упруг
И богатырь стрелок,
Коль о любви моей
Он вдруг подумать мог.
297
Из дома выйди своего,
Как солнце из-за туч.
Сияй для взора моего,
Как саблевидный луч.
Святых отцов и то с пути
Глаза б твои свели.
Из дома отчего уйти
Готов, пропасть вдали.
298
Я спал, но чуткий слух
Настороже — всю ночь.
Запела птица вдруг,
Как милая, точь-в-точь.
Пел птичий голосок
Всё громче, всё грустней,
Не жалобы ль мои
Понятны стали ей?
299
Достался поцелуй
Мне в полуночной мгле,
Сладчайший из плодов,
Растущих на земле.
321
Был изгнан за обман
Адам из кущ густых.
Вот так и я лишен
Отныне ласк твоих.
300
«Грудь твоя — белоснежный храм,
А соски — как лампады в нем.
Позволь мне молиться там
И стать твоим звонарем».
— «Уйди. Легкомыслен ты,
Не стоишь лампад моих:
Мой храм среди темноты
Оставишь для игр других».
301
Видишь, как покраснела я,
Точно облачко в вышине.
Все на свете знают о том,
Как ты близок и дорог мне.
Виноваты мои глаза:
По тебе они слезы льют,
На других не глядят — тебя
Вовлекают в грех и зовут.
302
Вышел ночью навеселе,
Встретил милую у дверей.
Показалось, что грудь ее
Слаще яблочек и круглей.
Лишь дотронулся до груди,
Слышу: «С ветками всё унес!»
Но клянусь, я не силой брал,
Ни обид не хотел, ни слез.
322
303
Когда склонилась ты
Над нашим родником,
Луна с твоей груди
Скользнула вглубь тайком.
Завидую тому,
Кто ночью был с тобой,
Кто целовал тебя
В притихшей тьме ночной.
304
От любви пробежит по мне,
Как по листьям осенним, дрожь.
И покатятся по щекам
Слезы, словно весенний дождь.
Видишь: гибну. Пусти к себе.
Дай приют для моей души.
Тело к телу льнет твоему.
Как мне жить без тебя, скажи?
305
Я прозрачнее ладана стал,
Пожелтел, как шафран я, устал.
То ли так меня губит любовь,
То ли день моей смерти настал.
Зелье есть у тебя, говорят.
Дай вдохнуть мне его аромат,
Оживи меня — или умру,
И в убийстве тебя обвинят.
306
Думал, помнишь обо мне.
Так надеялся, любя.
Что же вижу: мой приход
Не обрадовал тебя.
323
Разве так любимых ждут?
Горю чем поможешь тут?
Ноги привели меня,
И они же уведут.
307
Поцелуй, обознавшись, просил
У дурнушки, но стала она
Говорить: «Опозорил меня!»
И ломалась: мол, ты мне немил.
Тут красавица крикнула мне:
«Что ты возишься с ней без конца?
На красавицу взор обрати,
Знаю, как оценить молодца».
308
Ясный месяц говорит:
«Я на странника похож,
На красавца твоего».
— «Месяц, месяц, это ложь.
Были черные глаза,
Брови черные, дугой,
Были ниточки усов
Золотые над губой».
309
Рос я деревцем в горах
С персиками на ветвях.
Из родной меня земли
В сад чужой перенесли.
Предлагали мне шербет,
Я шумел листвой в ответ:
Возвратите в край родной
С родниковою водой.
324
310
Не останусь здесь, прощай.
Уезжаю, не вернусь.
Византия далеко,
Но и там не задержусь.
А придут тебе сказать,
Где я, — буду вновь в пути.
В цепи закуют — порву
Цепи, чтоб тебя найти.
311
Ослепительный блеск
И огонь твоих глаз
Может реку поджечь
И разрушить Шираз.
Если в город Дамаск
Голос твой долетит, —
Кто услышит его,
По тебе загрустит.
312
Красавица, тебя господь
На радость нам сумел создать,
Одним лишь ты нехороша —
Не дашь себя поцеловать.
Все архипастыри земли,
Твоих наставников кляня,
Не понимают, почему
Тебе нельзя любить меня.
313
Эти волосы, брови и взгляд!
Умереть я за них был бы рад.
Пусть тебя лихорадит всю ночь,
Если ты не придешь ко мне в сад.
325
А придешь — и щекою к щеке
Я прильну, чтоб печали помочь,
Чтоб дыханье твое ощутить
У себя на душе в эту ночь.
314
Утром, выйдя за порог,
Я тобою ослеплен,
Ты подобна сотне лун,
Вышедших на небосклон.
Слышу я в ответ упрек:
«Любишь — и люби один,
А другому, видит бог,
Знать об этом нет причин».
315
Пророк Давид, тебя молю
Грехи мне отпустить.
Ту девушку, что я люблю,
Нельзя не полюбить.
Когда бы в келью среди тьмы
Вошла, как луч сквозь щель,
И ты б не стал читать псалмы,
А лег бы с ней в постель.
316
Художник кисть и краски взял,
Чтоб облик твой в веках сиял,
Но брови лишь нарисовал —
И обессилел и упал.
Не ожил под его рукой
Твой лик, душа твоя и плоть,
А я люблю тебя живой,
Какой тебя создал господь.
326
НЕРСЕС МОКАЦИ
(XVI — XVII века)
317. СПОР НЕБА И ЗЕМЛИ
Что краше и что могучей —
Земля или небосвод?
Небесное солнце и тучи
Иль блага земных щедрот?
Небо Земле сказало:
«Богатств у тебя немало,
Но в сумрак и ночью поздней
На небе мерцают звезды,
Сияют с моих высот».
Земля отвечала:
«Я тоже
Отмечена милостью божьей,
Владычица я не из бедных:
Шесть тысяч цветов разноцветных
В моих цветниках растет!»
Небо Земле сказало:
«Богатств на Земле немало,
Но дождь не польется с неба —
Не будет земного хлеба,
Земной не нальется плод».
Земля отвечала:
«Я тоже
Отмечена милостью божьей:
Все тучи рождает море —
327
Оно на земном просторе,
Земною влагой живет».
Небо Земле сказало:
«Богатств у тебя немало,
Но стоит мне рассердиться —
И солнце мое накалится,
И всё на земле сожжет».
Земля отвечала:
«Я тоже
Отмечена милостью божьей:
И в зной хлебопашцам на благо
Моих водоемов влага
Посевы в полях спасет».
Небо Земле сказало:
«Богатств у тебя немало,
Но стоит мне рассердиться —
Небесный град разразится
И все посевы побьет».
Земля отвечала:
«Я тоже
Отмечена милостью божьей.
Твой град не достигнет цели:
Мои поглотят ущелья
Всё, что с небес упадет!»
Небо Земле сказало:
«Богатств у тебя немало,
Но человек иль птица
По промыслу неба родится,
А их Земля приберет!»
Земля отвечала:
«Всё может
Вершиться по воле божьей.
И как бы я ни хотела,
Ничье не возьму я тело,
Коль Небо души не возьмет».
328
Небо Земле сказало:
«Богатств у тебя немало,
Но, свет неся несравненный,
Сонм ангелов благословенный
По Небу свершает полет».
Земля отвечала:
«Я тоже
Отмечена милостью божьей:
Апостолы и святые,
Они ведь — люди земные,
Их горе земное гнетет».
И Небо Земле сказало:
«Богатств у тебя немало,
Но всё же на Небе тот,
Чья власть над тобой и мною,
Кто высшее всё и земное
По воле своей создает».
Земля отвечала:
«И всё же
Я знаком отмечена божьим:
Суд страшный грешников ждет,
Внизу он вершиться будет,
На Землю спустятся судьи,
Небо на Землю падет».
И Небо в гордыне смирилось,
И Небо Земле поклонилось...
И вы, неразумные дети,
Скорее на этом свете
Воздайте Земле почет!
329
МАРТИРОС КРЫМЕЦИ
(ум. 1683)
318. ПЕСНЬ, ВОСХВАЛЯЮЩАЯ ГОРОД АМАСИЮ
Здесь, где горы снеговые,
Где к утесу льнет утес,
Крепости свои вознес
Град, чье имя Амасия.
Здесь, где крут скалистый скат,
Где растут леса густые,
Царь понтийский Михридат
Высек стены Амасии.
В пору давних тех времен,
В годы древние, глухие,
Внуки Айка горный склон
Обживали здесь впервые.
Здесь река Ирис течет
Сквозь леса береговые
И волну свою несет
В волны Понта голубые.
От ее живой воды
Зреют яблоки большие,
Сладким соком налитые.
Как в раю, цветут сады.
Распускаются цветы
Белые и огневые,
330
Розы дивной красоты,
Лавры, хмелем обвитые.
Под плодами дерева
Летом нагибают выи,
Зреют персики, айва,
Абрикосы золотые.
Алой розе соловей
Шлет хвалы свои ночные
И томится лишь о ней,
Позабыв цветы иные.
Виноград здесь дарит нам
Гроздий ягоды тугие;
Их, как говорят, Адам
Ел по наущенью змия.
Гроздья спелые сорви,
Выжми ягоды хмельные,
Лей в бокал вино любви,
Восхваляй дары святые!
319. ВИНО
Вино веселить тебя будет,
В тебе веселье пробудит.
Коль выпьешь, чем-то заев,
Забудешь ты горе и гнев
И будешь бесстрашен, как лев.
Прими совет ненапрасный:
Вино в стеклянный бокал
Налей, чтоб тот запылал.
Он станет розою красной,
Наполнясь живым огнем,
И ты отразишься в нем.
Но пусть, ради господа бога,
Не льется вино через край.
Ты пей, но хотя бы немного
Водою вино разбавляй.
331
320. ИЕРЕЙ СИМЕОН
На понтийском бреге славном
Вырос град во время оно.
Там я повстречал недавно
Иерея Симеона.
С виду он смиренен очень,
Но обман смиренье это.
Мудрецом считаться хочет
Симеон — дурак отпетый.
Он с его бездушьем черствым
Чуждый всем, кто горем ранен,
И его причислить к мертвым
Вправе каждый прихожанин.
Рано храм свой покидает
Этот пастырь неусердный,
И, уйдя, пренебрегает
Он обеднею вечерней.
Редко он творит молитвы,
Богомольцев он поносит.
Голоден пришелец, сыт ли,
Ел ли, пил — вовек не спросит.
Самому ж ему охота
Есть всегда, и в час застолья
У него одна забота:
В глотку сунуть кус поболе.
Он сидит обычно с краю,
Не вступает в разговоры,
Мысля: чаша круговая
До меня дойдет ли скоро?
Не ходи к нему, проситель,
Ничего тебе не даст он.
Но при этом он любитель
На пирах быть гостем частым.
Коль пирушка где случится,
Весел иерей бывает.
332
Подавиться не боится,
Ест — жевать не успевает.
Он, наевшись честь по чести,
Счастлив, хоть вздыхает тяжко,
И вином с водою вместе
Заливает жир барашка.
Потчуй пастыря на славу,
Прежде чем просить что-либо,
Наготовь ему пилаву,
Суп свари из красной рыбы.
Гость чтоб сытый был и пьяный,
Съел бы всё, что съесть по силам,
Не жалей приправы пряной,
Чтоб еду переварил он.
333
НАГАШ ОВНАТАН
(1661—1722)
321. ПЕСНЯ ЛЮБВИ
Зажегся нынче новый свет,
От милой слышал я привет,
Расцвел в душе весенний цвет, —
Ведь я — изгнан! не наноси мне новых ран,
о мой султан!
Когда любовь так разлилась,
Как жить, от милого таясь?
Тебе внемлю я, веселясь, —
Ведь я — изгнан! не наноси мне новых ран,
о мой султан!
Когда в мой дом вошла ты вдруг,
Твоих речей вкусил я звук,
И выпало перо из рук.
Ведь я — изгнан! не наноси мне новых ран,
о мой султан!
Не лги мне, золото надев!
Твоих младых грудей, созрев,
Малы шамамы, как у дев.
Ведь я — изгнан! не наноси мне новых ран,
о мой султан!
Откроем дверцу, вступим в сад...
Рукой сжать грудь твою я рад,
Бери цветок, а я — гранат.
Ведь я — изгнан! не наноси мне новых ран,
о мой султан!
334
Здесь на ковре, средь луговин,
Расставим мы кувшины вин...
Целуй, и да цветет твой сын!
Ведь я — изгнан! не наноси мне новых ран,
о мой султан!
Играй и мне цветы бросай,
С груди руки не отгоняй,
Дай сжать, души не отнимай, —
Ведь я — изгнан! не наноси мне новых ран,
о мой султан!
Тобою мне цветочек дан,
Вина ты выпила, я — пьян,
Сожжен любовью Овнатан, —
Ведь я — изгнан! не наноси мне новых ран,
о мой султан!
322
Я нарядною тебя видел на заре,
Ты мой разум отняла, нет покоя мне!
Вся ты в золоте была, в перлах, в янтаре,
Ты мой разум отняла, нет покоя мне!
Лоб твой бел, твое лицо — розы лепесток,
Левой ручкой протяни, подари цветок,
Сахар я тебе припас и медовый сок.
Ты мой разум отняла, нет покоя мне!
Зеркала — твои глаза, золото — мечи,
Сумрак шелковых ресниц — стрелы и лучи,
Горн — душа моя, огни страсти — горячи.
Ты мой разум отняла, нет покоя мне!
Полумесяц — бровь твоя, косы — черный мак,
От любви я не рыдать не могу никак.
Да погибнет, пропадет наш разлучник — враг!
Ты мой разум отняла, нет покоя мне!
335
Сладкозвучный твой язык — соловей ночной,
Гиацинт в руке твоей и вино в другой!
С родинкой твое лицо — роза под росой.
Ты мой разум отняла, нет покоя мне!
Сядем здесь под деревцом, будем рвать миндаль.
Груди у тебя — шамам, не вкусить их жаль.
На тебя гляжу — душа улетает вдаль.
Ты мой разум отняла, нет покоя мне!
Кипарис — твой стан, в кудрях золото при дне,
Дай на стройный стан упасть золотой волне,
Долго ль осужден Нагаш изнывать в огне?
Ты мой разум отняла, нет покоя мне!
323
Ты мне сказала: «Настала весна».
Милая, сжалься!
«В час, когда розу осветит луна,
Выйду я в сад, грудь открыв и одна».
Милая, сжалься!
Вечером выйди в сияющий сад!
Розы струят аромат.
Розу тебе с письмецом я пошлю.
Милая, сжалься!
В нем расскажу, как тебя я люблю.
Выйди с мазой и с араком, молю!
Милая, сжалься!
Вечером выйди в сияющий сад!
Розы струят аромат.
Лик твой прекрасней, чем тысяча роз.
Милая, сжалься!
Лик твой прекрасен в уборе волос.
Ветер весны благовонья принес.
Милая, сжалься!
Вечером выйди в сияющий сад!
Розы струят аромат.
336
Лик твой прекрасней, чем розы весной.
Милая, сжалься!
Как соловей я пою под луной:
Милая, сжалься хоть раз надо мной,
Милая, сжалься!
Вечером выйди в сияющий сад!
Розы струят аромат!
В косы вплети украшения роз.
Милая, сжалься!
Выйди исполнить желания грез,
Вылечить муки, что я перенес!
Милая, сжалься!
Вечером выйди в сияющий сад!
Розы струят аромат.
324. ПЕСНЬ О ГРУЗИНСКИХ КРАСАВИЦАХ
Тифлис, хвала тебе, хвала!
Твоим красотам нет числа!
Любая дочь твоя мила, —
Кому грузинки не понравятся?
Природных бань твоих тепло
Их, белогрудых, привлекло.
Как плещутся — в глазах светло! —
Врастана дивные красавицы.
Их лица как цветы в саду.
На них взглянуть — с ума сойду.
Хотя сулят они беду —
Кому грузинки не понравятся?
Их брови загнуты дугой,
В глазах чудесный луч такой!
И носят пояс дорогой
Врастана дивные красавицы.
Их косы чудно сплетены.
Их лица сладостней луны.
337
Неописуемо нежны, —
Кому грузинки не понравятся?
Сходясь, поют и пляшут вмиг.
А как вкусны слова у них!
Пьют из пиалов золотых
Врастана дивные красавицы.
Пройдут как павы — смотришь вслед,
И оторваться силы нет!
От них исходит звездный свет, —
Кому грузинки не понравятся?
Одеты в бархат и шелка,
Они взирают свысока.
Свежей, чем зелень цветника,
Врастана дивные красавицы.
Могучих дочери, они
Достойны славы искони.
Пред ними голову склони!
Кому грузинки не понравятся?
Я — океан греха, Нагаш,
Плененный вами! О, когда ж
Смогу воспеть я облик ваш,
Врастана дивные красавицы?
325
Приди ко мне в цветущий сад вечернею порой.
Аман, аман, я страстью пьян, безумен от любви.
Шамамы зрелые свои украдкой мне открой,
Аман, аман, я страстью пьян, безумен от любви.
Как звезды, родинки твои, язык твой — соловей.
Я умираю от тоски, печаль мою развей.
Ужель не стоит жизнь моя стыдливости твоей?
Аман, аман, я страстью пьян, безумен от любви.
338
Как жемчуг, зубы у тебя, глаза твои горят,
И косы черные твои едва ли не до пят.
В соблазнах я тону твоих грехов и выплыву навряд,
Аман, аман, я страстью пьян, безумен от любви.
Твой взгляд — палач, всем, кто немил, он головы сечет.
Блажен, кто на твоей груди покой свой обретет,
Кому не пожалеешь ты божественных щедрот.
Аман, аман, я страстью пьян, безумен от любви.
Во имя господа-творца не будь со мною зла.
Ты двери дома своего открой мне, будь мила,
И сердце оживи мое, сожженное дотла,
Аман, аман, я страстью пьян, безумен от любви.
Я осажден, я обречен, мне нет пути назад,
Перед тобой твой раб Нагаш ни в чем не виноват.
За что ж караешь ты меня, мир превращаешь в ад?
Аман, аман, я страстью пьян, безумен от любви.
326. ТЫ ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛА, ПТИЦА?
Ты откуда прилетела, птица?
Как шараб, твой голос с уст струится.
Я — невольник твой, дай мне напиться
И сама со мной шараб испей!
Мне с моим мечтаньем не расстаться,
О другой помыслить — святотатство.
Для чего мне все мои богатства,
Коль не станешь милою моей?
Лик твой светлый, глаз твоих горенье
Смертных повергают в изумленье.
Что ж бросаешь ты в меня каменья?
Снизойди ко мне и пожалей!
Одеянье черно или бело —
Всё красиво, что б ты ни надела.
Я страдаю, а тебе нет дела.
Смилуйся и кровь мою не лей.
339
Грудь твоя — два зрелых апельсина.
Стал я жалок, в этом ты повинна.
Ты одна — беды моей причина.
Знак подай, беду мою развей!
Я — Нагаш, влюбленный безнадежно, —
Знать хочу, что истинно, что ложно.
Кроме страсти, в мире всё ничтожно.
Горе мне, спаси меня скорей!
327
Тебе достойную воздам ли дань я?
О горе, горе, слишком ты сладка,
Мой озарило путь твое сиянье,
Твой взгляд пронзил меня издалека.
Любимая, твой взгляд огнем лучится,
Грудь — океан, и мне порою снится,
Что я руками легкими, как птицы,
По волнам сладостным скользнул слегка.
Прошу я: сжалься над душой моею.
Ни с розой, ни с жасмином, ни с лилеей
Тебя, твой раб, сравнить я не посмею.
О горе, горе: ты нежней цветка.
У соловья язык ты одолжила,
И что б ты ни сказала, всё мне мило.
И кажется, что речь твоя продлила
Мое существованье на века.
Молю, истерзанный тоской великой:
Приди ко мне с раскрывшейся гвоздикой.
Поверь, что без тебя, без ясноликой, —
О, горе, горе, — жизнь моя тяжка.
Блестит твой пояс с пряжкой золотою.
Готов идти я следом за тобою.
Мне ведать не дано, чего я стою,
Но стоишь царства ты наверняка.
340
328. ТЫ И ЛАНЬ МОЯ, И ГАЗЕЛЬ
Сад расцвел, наступила весна.
Ты со мной, как зима, холодна.
В чем моя пред тобою вина?
Ты и лань моя, и газель.
Я таких не встречал досель;
Дремлет сад, далеко до зари.
Ты свой рай предо мной отвори
И промолви: «Что хочешь, бери!»
Ты и лань моя, и газель.
Я таких не встречал досель.
Мы, как всё, превратимся во прах
Но покуда желанье и страх
И в твоих полыхает глазах,
Ты и лань моя, и газель,
Я таких не встречал досель.
Я, как рыба на сковороде,
Ты ведь тоже горишь, ты в беде.
Что же врозь мы всегда и везде?
Ты и лань моя, и газель.
Я таких не встречал досель.
У меня нет любимой иной,
Погляди, что случилось со мной.
Ты виновна, что стал я больной.
Ты и лань моя, и газель.
Я таких не встречал досель!
Чтоб заставить сильнее страдать,
Ты решилась мне грудь показать.
Приоткрыла, закрыла опять.
Ты и лань моя, и газель.
Я таких не видал досель.
Ты атласом стянула свой стан,
И погиб я, твой раб Овнатан.
Я вином твоим сладостным пьян.
Ты и лань моя, и газель.
Я таких не встречал досель.
341
329
Лик твой — как луна, глаза горят.
От кого ты родилась такою?
Золотые волосы до пят
Дай я поцелуями покрою.
Брови — две светящихся дуги.
Милая, меня побереги.
Понапрасну сердце мне не жги
Взглядом, затененным кисеею.
Двум подобны яблокам тугим,
Круглы груди под платком твоим.
Чтоб не увядать до срока им,
Мне дозволь коснуться их рукою.
Платье, пояс — всё тебе идет.
Что тебя в коварной жизни ждет?
Я боюсь — тебя обнимет тот,
Кто тебе не предан всей душою.
Красны губы, красны, как вино,
Но не мне испить его дано.
Я, Нагаш, тебя люблю давно,
Я хочу навеки быть с тобою.
330. ПЕСНЯ ВЕСНЫ И РАДОСТИ
Пришла весна. Блистает солнца круг,
Растаял лед, теплом повеял юг.
Цветут сады, и зеленеет луг.
Мы пьем вино, мы славим миг услад.
Поможет бог, и всё пойдет на лад.
В тени ветвей цветущих отдохнем;
Вино горит сверкающим огнем.
И лепестки, слетев, белеют в нем.
Мы пьем вино, мы славим миг услад.
Поможет бог, и всё пойдет на лад.
Как знать, что нам пошлет навстречу рок;
Людская жизнь — что полевой цветок;
342
Сейчас в цвету, а завтра он поблек.
Мы пьем вино, мы славим миг услад.
Поможет бог, и всё пойдет на лад.
Весна, и свет, и пасхи благодать...
Фиалкам цвесть, и розам цвесть опять,
Песнь соловья нам сладко услыхать.
Мы пьем вино, мы славим миг услад.
Поможет бог, и всё пойдет на лад.
Подвинь сюда наполненный сосуд,
Барашка пусть на блюде принесут;
В котле пилав, миндаль, гвоздики тут...
Мы пьем вино, мы славим миг услад.
Поможет бог, и всё пойдет на лад.
Журчит ручей, и зелень тешит взгляд.
Мы пьем вино, мы сели дружно в ряд,
И розы пусть подарит брату брат.
Мы пьем вино, мы славим миг услад.
Поможет бог, и всё пойдет на лад.
Достойно пить — без выкриков и ссор.
Кто шумно пьет, тому, друзья, позор!
Мы мирно пьем, и только весел взор.
Мы пьем вино, мы славим миг услад.
Поможет бог, и всё пойдет на лад.
Плачь, Овнатан, ты во грехах погряз.
Непрочно всё, что в мире тешит глаз.
Так будем пить, — веселья краток час!
Творцу хвала, пусть он не взыщет с нас.
343
БАГДАСАР ДПИР
(1683—1768?)
331. ПЕСНЯ ВЕСНЫ
Приободренный весенним цветеньем
И ликованьем вернувшихся стай,
Преобразился почти во мгновенье
Сумрачный мир, превратившийся в рай.
О соловей, что желал ты, свершилось,
Роза твоя в цветнике распустилась.
Славь же великую божию милость
И в безнадежной тоске не рыдай.
Роза, омывшись росинкой падучей —
Легкою каплей, оброненной с тучи,
Стала еще ароматней и лучше
И нанесла тебе боль невзначай!
Всюду весна подняла свое знамя,
Всюду зажгла изумрудное пламя.
Горные склоны покрыла цветами,
Вешней травою украсила край!
О богородица, дева святая,
Молим, к твоим мы стопам припадая:
Детям сего просветленного края,
Благословенье и счастье нам дай!
344
332. НЕ ПЛАЧЬ, СОЛОВЕЙ
Полно, не причитай, не сетуй и не скорби,
Ты мне забыться дай, ран моих не растрави.
Лучше не поминай горькой моей любви.
Слез горючих не лей, не плачь, печальная птица, —
Твоя беда, соловей, с моей бедой не сравнится!
Чья-то злая рука ставит мне сотни препон,
И далека, далека та, в кого я влюблен.
Боль и твоя тяжка: с розою ты разлучен,
И все-таки слез не лей, не плачь, печальная птица, —
Твоя беда, соловей, с моей бедой не сравнится!
Ты, улетая на срок, к розе вернешься опять.
День возвращенья далек, всё же он должен настать.
Я ж навсегда одинок, мне милой не увидать.
Слез понапрасну не лей, не плачь, печальная птица, —
Твоя беда, соловей, с моей бедой не сравнится!
Зря ты грустишь, соловей, зря ты клянешь весь свет.
Много на свете роз, и каждой прекрасен цвет,
А схожей с милой моей красавицы в мире нет.
Слез горючих не лей, не плачь, печальная птица, —
Твоя беда, соловей, с моей бедой не сравнится!
333. СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ
Свет моих очей, тебя люблю я.
Пленника, меня не позабудь.
В этот скорбный час тебя молю я:
Пленника, меня не позабудь.
Не забудь меня, влюбленного,
Не забудь порабощенного.
О моя голубка дорогая,
Я, в далекий отправляясь путь,
Покидая край твой, заклинаю:
Пленника, меня не позабудь.
Не забудь меня, влюбленного,
Не забудь порабощенного.
345
Розы лепесток благоуханный,
Свет, не убывающий ничуть,
Слышишь, говорю я непрестанно:
Пленника, меня не позабудь!
Не забудь меня, влюбленного,
Не забудь порабощенного.
Жаворонок, рвался ты в тревоге,
Чтоб из рук влюбленных ускользнуть.
Милая, коль помнишь ты о боге,
Пленника, меня не позабудь.
Не забудь меня, влюбленного,
Не забудь порабощенного.
Без тебя бреду я наудачу,
Злое горе мне сжигает грудь,
И во сне и наяву я плачу:
Пленника, меня не позабудь.
Не забудь меня, влюбленного,
Не забудь порабощенного.
Книги жизни — лучшая страница,
Может быть, еще когда-нибудь
Будет суждено мне возвратиться,
Пленника, меня не позабудь.
Не забудь меня, влюбленного,
Не забудь порабощенного.
334. К МАМОНЕ
Кто ты, откуда твой закон,
Что может нас обречь на муку?
Кому ты не протянешь руку,
Тот на злосчастье обречен.
Немилости твоей страшится
И тот, на ком златой венец.
Кто помощи твоей лишится,
Тот как без пастбища телец.
Ты гибельна для душ людей,
Ты порождаешь зло, и всё же
346
Порою мы свершить не можем
Добра без помощи твоей.
Ты с нами строго сводишь счеты.
Ты, нас опутав, служишь злу.
Так почему же в кабалу
К тебе идут с такой охотой?
Страдая от твоей руки,
Порой тебя мы покоряем
И торопливо запираем
В окованные сундуки.
Дрожат могучие колонны,
И стены разрушенья ждут,
Когда, тобою укрепленный,
Подходит к ним ничтожный люд.
Чем мы твоей послушней воле,
Тем мы свободней и сильней;
И чем сильнее мы — тем боле
Мы властью связаны твоей.
Ты труса превратишь в героя,
Его заставишь рваться в бой.
И дарит силу нам порою
Бессилие перед тобой.
И хоть ты, может, всех сильней,
Но все-таки порой бывает,
Что и слабейший из людей
Тебя с презреньем попирает.
335
Пришла весна, и меж ветвей — тиховей.
В тоске любви вчера в саду соловей
Близ милой розы рокотал, молвя ей:
Явись, прелестная, во всей красоте!
Проснись! Сравненья нет твоей красоте!
347
Минула ночь, и наконец рассвело,
С востока солнце, загорясь, подошло;
А сердце с вечера тоской истекло.
Явись, прелестная, во всей красоте!
Проснись! Сравненья нет твоей красоте!
Пленился каждым я твоим лепестком,
Не останавливал бы глаз ни на чем;
Мне без тебя — ночная тьма даже днем.
Явись, прелестная, во всей красоте!
Проснись! Сравненья нет твоей красоте!
Пусть от шипов сто тысяч раз мне страдать,
В огне любви пусть песни петь и рыдать, —
Всё за великую сочту благодать!
Явись, прелестная, во всей красоте!
Проснись! Сравненья нет твоей красоте!
348
ПЕТРОС КАПАНЦИ
(конец XVII века— 20 марта 1784)
336. НАРОДУ МОЕМУ ЛЮБИМОМУ
Коль ты меня, народ мой, не наставишь —
Мне по миру скитаться круглый год,
А если ты мне светлый лик свой явишь —
На путь благой ступлю я, мой народ!
Как вешний дождь, твое веленье свято.
Когда пригреешь ты меня как брата,
Вновь становлюсь я тем, чем был когда-то,
А не пригреешь — мучюсь от невзгод!
Нет без тебя мне счастья, я безроден,
Без твоего участья я бесплоден.
На что я годен и кому угоден?
Я словно древо, где не зреет плод.
Привечен ты владыками вселенной,
Отмечен в книге древней и священной.
Подобно солнцу вечный и нетленный,
Меня ты озаряешь, мой народ!
Ты, озаренный светом и весною,
Исполни всё желаемое мною.
Коль твоего благоволенья стою,
Благослови — и сад мой зацветет.
Но что ж ты допускаешь промедленье,
Зачем свои скрываешь побужденья?
Твое неторопливо пробужденье, —
Веди меня, мой праведный народ!
349
337. СТАИ
Печальный стон сегодня слышен мне
Над полем и над лесом в вышине.
Тоскуя о родимой стороне,
Летят куда-то стаи, стаи, стаи.
Цвели цветы, здесь был недавно рай,
Увял и сник цветущий этот край.
Здесь больше места нет для птичьих стай,
И улетают стаи, стаи, стаи.
Кто знает, будет доброй или злой
Судьба, всегда подернутая мглой?
Скорбя и плача о весне былой,
Летят куда-то стаи, стаи, стаи.
Простилась птица каждая с гнездом,
Сошла трава, повяло всё кругом.
Редеют тучи, бедные дождем,
И улетают стаи, стаи, стаи.
И ты спешишь, о жаворонок мой,
Ну что ж, лети дорогою прямой,
Но с вестью о весне вернись домой,
Не покидая стаи, стаи, стаи.
338. НЕ ОСЫПАЙ, О РОЗА, ЛЕПЕСТКИ
Не осыпай, о роза, лепестки,
Не заставляй терзаться от тоски
И слезы лить того, кому нужна
Из всех цветов на свете ты одна.
О роза, свой не осыпай ты цвет,
Не убивай меня во цвете лет.
Не забывай, что я люблю впервые
С тех пор, как я пришел на этот свет.
Сулит нам сотни благ весна вокруг,
Пойми же, роза, кто твой враг, кто друг.
350
Не делай так, чтоб в сей счастливый миг
Главою твой возлюбленный поник.
О роза, ты не осыпай свой цвет,
Не убивай меня во цвете лет.
Не забывай, что я люблю впервые
С тех пор, как я пришел на этот свет.
Как хитрый вор, придет садовник в сад,
На розу бросит он недобрый взгляд,
Шипы оставив, розу он сорвет,
А гибель розы и меня убьет.
О роза, ты не осыпай свой цвет,
Не убивай меня во цвете лет.
Не забывай, что я люблю впервые
С тех пор, как я пришел на этот свет.
Неумолим садовник и суров,
Он всё сорвет, ему не жаль цветов.
Так будь, любимая, ко мне добра,
Пока царит цветения пора.
О роза, ты не осыпай свой цвет,
Не убивай меня во цвете лет.
Не забывай, что я люблю впервые
С тех пор, как я пришел на этот свет.
На краткий срок, покуда не придет
По наши души грозный садовод,
Меня приветь, с тобою быть позволь,
Дай мне излить перед тобою боль.
О роза, ты не осыпай свой цвет,
Не убивай меня во цвете лет.
Не забывай, что я люблю впервые
С тех пор, как я пришел на этот свет.
351
ГРИГОР ОШАКАНЦИ
(1757—1799)
339. ПЛАЧ О ГОРОДЕ АНИ
Прославленный в былые дни
Приют царей, ты был твердыней,
А ныне на себя взгляни —
С вдовицей бедной схож ты ныне.
Ты попран, славный град Ани.
Ты стал безлюдною пустыней.
О горе, сыны твои, дочери
Из города изгнаны отчего!
Ты сыновей своих растил
Не для позора, но — проклятье! —
Чингис коварный подступил,
Несметные приблизил рати,
И в битве недостало сил
Твоим сынам, чтоб отогнать их.
О горе, сыны твои, дочери
Из города изгнаны отчего!
Подняв тяжелый камнемет
На земляные укрепленья,
Монголы двинулись вперед
В ожесточенное сраженье —
И рухнули твои строенья
И стен твоих высокий свод.
О горе, сыны твои, дочери
Из города изгнаны отчего!
352
Вознесся ввысь, вселяя страх,
Клич воинов многоплеменных,
И затаилась скорбь в глазах
Твоих гусанов обреченных.
И пение святых канонов
В твоих умолкнуло церквах.
О горе, сыны твои, дочери
Из города изгнаны отчего!
Несчастный город, в этот год
Твои строенья опустели,
И в храмах, как в глухом ущельи,
Пасется одичалый скот.
И нет уже былых красот
В твоих церквах, где хоры пели.
О горе, сыны твои, дочери Из города изгнаны отчего!
340. ПЕСНЯ ЛЮБВИ
Ты подобна розе алой,
Райской птице небывалой,
Милости прошу я малой:
Лик свой сладостный яви
Мне, невольнику любви!
Голос твой — ручей журчащий,
Гласа ангельского слаще.
Я молю тебя, скорбящий, —
Истомленному тоской,
Дай мне лик увидеть твой.
Дни скорбей моих настали,
По горам брожу в печали,
Тщетно вглядываюсь в дали.
Лик свой обрати ко мне,
Страннику в чужой стране.
Дан был мудрым Соломоном
Мне совет в пути бессонном:
353
«Жди у родника под склоном,
И настанет сладкий миг —
Милой ты увидишь лик».
Вот и жду я, обреченный,
Я ищу тебя, влюбленный.
Я молю, изнеможенный:
Свет яви во мгле дорог,
Я от скорби изнемог.
Вслед спешил я за тобою.
Враг следил с ухмылкой злою,
Он пронзил меня стрелою.
Так явись в последнем сне
Умирающему мне!
354
ПРИМЕЧАНИЯ
Средневековая армянская лирика впервые была представлена на русском языке в подготовленной В. Я. Брюсовым антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» (М., 1916). Во вступительной статье к антологии Брюсов точно и емко охарактеризовал многих выдающихся поэтов средневековой Армении. «Средневековая армянская лирика, — писал Брюсов, — есть одна из замечательнейших побед человеческого духа, какие только знает летопись всего мира» (с. 7).
Брюсовские переводы из средневековой армянской лирики вошли затем в «Антологию армянской поэзии с древнейших времен до наших дней» (М., 1940). В антологии 1940 г поэзия армянского средневековья была представлена новыми переводами А. Кочеткова, М. Лозинского, С. Спасского, Н. Тихонова, А. Суркова и П. Антокольского. Лучшие переводы этих поэтов, как и переводы Брюсова, вошли в настоящее издание.
Специальный сборник средневековой армянской лирики в таком объеме издается на русском языке впервые. Здесь значительно полнее представлена народная средневековая поэзия и многие выдающиеся поэты армянского средневековья. Некоторые из них (X. Кечареци, А. Сюнеци, Н. Мокаци, М. Крымеци и др.) печатаются на русском языке впервые.
Согласно правилам издания «Библиотеки поэта», в настоящий сборник не включены стихотворения поэта позднего средневековья Арутина Саят-Новы, так как его произведения уже изданы в Малой серии «Библиотеки поэта» и предполагается отдельное издание его стихов в Большой серии.
Новые переводы Н. Гребнева, В. Бетаки, А. Кушнера, подготовленные специально для настоящего издания, выполнены по подстрочникам М. О. Дарбинян, сотрудницы Матенадарана — Института древних рукописей им. М. Маштоца (Ереван). Отдельные главы из «Книги скорбных песнопений» Г. Нарекаци (3, 9, 21, 56, 71) переведены по подстрочникам А. Казиняна. Переводы Н. Гребнева, ранее уже публиковавшиеся, заново просмотрены и уточнены.
Некоторые стихи стали в переводе по образам, по языку обычнее, чем в оригинале. Но в целом переводчиками проделана работа, заслуживающая высокой оценки.
357
В примечаниях приводятся необходимые сведения об источнике переведенного текста, то есть об издании оригинала на армянском языке. Комментируются непонятные для современного читателя исторические события или библейские сюжеты, положенные в основу ряда произведений, географические названия, а также армянские слова и термины.
НАРОДНАЯ ЛИРИКА
Из древнейших песен
1. Фрагмент языческой народной песни. Записан Мовсесом Хоренаци — одним из образованнейших людей V в. В своей «Истории Армении», созданной по предложению армянского просвещенного князя Саака Багратуни, он использовал армянские народные предания и эпос языческой поры (см. об этом во вступ. ст., с. 9—12). Ваагн — древнеармянский языческий бог солнца и грома. Хоренаци пишет: «Мы собственными ушами слышали, как пели эту песнь в сопровождении бамбирна. Затем в этой песне воспевали борьбу Вахагна с драконами и победу над ними. Все воспеваемое в честь его имело большое сходство с подвигами Геркулеса. Пели также о причислении его к сонму богов; в стране же иверов ему была воздвигнута статуя, которой приносили жертву» (с. 70).
2. Записано Мовсесом Хоренаци. Последние две строчки даны здесь в переводе Н. Эмина. Арташес — древнеармянский царь, живший во II в. до н. э. Аланы — осетины. См. об этом стихотворении во вступ. ст., с. 11—12.
3. Перевод печ. впервые. Отрывок взят из сочинений Григора Магистроса (X—XI вв.). См.: Григор Магистрос, Письма, Александрополь, 1910, С. 87 (на арм. яз.). Магистрос замечает: «Говорят, что эти стихи сказал Арташес в час своей смерти». «Воспоминания Арташеса» комментировались по-разному Г. Алишаном, Н. Эмином, Т. Халатянцем. Согласно Л. Хачикяну (его комментарии представляются наиболее убедительными), умирающий Арташес желал бы видеть дым, а может быть, полагает Хачикян, и туман (в подлиннике слово, которое означает и дым и туман) зимой, в январе. Хачикян считает, что в подлиннике слово «тцхан» (традиционно это слово переводится как «очаг») употребляли в древней и средневековой Армении как синоним слова «январь». Ученый приводит соответствующий случай из средневековой переводной армянской литературы. Поэтому в нашем переводе: не «дым очага», а «дым над кровлями в январе». Навасард — название первого месяца года в языческой Армении. По современному календарю, начало месяца навасард при-
358
ходится на середину августа. Умирающий Арташес, как замечает Хачикян, вспоминает именно эти месяцы (январь и навасард), так как на них приходились всенародные праздники в честь языческих богов, сопровождавшиеся царской охотой. См.: Левон Хачикян, Об эпическом отрывке относительно Арташеса 1-го, сохранившемся у Григора Магистроса. — Сб. «Литературные разыскания», Ереван, 1946, с. 405—524 (на арм. яз.).
Средневековые народные песни
ТРУДОВЫЕ ПЕСНИ
Самая ранняя из дошедших до нас рукописей с записями народных песен, если не считать гохтанских стихов, записанных еще в V в. М. Хоренаци, относится к 1608 г. Основная масса записей сделана уже в XIX в. На некоторых средневековых народных песнях видны следы позднейших наслоений. Но в целом (по языку, образам и примитиву мелодии) это, конечно, песни средних веков. Новые переводы сделаны по кн.: «Трудовые песни армянского народа». Редакция, вступительная статья и составление Арама Ганаланяна, Ереван, 1937 (на арм. яз.).
5. Ёр, ёр, ёр, ёр — напев, сопровождающий работу крестьянина-пахаря.
6. Оровел — песня пахаря.
10. Хоо — окрик для понукания волов.
15. Чувяки — мягкая обувь без каблуков. В подлиннике «чарух» — род лаптей, изготовленных из кожи.
16. Масис — армянское название горы Арарат. Название Арарат также общеупотребительно в армянском языке.
17. Кунжут — масличное растение.
18. Джан — буквально: душа, тело. Употребляется как ласковое обращение в значении: милый, милая или дорогой, дорогая.
19. Яр — возлюбленная, возлюбленный (в армянском языке отсутствует категория рода). Ле-ле хоп — звукоподражание, соответствующее ритму жатвы.
21. Оровел — песня пахаря, а также припев в крестьянских песнях.
359
24. Долма — армянское блюдо, вроде голубцов; здесь имеется в виду так называемая постная долма, начиненная крупами.
26. Хелев-хелев — восклицание при понукании животных.
27. В песне рассказывается о процессе выпечки армянского хлеба — лаваша. Это тонко раскатанное тесто. Перед самой выпечкой его подбрасывают вверх и подхватывают на лету, отчего тесто делается еще тоньше. Затем тоненькие листы настилают на вытянутую «подушку» и с размаху ударяют ею об раскаленные стены круглой вырытой в земле печи, называемой тоныром. Хлеб пристает к раскаленному камню. Руку с «подушкой» отводят и настилают на нее новое тесто. Весь этот процесс по ритму воспроизведен в восклицании «хеп-хо-хеп». Шамам — небольшая дыня.
28. Мацун — кислое молоко, приготовленное особым образом.
31. Полностью перевод печатается впервые. В сборнике «Прапесня» (составление Л. Мкртчяна, предисловие Л. Арутюнова, Ереван, 1970) конец стихотворения, начиная со слов «При тебе я, как раба, прялка...», был опубликован по ошибке как продолжение стихотворения «Песня чесальщицы шерсти» (с. 47). Керман — город (Иран), славившийся на Востоке коврами и шалями. Ашуг — народный поэт и певец.
ПЕСНИ ЛЮБВИ
Любовные, обрядовые песни, плачи, заклинания, песни об изгнанниках-скитальцах переведены в основном по следующим изданиям: А. С. Мнацаканян, Армянские средневековые народные песни, Ереван, 1956 (на арм. яз.); «Армянское народное творчество». Избранное. Составил Гр. Григорян, Ереван, 1956 (на арм. яз.).
35. Мндзурские горы — в Западной Армении. Мндзурские горы вместе с Антитавром называют Внутренним Тавром.
36. Гарманц — в подлиннике: хорманц, то есть район, населенный ромейцами (греками). Здесь речь идет о ромейском квартале, расположенном на склоне холма.
45. Яр — возлюбленная, возлюбленный (в армянском языке отсутствует категория рода). Ямман — восклицание, выражающее чувство скорби, огорчения, горя.
48. Ван — город и область в Западной Армении. Воскресенье роз или День роз — то же, что и праздник Преображения господня. Церковный праздник, установленный в честь великого события, которое якобы имело место в жизни Христа. Согласно Евангелию, Христос со своими учениками поднялся на высокую гору и преобразился перед ними: «И просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет».
49. Каманча — народный музыкальный инструмент.
360
ПЕСНИ ИЗГНАНИЯ
51. Гусан — народный певец-музыкант, сочинитель и исполнитель песен.
52. Халеб — Алеппо, город в Сирии.
ПЕСНИ О ПРИРОДЕ
59. Варагские горы — находятся в Западной Армении, восточнее города Вана и севернее местности Айоц-дзор.
ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ
61. В народных песнях жениха и невесту называют царем и царицей.
62. Гамаспюр — цветок, обладающий, согласно народным преданиям, чудодейственными свойствами. По народному поверью, человек, который съест гамаспюр или натрет им свое тело, приобретет всевозможные знания и умение говорить на всех языках.
63. Креститель Карапет — Иоанн Креститель. Соловей, лань степная, праведная пчела и т. д. — здесь: люди в масках, принимающие участие в театрализованной свадебной церемонии.
64. Бет дизан — дословно: большая копна. Прямая связь этих слов с текстом песни утеряна. По всей вероятности, они имеют значение запева. Вардапет — в армянской церкви ученый монах, архимандрит.
ПЛАЧИ
78. Эким — знахарь, врач.
ЗАКЛИНАНИЯ
85. Саркис (святой Сергий), по преданию, был знатным римским сановником. После того как он принял христианство, его мучили, водили в женских одеждах и с железным обручем на шее по городу. Обезглавлен ок. 296—303 г. Тем жезлом ли Моисеевым. По библейской легенде, пророк Моисей мог превращать свой жезл в змея, вызывать и излечивать проказу, превращать воду в кровь. Тем копьем ли свят-Егория. Имеется в виду святой Георгий, исповедник христианства, обезглавленный после восьмидневных мучений. Согласно традиции, изображался на иконах юношей-воином на белом коне, с копьем, поражающим дракона. Той ли верой свят-Григория. Имеется в виду Григорий Просветитель (IV в.), распространитель христианства в Армении.
361
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ
Переводы по следующим изданиям: «Памятные записи армянских рукописей XIV века». Составил Л. С. Хачикян, Ереван, 1950 (на арм. яз.); «Памятные записи армянских рукописей XV века». Составил Л. С. Хачикян, Ереван, 1968 (на арм. яз.).
88. Мхитар Анеци — переписчик рукописей, биография неизвестна. Аваг— заказчик рукописи. Хоран — миниатюрные украшения в начале рукописных евангелий.
89. Ован — переписчик рукописей, биография неизвестна.
90. Хасан-Бек Ак-Кюнлу или Узун Хасан — основатель государства Ак-Кюнлу (ум. в 1478 г.). Нас знаком синим заклеймили... Христиане должны были нашивать на одежду черный или синий знак, дабы они были узнаны и преследуемы. Харадж — поземельная подать, которая после арабских нашествий взималась с христиан. В злосчастном нынешнем году, Что под созвездьем Скорпиона. Речь идет о 1476 годе. Гуржистан (Гюрджистан) — Грузия. Тепхис — Тифлис. Баграт — царь грузинский (1466—1478).
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЛИРИКИ
МЕСРОП МАШТОЦ
(361 — 17 февраля 440)
Родился в селе Хацекац Таронской области. Маштоц — один из образованнейших людей своей эпохи, создатель армянского алфавита (405—406). Перевел со своими учениками на армянский язык Библию. Впоследствии был причислен к лику святых. Один из его учеников, по имени Корюн, написал в середине V в. книгу о жизни своего учителя: «Житие Маштоца». Корюн сообщает, что Маштоц и его ученики перевод Библии начали с притчей Соломоновых и что первым предложением, написанным армянскими письменами, был следующий афоризм: «Познать мудрость и наставление, понять изречения разума». Маштоц — автор речей, духовных наставлений. Ему приписывается также авторство некоторых духовных стихотворений.
ИОАНН МАНДАКУНИ
(V век)
Был католикосом во время восстания Ваана Мамиконяна против персидского ига (481—485), принимал деятельное участие в освободительном движении. Автор ряда молитв «Часослова», толкований и
362
речей. Отстаивал монофизитизм — учение о едином божественном естестве Христа, выступая против диофизитов. Перевел с греческого гимн вечерней службы «Радостный свет».
94. Преображеньем твоим на горе — см. примеч. 48.
КОМИТАС
(VII век)
Биография неизвестна. В 616—628 гг. был католикосом. Автор духовных песен и теологического сборника «Книга веры». В 618 г. построил церковь Рипсимэ в честь христианской мученицы и ее подруг. Церковь хорошо сохранилась до наших дней (в районе Эчмиадзина, недалеко от Еревана) и являет собою свидетельство расцвета армянской архитектуры в эпоху раннего средневековья.
95. Стихотворный гимн посвящен св. Рипсимэ и ее подругам, принявшим мученическую смерть за христианскую веру. По преданию, Рипсимэ была необыкновенно хороша собой и все язычники стремились завладеть драгоценной жемчужиной, то есть Рипсимэ. Рипсимэ и ее подруги родом были не из Армении, но, пожертвовав собою, способствовали христианизации чужой для них страны Армении. В 301 г. христианская религия стала государственной религией Армении. Рипсимэ совершила свой подвиг в конце III в. при армянском царе Трдате, который был поначалу язычником, но затем стал приверженцем христианства. Точило — жом, устройство для выжимки виноградного сока.
ДАВТАК КЕРТОГ
(VII век)
Биография неизвестна. Из сочинений сохранился только «Плач на смерть великого князя Джеваншира». Это стихотворение приводит Мовсес Каганкатваци в своей «Истории Агван», написанной на основе армянских рукописей V—X вв. Перевод по книге: Мовсес Каганкатваци, История Агван, т. I, Париж, 1860 (на арм. яз.).
96. В подлиннике начальные буквы строф подобраны таким образом, что они воспроизводят армянский алфавит (оригинал состоит соответственно из 36 строф). Поэтому Каганкатваци пишет, что Кертог «стал петь по алфавитному заглавию» («История Агван Моисея Каганкатваци, писателя X века». Перевод К. Патканьяна. СПб., 1861 с. 182). Джеваншир княжил в Гардманке в 637—670 гг. (см. о нем во вступ. ст., с. 19). Исайя — библейский пророк, предсказавший Иудее всю опасность союза с Ассирией. «Стрелы его заострены, — предупреждал Исайя, — и все луки его натянуты; копыта
363
коней его подобны кремню, и колеса его — как вихрь» (Исайя, гл. 5, ст. 28). Светлого крестовоздвиженья день — один из праздников христианской церкви, приходится на воскресенье между 11 и 17 сентября. Исходя из этой строчки можно предположить, что Джеваншир был убит в середине сентября 670 г. Моавитяне — племя, происходившее от Моава, сына Лота, и жившее на востоке от Иордана и Мертвого моря. Пророк Исайя предсказал гибель моавитян. Ирод Великий, царь Иудеи в 40—4 гг. до н. э., отличался крайней жестокостью. По преданию, хотел убить младенца Христа. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже по времени...» (Матфей, гл. 2, ст. 16). Арей — бог войны, сын Зевса и Геры. Священная кровь из ребра Иисуса — по преданию, когда Христа распяли, один из воинов ударил копьем в ребро Иисуса, откуда истекла кровь. В опустевшей стране я потомков сирен, А не страусов стаи сегодня оплачу. Стихи восходят к древнегреческой мифологии (сирены — полуптицы-полуженщины, соблазнительные красавицы, чарующие своим голосом), а также — к образам Библии, в частности к книге пророка Исайи: «Но будут обитать в нем звери, пустыни и дома наполнятся в нем филинами; страусы поселятся и косматые будут скакать там» (Исайя, гл. 13, ст. 21). Волны бурные Тивериадских глубин. Имеется в виду Тивериадское озеро в Палестине, называемое также Галилейским морем (озером). Гунны — кочевой народ, по-видимому отчасти тюркского, отчасти монгольского происхождения. В первой трети V в. гунны объединились под властью короля Аттилы. С берегов Тиссы гунны совершали далекие опустошительные походы в Малую Азию, в Армению и даже в Месопотамию.
ГРИГОР НАРЕКАЦИ
(951—1003)
Родился в семье Хосрова Андзеваци, ученого, выдающегося знатока церковной литературы, автора «Толкования церковной службы» и «Толкования таинств св. литургии». С раннего детства воспитывался в монастыре Нарек. Григор Нарекаци — автор религиозных гимнов и песен. «Книга скорбных песнопений», основное сочинение поэта, написанное им в конце жизни и принесшее ему широкую известность уже в средние века. Подлинник написан нерифмованным стихом, хотя Нарекаци владел рифмой и отдельные отрывки «Книги...» зарифмовал. В 26-й главе Нарекаци пишет, что, благодаря одним и тем же созвучиям в конце строк, то есть благодаря рифме, стих становится эмоционально выразительнее. Новые переводы по книге: Григор Нарекаци, Книга скорбных песнопений, Константинополь, 1858 (на арм. яз.).
97. Стихотворение навеяно библейской «Песнью песней».
98. Вардавар (праздник роз) — так в Армении назывался праздник Преображения господня (см. примеч. 48). Вардавар — название
364
армянского языческого праздника, перешедшего в предания христианства. Царь-псалмопевец — царь Давид (конец XI — начало X в. до н. э.). Ему приписывается авторство псалмов. В данном случае имеется, по всей вероятности, в виду не псалом Давида, а то, как он воспевал Ковчег завета, величайшую святыню израильтян. Давид и сыны израилевы, сказано в Библии, «играли на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях...» (Вторая книга царств, гл. 6, ст. 5).
99. Масис — Арарат. Стихотворение имеет аллегорический смысл, к сожалению еще не проясненный. Неизвестно, что имел в виду Нарекаци, заметив, что только возница, хозяин телеги, мог сдвинуть ее с места. Есть мнение, что в основе стихотворения лежит народное предание. «Сейчас трудно понять, — пишет М. Мкрян, — какую иносказательную связь имеет эта песня с воскресением Христа (а если бы не было первой строчки, то не могло бы возникнуть и мысли о такой связи), но не может быть сомнения в том, что это — легенда, взятая из фольклора» (см. в сб.: «Из истории литератур народов Закавказья», Ереван, 1960, с. 25).
100. Главы 2, 3, 9, 21, 26, 39, 56, 71, 82 переведены впервые. «Книга скорбных песнопений» состоит из 95 глав. Это около десяти тысяч строк. Количество строк колеблется в зависимости от того, как делить главы на строчки: в подлиннике текст не разделен на стихи.
Глава 1. Иаков, согласно библейскому преданию, — основатель рода Израилева, обманным путем получивший право первородства. В подлиннике говорится об Иакове со ссылкой на книгу пророка Исайи: «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои; и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу: ваши руки полны крови» (Исайя, гл. 1, ст. 15). Вавилон — буквально; врата божьи, символ порочного и греховного города. Согласно преданию, в Вавилоне возводили башню, которая должна была достать до самого неба. Разгневанный бог смешал языки строителей, возникло замешательство, путаница: строители перестали понимать друг друга. Скиния — куща, шатер, походная церковь у израильтян. Селом — город, в котором, по библейскому преданию, разместили скинию и ковчег завета — величайшую святыню израильтян. Давид — царь израильский, из городка Кариаф-Иарим перевез в Иерусалим ковчег завета. Кивот, или киот — застекленная створчатая рама или шкафчик для икон, здесь имеется в виду ковчег завета. По библейскому преданию, филистимляне в битве при Афеке разбили израильтян и захватили ковчег завета. Оказалось, однако, что ковчег завета приносит филистимлянам несчастья, и они его вернули израильтянам, которые установили его в городке Кариаф-Иарим. Апостол Павел — согласно церковной традиции, фарисей Савл, бывший ярым гонителем христианства. После чудесного видения стал не менее ревностным его проповедником, приняв с новой религией и новое имя — Павел. Отсюда крылатое выражение: превратиться из Савла в Павла. Моисеевы скрижали — две каменные «дощечки», полученные Моисеем от бога Яхве. На них были высечены десять заповедей народу
365
Израиля. Моисей — библейский пророк, который вывел древних евреев из Египта. Филистимляне — народ, живший в древности в Палестине. Филистимляне враждовали с израильтянами, царь которых Давид, как о том рассказывает Библия, сломил могущество филистимлян. Эдомитяне, или идумеи, согласно библейскому преданию, происходили от Исава, брата Иакова, враждовали, как и филистимляне, с израильтянами, испытывая к ним родовую ненависть.
Глава 2. Содом — древний город в долине Сиддим при устье реки Иордан. По библейскому преданию, за развращенность нравов и нечестивость горожан бог Яхве покарал города Содом и Гоморру, на них обрушился ливень серы и огня, города были сожжены. Как Ханаан, грехом я осквернен. В подлиннике: «Я подлее, чем Ханаан». Ханаан — сын Хама. Хам был сыном Ноя. Когда однажды Ной опьянел, повествует легенда, и лежал голый у себя в шатре, Хам увидел наготу отца своего и рассказал об этом двум своим братьям — Симу и Иафету, которые обратили лица назад, чтобы не видеть наготы отца, и прикрыли его. Проснувшись, Ной страшно рассердился на Хама, и не только на Хама, но и на его сына Ханаана. Ной сказал: «Проклят Ханаан — раб рабов будет он у братьев своих» (Бытие, гл. 9, ст. 25). Амалик, согласно Библии, — предок разбойничьего племени амаликитян, разгромленных царем Саулом, а также название самого племени. Тир — древний финикийский город, главная часть которого была основана на острове, отделенном от материка проливом шириной в 1 километр. В 332 г. до н. э. город был взят и частично разрушен Александром Македонским. По библейским преданиям, Тир был разрушен за надменность, за то, что «накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи» (см. примеч. к гл. 39). Сидон — древний финикийский город, был разрушен в XII в. до н. э. филистимлянами, а в середине IV в. до н. э. — персами, которые сожгли город. Я — Иерусалим, священный град Пред тем, как от него лишь пыль осталась. В 586 г. до и. э. Иерусалим был полностью разрушен вавилонским царем Навуходоносором II. Талант — древняя весовая и денежная единица. Известна притча о зарытых в землю, неиспользованных талантах — деньгах. Отсюда выражение: зарыть талант в землю. Голос Изрееля. Согласно библейскому сказанию, пророк Осия, по слову бога, взял себе в жены блудницу, она родила ему сына, которого Осия назвал Изреелем, как того хотел бог. Затем бог сказал, что блудница по его воле познает его, господа, и в тот день «земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышат Изреель» (Осия, гл. 2, ст. 22).
Глава 9. Как та смоковница и т. д. По преданию, Иисус Христос, входя в Иерусалим, проклял смоковницу (фиговое дерево), не дававшую плодов. В притче праведной твоей. Имеется в виду притча, которую, по евангельскому преданию, рассказал Христос: заимодавец призвал двух своих должников (один был должен ему пятьсот динариев, а другой — пятьдесят) а сказал, что он им дарит эти деньги, при этом больше обрадовался тот, который больше задолжал.
Глава 21. Велиар — Вельзевул, злой дух, властитель ада.
Глава 26. Чтоб каждый стих вершился звуком «и» что означает также цифру «двадцать». В древней Армении пользовались алфавит-
366
ным принципом нумерации. Числовое значение букв устанавливалось по месту, занимаемому той или иной буквой в алфавите. Армянская буква «и» обозначала число 20. Алфавитная нумерация употребляется в Армении и сейчас для обозначения глав в книгах, строф в стихотворениях, томов собрания сочинений. Вторую и третью часть 26-й главы Нарекаци рифмует на букву «и». Рифма «и», имеющая значение числа, должна подчеркивать, по замыслу автора, сколь велики его долги.
Глава 39. Иезекииль — библейский пророк, в «видениях божьих» видел книгу, на которой было написано: «Плач, и стон, и горе». И правда, может, схож я с той блудницей. В книге пророка Исайи сказано, что с Тиром, разрушенным за надменность, будет то же, что было с блудницей (см. примеч. к гл. 2). «Возьми цитру, — сказали блуднице, — ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе» (Исайя, гл. 23, ст. 16).
Глава 55. Нетленный стих Давидова псалма. См. об этом во вступ. ст., с. 22. Иов — библейский персонаж, олицетворение богобоязненности и смирения.
Глава 71. Сауловы деянья совершаю, Давидово обличие приняв — намек на библейское сказание, согласно которому царь Саул был греховен, а царь Давид — праведен. Авраам — библейский персонаж, патриарх. Здесь Нарекаци хотел, вероятно, сказать, что его жизнь издавна греховна, потому даже праотец веры Авраам напоминает ему об этом. Моисей — библейский пророк, не раз устрашавший словом и делом израильтян, которых он вел в землю обетованную. Согласно библейскому сказанию, город Иерихон был разрушен Иисусом Навином. Все богатство разграбленного города было под заклятием: добыча должна была отойти к сокровищнице господней. Но Ахан украл из заклятого одежду, серебро и золото. За это бог наказал всех израильтян, которые потерпели жестокое поражение от жителей города Гайи. Согласно библейскому преданию, царь Саул во время припадка бешенства подверг избиению многих гаваонитян, поэтому уже в дни царствования Давида там был голод. По требованию гаваонитян, Давид отдал им семь человек из потомков Саула. Гаваонитяне повесили их. Навал — буквально: безумный. По преданию, Давид послал к нему десять отроков за дарами; Навал же выгнал их ни с чем, хотя был богат. Давид вознамерился жестоко отомстить Навалу, он шел «на пролитие крови», но жена Навала поспешила к Давиду с дарами и остановила его. Илия — библейский пророк. По преданию, царь Охозия, которому Илия предсказал скорую смерть, посылал за пророком стражников, дабы они привели его. Но дважды, по слову Илии, сходил с неба огонь, спаливший стражников. Согласно Евангелию, Анания и его жена Сапфира продали свое имение и утаили от апостола Петра часть вырученных денег. За это апостол Петр покарал их смертью. Апостол Павел — см. примеч. к гл. 1. Иона — библейский пророк, по преданию, разгневал бога, и корабль, на котором он плыл, попал в страшную бурю. Моряки, узнав, что причина их несчастий Иона, выбросили его за борт. Однако бог приказал киту проглотить Иону, дабы он не утонул. Пророк во чреве кита провел три дня и три ночи, распевая благодарственные гимны господу. По истечении трех суток кит «выплюнул» Иону на сушу.
Глава 80. Родившая того, кто триедин. По учению христианства, бог един в трех лицах: бог-отец, бог-сын, бог — святой дух.
367
ОВАНЕС САРКАВАГ ИМАСТАСЕР
(середина XI века — 1129)
Подробности биографии неизвестны, хотя найдена рукописная биография Саркавага, переписанная в 1378 г. Автор рукописи, как можно предположить, жил в середине XII в., материалы для биографии собирал у учеников Саркавага, которому принадлежат труды по истории, философии, педагогике, космографии, математике. Из немногих поэтических произведений наибольшей известностью пользуется «Мудрая беседа...» Новый перевод — по кн.: Г. Абрамян, Труды Ованеса Имастасера. Исследования и тексты, Ереван, 1956 (на арм. яз.).
101. Перевод печ. впервые. Переведено в отрывках; в подлиннике около двухсот строк. Хоть не была ты в горнице на благовествовании. Имеется в виду евангельское предание, согласно которому апостолы были крещены святым духом. Собрались они в горнице с «некоторыми женами» и Марией, матерью Иисуса, и «явились им разделяющие языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деяния, гл. 2, ст. 3). Ни башен я не строила, ни бога не кляла и т. д. Имеется в виду предание о Вавилонской башне (см. примеч. 100, гл. 1). Амфион из Фив — сын Зевса и Антионы, обладал божественным даром игры на кифаре.
НЕРСЕС ШНОРАЛИ
(1102—1173)
Родился в Киликии в замке Цовк, области Мараш. Был одним из образованнейших людей своего времени. В 1126 г. двадцатичетырехлетний Шнорали был посвящен в епископы, а в 1166 г. — избран католикосом. Из многочисленных сочинений (политические, религиозные, педагогические труды, публицистические речи, письма, духовные песнопения, стихи и поэмы) особенно известны стихи на светские темы. Определенное влияние на средневековую армянскую поэзию имела поэма Шнорали «Элегия на взятие Эдессы»; в средние века создавались подражания этой поэме. Новые переводы сделаны по кн.: Нерсес Шнорали, Стихотворения, Венеция, 1830 (на арм. яз.).
102. Отделены, как заметил еще Моисей, Верхние воды от нижних стихией моей. Моисей — библейский пророк. Имеется, очевидно, в виду библейская легенда, согласно которой море перед Моисеем стало сушей: «И простер Моисей руку свою на море, и гнал господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею и расступились воды» (Исход, гл. 14, ст. 21). Я покрываю собою четыре стихии, т. е. землю, воду, воздух, огонь. По древним преданиям и согласно учениям древних философов, мир создан из вышеназванных четырех стихий или первоэлементов.
104. Согласно Евангелию, изжаждавшегося Иисуса напоила водой из колодца самаритянка из города Сихарь. И сотник римских
368
войск, желчь с уксусом смешав. По преданию, когда Христа распяли, один из римских сотников взял губку, наполнил ее уксусом и дал ему пить. Днем солнце было мглой затем облечено. По евангельскому преданию, когда Иисуса распяли, «от шестого часа тьма была по всей земле до часа девятого». «Или! Или!..» Перед смертью распятый Христос воскликнул, согласно преданию: «Или, Или! лама савахфани?», то есть «Боже мой, боже мой! для чего ты меня оставил?». Завета Ветхого порвался завес — в миг. Имеется в виду смена так называемого Ветхого завета Новым заветом. Авраамовы наследники. Имеется в виду древнееврейский патриарх Авраам, которому было обещано потомство, многочисленное, как звезды на небе и песчинки на морском берегу.
106. Святая троица — см. примеч. 100 (гл. 80).
107. Эдесса — древний город в Северной Месопотамии, с 1098 г. — центр Эдесского графства, государства крестоносцев. В 1144 г. Эдессу и Эдесское графство завоевал эмир города Мосула Зенги, что послужило поводом для организации второго крестового похода (1147—1149). Поэма написана в 1145 или в 1146 г. Переведена в отрывках: в подлиннике свыше двух тысяч строк. Католикос — глава армянской церкви. То было писано в пятьсот и т. д., то есть «в 1144 г. в субботу 23 декабря, в 9 часов утра» (примеч. В. Брюсова). Сыны Агари, или агаряне — арабы. По Библии, Измаил, сын египетской рабыни Агари и патриарха Авраама, стал родоначальником арабских племен, прозванных по имени его матери агарянами. А в сорок с лишним лет войны — «намек на французское владычество в Эдессе, длившееся 46 лет» (примеч. В. Брюсова). Ани — столица средневековой Армении. Царский дом властительных Багратуни (Чей предок — мудрый царь Давид...). Багратуни — древнейшая княжеская фамилия в Армении. Династия Багратуни достигла высшего расцвета в X и в первой половине XI в. Багратуни пришли к власти в 886 г. По преданию, род Багратуни восходит к библейскому царю Давиду. Клирик — священнослужитель. Вардапет — см. примеч. 64. Вишап — дракон, чудовище. Быть как Вардан, как Маккавей. Вардан Мамиконян руководил восстанием армян против Персии в 450—451 гг. Пал в Аварайрской битве в 451 г. Маккавей Иуда — ревностный борец за веру во время гонений Антиоха Епифана Сирийского. Прозвание «Маккавеи» распространилось на всех вообще защитников и исповедников веры.
ОВАНЕС ЕРЗНКАЦИ ПЛУЗ
(ок. 1230—1393)
Плуз — псевдоним поэта (см. об этом во вступ. ст., с. 32). Ерзнкаци Плуз — автор работ по философии, космографии, грамматике. Известен другой Ованес Ерзнкаци — Тцорцореци, младший современник Плуза. Двух этих авторов в недавнем прошлом ошибочно принимали за одно лицо. Ов. Ерзнкаци Плуз был популярным общественным деятелем второй половины XIII в. Известно, например, что
369
в 1280 г. он составил каноны и предписания для ремесленников и торговцев. Подобная обязанность могла быть возложена на человека известного и почитаемого. О популярности Плуза говорят дошедшие до нас легенды о поэте, согласно которым его могила была местом паломничества. Новые переводы сделаны по кн.: Арменуи Срапян, Ованес Ерзнкаци. Исследование и тексты, Ереван, 1958 (на арм. яз.).
113. Что же значит яблоко это, Наземь брошенное тобой? По обычаю, яблоками кидают в женихов. Гяур — так называют турки всех немусульман. Кади — духовный судья у мусульман. «Аллилуйя» — возглас в торжественных песнопениях христианского богослужения. Восемь выучи наших канонов И псалмы в писаньи святом. Имеются в виду восемь основных циклов (канонов), на которые делятся псалмы.
КОСТАНДИН ЕРЗНКАЦИ
(ок. 1250 — начало XIV века)
Сохранилось свидетельство Ерзнкаци о том, что, когда ему было 15 лет, он учился в монастыре. Исследователи полагают, что, рано сложившись как поэт, Костандин Ерзнкаци ушел из монастыря и стал вести светскую жизнь. Судя по стихам поэта, жизнь у него была трудной: неразделенная любовь, враги, преследовавшие его. Известно, что уже в 80-х годах XIII в. Костандин Ерзнкаци был признанным автором: на его смерть Мхитар Ерзнкаци написал плач, который, к сожалению, не датирован. Новые переводы сделаны по кн.: Костандин Ерзнкаци, Стихотворения. Научно-критический текст, исследование и комментарии Арменуи Срапян, Ереван, 1962 (на арм. яз.).
115. Перевод печ. впервые. Лал — рубин. Чинмачин— Китай, здесь употребляется как обозначение далеких сказочных стран. Рейхан — ароматическая съедобная трава.
116—118. Переводы печ. впервые.
118. Лал — рубин. Саз — струнный (щипковый) музыкальный инструмент.
120. Меня всех четырех стихий — см. примеч. 102.
ФРИК
(XIII — начало XIV века)
Биография неизвестна. Время жизни устанавливается по времени написания тех стихов, которые с достоверностью датируются концом XIII в. Полагают, что Фрик — псевдоним поэта. Новые переводы — по
370
кн.: Фрик, Диван. Исследование, текст и комментарии Тирайра Мелик-Мушкамбаряна, Нью-Йорк, 1952 (на арм. яз.).
123. Перевод печ. впервые.
124. Перевод печ. впервые. Лазарь. Имеется в виду евангельская притча о нищем по имени Лазарь и богаче, который при жизни ни разу не помог нищему, за что попал после смерти в ад, тогда как нищий оказался в раю. Пурпур — красящее вещество красновато-фиолетового цвета, а также дорогая ткань, окрашенная пурпуром. Виссон — название ткани, которая в древности и в средние века была предметом роскоши.
126. Перевод печ. впервые. Агари (или агаряне) — арабы (см. примеч. 107). Далмат — так называли жителей Далмации или тех, кто был родом из Далмации, области на восточном берегу Адриатического моря. В данном случае речь идет о далмате, проживающем в Испании. Алан — осетин. Иль ввергли в гнев тебя армяне, Как некогда израильтяне? По библейскому преданию, израильтяне, которых Моисей вел в Ханаан (страна, где, по преданию, поселился патриарх Авраам, земля обетованная), струсили и были наказаны богом. Приговор гласил, что ни один израильтянин старше двадцати лет не получит возможности видеть Ханаан. В течение сорока лет они должны были скитаться в пустыне. «Аллилуйя» — см. примеч. 113.
ХАЧАТУР КЕЧАРЕЦИ
(XIII — начало XIV века)
Сведения о жизни поэта отрывочны. Имя Кечареци упоминается в рукописях 1299, 1314—1315 гг. Под рукописным документом 1295 г. сохранилась собственноручная подпись Хачатура Кечареци. Новые переводы — по кн.: М. Т. Авдалбекян, Хачатур Кечареци. Исследование и текст, Ереван, 1958 (на арм. яз.).
127—128. Переводы печ. впервые.
129. Перевод печ. впервые. Из четырех стихий земных — см. примеч. 102.
130. Перевод печ. впервые.
АРАКЕЛ СЮНЕЦИ
(ок. 1350—1425)
Родился в Вайоц-дзоре (Сюник). Подробности биографии неизвестны. Сюнеци — племянник и ученик крупнейшего философа и общественного деятеля Григора Татеваци (ок. 1340—1409), ректора
371
Татевского университета. Полагают, что Сюнеци преподавал в Татевском университете грамматику и музыку. Был после Григора Татеваци ректором. До нашего времени дошли работы А. Сюнеци по грамматике и философии. Сюнеци — автор речей и проповедей. Писал к своим стихам музыку. Одна из его песен («Сердце мое трепещет...») исполняется и по сей день. Особой известностью пользуется «Адамова книга» Сюнеци.
131. Перевод печ. впервые. В подлиннике этой лирической поэмы больше пяти тысяч строк. Переведена в отрывках. Известны три редакции «Адамовой книги», над которой работал поэт в 1401—1403 гг. Лучшей считается редакция так называемой «Первой Адамовой книги». Здесь публикуются отрывки из этой книги. Сюжет этой лирической поэмы, написанной частью в виде диалогов, восходит к известной библейской легенде об Адаме и Еве. Перевод — по кн.: Аракел Сюнеци, Адамова книга. Опубликовал М. Потурян, Венеция, 1907 (на арм. яз.). Но перед тем, как дьявол завладеет Моей душой, как телом Моисея. Имеются, очевидно, в виду духовные сомнения и колебания Моисея, библейского пророка, возникавшие, как думал Сюнеци, не без влияния злых сил.
ОВАНЕС ТЛКУРАНЦИ
(XIV—XV века)
Биография неизвестна. В одном из стихотворений поэт говорит, что ему 70 лет. Стихи Ов. Тлкуранци впервые были опубликованы Акопом Мегапартом в 1513 г. в первом печатном песеннике на армянском языке. До недавнего времени ошибочно предполагали, что поэт Тлкуранци и католикос Ованес Тлкуранци, живший в XV—XVI вв. — одно и то же лицо. Отсюда делали вывод, что Тлкуранци — первый средневековый поэт, стихи которого были изданы при его жизни, в 1513 г. Однако, как теперь установлено, поэт Ованес Тлкуранци жил в XIV—XV вв. и его нельзя отождествлять с католикосом Тлкуранци. Новые переводы — по кн.: Ов. Тлкуранци, Стихи. Научно-критический текст, исследование и комментарии Эм. Пивазяна, Ереван, 1960 (на арм. яз.).
132. Златой ковчег — «традиционное условное выражение, символизирующее женскую грудь» (примеч. В. Брюсова).
133—134. Переводы печ. впервые.
135. Шамам — небольшая дыня. Мысыр (Мсыр) — название египетско-сирийского халифата. В армянском народном эпосе «Давид Сасунский» «город Мсыр» — собирательное название египетско-сирийского халифата. Хоросан — провинция в Персии, известная в древности своим богатством, роскошью. Абаш — Эфиопия. Емен — Йемен.
372
Яздан, или Ездан — город в Персии. Хата (Хута, Хта) — название Китая в средневековой армянской литературе.
136. В антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» (М., 1916) стихотворение опубликовано как песня некоего Ованеса, жившего в XV—XVI вв. Однако такие ученые, как М. Абегян, Б. Кюлсерян, полагают, что стихотворение принадлежит именно Ованесу Тлкуранци. См.: Манук Абегян, Труды, т. 4, Ереван, 1970, с. 491 (на арм яз). О! кровь мою ты пролила, чтоб алый сок для ног найти. На Востоке женщины красят ноги хной. Кидайте яблоки в меня!.. По обычаю, яблоками кидают в женихов.
137. Поднесший виноград к устам, Из рая изгнан был Адам... Согласно библейскому преданию, бог запретил Адаму и Еве есть плоды с древа познания добра и зла. Самый плод не назван, но считается, что это было яблоко. В армянской средневековой литературе запретный плод, наряду с яблоками, символизирует иногда виноград. Это можно объяснить, очевидно, тем, что в Армении издревле культивировался виноград.
138. Саркис — святой Сергий (см. примеч. 85). Торос — армянский царь (XII в.) Киликийского армянского княжества (царства). Мушег — армянский князь из рода Мамиконянов (VIII в.), один из тех, кто возглавил борьбу армян за независимость в 773—775 гг. Вардан — см. примеч. 107. Тырдат (Трдат) — армянский царь (298— 330) При нем Армения приняла христианство. Джиган (Джахан) — река в Киликии, впадает в Средиземное море. Сис — столица Киликийского армянского царства в XI—XIV вв. Манчак— эмир города Тарса, напавший в 1369 г. вместе с эмиром Алеппо Ишик Тимуром на столицу Киликийского армянского царства Сис. Бои за Сис продолжались несколько лет. Среди защитников армянской столицы отвагой и героизмом отличился спарапет (командующий войсками) Липарит, известный своими подвигами в борьбе против мамелюков. Ован (Иоанн). По предположению Н. Акиняна, речь идет о сыне Липарита, который, как и отец, погиб в борьбе с египетскими мамелюками. — См. журнал «Андес амсориа», 1933, № 1, с. 135 (на арм. яз.).
139. Твердил владыка: «Есмь я Соломон!». Соломон, сын царя Давида, — третий иудейский царь (972—932 до н. э.), прославившийся своей мудростью.
140. Ты мстишь Адамовым сынам. По преданию, сыны Адама, люди, в ответе за то, что их прародители съели запретный плод. Давид — царь древнего Израиля (конец XI — начало X в. до н. э.). Моисей — библейский пророк (XVI—XV вв. до н. э.). Авраам — древнееврейский патриарх. Исаак — сын Авраама. По преданию, испытывая Авраама, бог велел ему принести в жертву любимого сына Исаака. Но когда Авраам занес нож над Исааком, ангел остановил его. Константин — римский император Константин Великий (ок. 285—337). Тиридат (Трдат) — армянский царь (298—330).
373
МКРТИЧ НАГАШ
(l393 — 70-e годы XV века)
Поэт и художник, известный церковный и общественный деятель. Сведения о его жизни встречаются в рукописях XV в. Иллюстрировал своими миниатюрами рукописные книги, некоторые из которых дошли до наших дней. Известно, что в начале XV в. (в 1418 или 1419 г.) Нагаш женился. Вскоре жена умерла. Тяжело переживая смерть жены, поэт навсегда покинул родное село Торр. Нагаш наблюдал жизнь своих сородичей на чужой земле, писал о пандухтах — скитальцах, об их горькой жизни под чужим небом. Новые переводы — по кн.: Мкртич Нагаш, Стихи. Исследование, критический текст и комментарии Эд. Хондкаряна, Ереван, 1965 (на арм. яз.).
142. У жадного и бога нет, — апостол говорит святой. Имеется в виду апостол Павел. Католикос — глава армянской церкви.
143. Перевод печ. впервые.
АРАКЕЛ БАГИШЕЦИ
(XIV—ХV века)
Биография неизвестна. Перу поэта принадлежит ряд сочинений в стихах: «История Овасапа», «История о семи мудрецах», «Взятие Константинополя турками» и др. Сам Багишеци датирует время написания «Взятия Константинополя турками» 1453 г.
144. Переведено в отрывках. Гавриил, то есть человек божий, один из семи архангелов, предсказавший, по преданию, деве Марии рождение Христа.
КЕРОВБЕ
(конец XV века)
Биография неизвестна. Есть мнение, что поэт жил во второй половине XV в. См.: Манук Абегян, Труды, т. 4, Ереван, 1970, с. 480 (на арм. яз.).
145. Переведено впервые по кн.: Аршак Чобанян, Армянские страницы. Поэзия и искусство наших предков, Париж, 1912 (на арм. яз.).
ГРИГОРИС АХТАМАРЦИ
(конец XV—XVI век)
Был католикосом в Ахтамаре. В армянских рукописях начиная с 1515 г. и до 1610-х годов упоминается «Григорис католикос Ахтамарский». Выяснилось, что было три Григориса Ахтамарских и все трое были католикосами и жили в XVI в. Деятельность поэта Григо-
374
риса Ахтамарци приходится на первую половину XVI в. Установлены даты написания некоторых стихотворений поэта: 1515, 1516, 1519, 1523, 1524 гг. Ахтамарци — автор историко-житийных поэм, любовных песен, принесших поэту популярность. Новые переводы — по кн.: Григорис Ахтамарци, Стихи. Исследование, критический текст и комментарии Маис Авдалбекян, Ереван, 1963 (на арм. яз.).
146. Точило — см. примеч. 95.
147. Град Катай — некогда знаменитый город в Восточном Туркестане. Хоросан — см. примеч. 135. Аквамарин — драгоценный камень сине-зеленого цвета. Нунуфар — кувшинка. Гамаспюр — см. примеч. 62.
148. Поднялось солнце в небеса и до Овна дошло, то есть был март месяц. Овен — зодиакальное созвездие; в начале нашей эры в созвездии Овен лежала точка весеннего равноденствия, солнце вступало в знак Овна в марте.
149. Перевод печ. впервые. Сабур — алоэ.
150. Нард — лаванда, полукустарник, с сильно пахнущими голубыми или темно-синими цветами. Калис — мирта.
НААПЕТ КУЧАК
(XVI век)
Достоверных сведений о жизни поэта нет. По преданию, жил в XVI в. в селе Хараконис, расположенном близ Вана. Со временем, как считают исследователи поэта, например М. Мкрян, Кучаку были приписаны стихи, ему не принадлежащие. К таким стихам Мкрян относит айрены, имеющие нравоучительный характер (см.: М. Мкрян, Наапет Кучак. — «Айреники дзайн», 1971, 10 марта (на арм. яз.). См. также вступ. ст., с. 45). Чтобы избежать разностильности, вернее, чтобы не перебивать стиль одного переводчика переводами другого, айрены Кучака расположены здесь не по тематическим циклам, а по авторству переводчиков и хронологии переводов.
155. Яр — любимый, любимая.
161. Месра (Мсыр) — см. примеч. 135.
261. Шамам — небольшая дыня.
293. Алеппо — город в Сирии.
296—316. Переводы печ. впервые.
375
НЕРСЕС МОКАЦИ
(XVI—XVII века)
Родился в селе Аскнджав. В одной памятной записи сказано, что в 1609 г. в Ерусалиме собрались восемь вардапетов и среди них — Барсех Ахпакеци со своими учениками Ованесом Багишеци и Нерсесом Мокаци. Некоторые сведения о жизни поэта приводит историк XVIII в. Аракел Даврижеци. В последние годы поэт жил на острове Лим озера Ван. Здесь он скончался в 1625 г. (по другим сведениям — в 1627 г.).
317. Переведено впервые по кн.: «Избранные страницы армянской литературы с древнейших времен до наших дней», Ереван, 1946 (на арм. яз.).
МАРТИРОС КРЫМЕЦИ
(ум. 1683)
Год рождения неизвестен. Сохранились сведения о его общественной и церковной деятельности. Современники отзываются о нем как о прогрессивном деятеле. Известно, что однажды, когда Крымеци воспрепятствовал незаконному браку и ему стали угрожать, то он сказал: «Заботы и дела наши в том прежде всего, чтобы зло называть злом, а добро добром». В рукописи 1651 г., переписчиком которой был Крымеци, сохранилась собственноручная памятная запись поэта. Крымеци собирал древние рукописи и говорил, что лучше тратить деньги на рукописи, чем копить их. Основное место в творчестве Крымеци занимают сатирические произведения, писал он также лирические стихи и стихи на исторические темы. Новые переводы — по кн.: А. А. Мартиросян, Мартирос Крымеци. Исследование и тексты, Ереван, 1953 (на арм. яз.).
318. Перевод печ. впервые. Амасия — город в северной части Малой Азии на берегу Черного моря. Михридат — понтинский царь Митридат IV, был в союзе с армянским царем Тиграном II (II в. до и. э.). Айк, по преданию, — родоначальник армянского народа. Ирис — река на территории Малой Азии.
НАГАШ ОВНАТАН
(1661—1722)
Родился в деревне Шорот. В начале XVIII в. был приглашен в Тифлис к Вахтангу VI как придворный художник и поэт (Нагаш означает — художник). Судя по количеству рукописных сборников, в которых сохранились стихи Овнатана, он был очень популярен. Таких сборников только в Матенадаране (хранилище древних рукописей в Ереване) больше пятидесяти. Его любовные и сатирические стихотворения близки по языку, по мотивам народной лирике. Новые переводы — по кн.: Нагаш Овнатан, Стихотворения. Подготовка
376
текста и вступительная статья А. Мнацаканяна и Ш. Назаряна, Ереван, 1952 (на арм. яз.).
323. Маза — закуски (олива, сыр, кусочки омара на хлебе и т. п.). Арак — восточная водка.
324. Врастан — Грузия.
325. Перевод печ. впервые.
326. Перевод печ. впервые. Шараб — прохладительный напиток с сахаром.
327—329. Переводы печ. впервые.
БАГДАСАР ДПИР
(1683—1768?)
Багдасар Дпир жил в Константинополе. Подробности биографии неизвестны. Деятельность Дпира многогранна: он выступал как поэт, композитор, издатель и филолог. В 1726 г. им была издана «Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци. Новые переводы — по кн.: Багдасар Дпир, Песни любви и тоски. Подготовили к изданию Ш. Назарян и А. Мнацаканян, Ереван, 1958 (на арм. яз.).
331—334. Переводы печ. впервые.
ПЕТРОС КАПАНЦИ
(конец XVII века — 20 марта 1784)
Родом из Сюника. Подробности биографии неизвестны. Писал на древнеармянском языке. В 1772 г. издал в Константинополе сборник своих стихов «Книжка, называемая „Ергараном"», то есть «Песенником». Новые переводы — по кн.: Шушаник Назарян, Петрос Капанци. Исследование и тексты, Ереван, 1969 (на арм. яз.).
336. Перевод печ. впервые. Отмечен в книге древней и священной, то есть в Библии. По библейскому преданию, Ноев ковчег причалил к горе Арарат (Армения). Кроме того, средневековые армянские историки считали, что армяне происходят от библейского Аскеназа, потомка Ноя. У пророка Иеремии сказано: «Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства Араратские, Минийские и Аскеназские...» (Иеремия, гл. 51, ст. 27). Армянские историки полагали, что и здесь речь идет, в частности, об армянах.
337—338. Переводы печ. впервые.
377
ГРИГОР ОШАКАНЦИ
(1757—1799)
Некоторые сведения о жизни Григора Ошаканци сохранились в рукописях Ованеса Карнеци, близко знавшего поэта. Образование Ошаканци получил в Эчмиадзине. Был видным церковным и общественным деятелем. Литературное наследие невелико — до нас дошло немногим более 20 стихотворений. Переводы — по кн.: Амазасп Воскеан, Четыре армянских лирика и их стихи, Вена, 1966 (на арм. яз.).
339. Перевод печ. впервые. Ани — столица средневековой Армении. В 1045 г. город был взят византийцами, а в 1064 г. — турками-сельджуками. С падением Ани Армения утратила свою самостоятельность.
340. Перевод печ. впервые.
378
К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
(Оригиналы хранятся в Матенадаране — Институте древних рукописей им. М. Маштоца, Ереван).
1. С. 135. Фрагмент из армянской рукописи V—VI веков, образец так называемого капитального, месроповского письма.
2. Между с. 96 и 97. Аварайрская битва (26 мая 451 г. на поле Аварайрском произошло сражение армян с персидскими завоевателями). Рукопись 1482 года.
3. На обороте. Переплет из слоновой кости. VI век.
4. Между с. 128 и 129. Хоран (миниатюрное украшение в начале рукописи). Рукопись 989 года.
5. На обороте. Фрагмент рукописи X века.
6. Между с. 192 и 193. Портрет Григора Нарекаци. Рукопись 1173 года.
7. На обороте. Заглавный лист рукописи 1066 года.
8. С. 201. 178-я страница рукописного сборника стихов Нерсеса Шнорали (XII в.). Рукопись 1644 года.
9. Между с. 224 и 225. Сборный лист украшений на полях «Тчарынтира» («Избранных речей»). Рукопись 1204 года.
10. На обороте. Хоран. Рукопись 1211 года. Рядом с человеком, держащим рыбу, написано: «Шероник, всегда, когда приходишь, приноси рыбу».
11. Между с. 288 и 289. Рисунки на полях рукописей: рисунок Тороса Рослина из рукописи XIII века и рисунок Тороса Таронаци из рукописи 1323 года.
12. На обороте. Хоран. Рукопись XIII века.
13. Между с. 320 и 321. 145—146 страница рукописного сборника Ованеса Тлкуранци. Рукопись 1613 года.
14. На обороте. 21—22 страницы рукописного сборника стихов Григориса Ахтамарци (XV—XVI вв.). Рукопись 1556 года.
379
СОДЕРЖАНИЕ
От «Рождения Ваагна» до Саят-Новы. Вступительная статья Л. М. Мкртчяна 5
НАРОДНАЯ ЛИРИКА
Из древнейших песен
1. Рождение Ваагна. Перевод Н. Эмина................................................................... 61
2. О царе Арташесе. Перевод В Брюсова.................................................................. 61
3. Воспоминания Арташеса. Перевод Л. Мкртчяна............................................... 62
Средневековые народные песни
ТРУДОВЫЕ ПЕСНИ
4. Песня — молитва сеятеля. Перевод Н. Гребнева................................................. 65
5. «Ёр, ёр, ёр, ёр...». Перевод Н. Гребнева................................................................ 65
6. Оровел. Перевод Н. Гребнева................................................................................ 66
7. «Вол, кормилец мой, поспеши...». Перевод Н. Гребнева................................... 67
8. «Денница, как счастливый знак...». Перевод Н. Гребнева................................. 67
9. «Божьей волей плуг спустился...». Перевод Н. Гребнева................................... 68
10. Песня пахаря. Перевод Н. Гребнева.................................................................... 69
11. Песня пахарей. Перевод В. Брюсова................................................................... 69
12. Соха. Перевод Н. Гребнева.................................................................................. 70
13—14. Песни боронования. Перевод Н. Гребнева
1. «Тап-тап-тап-тап...»................................................................................................ 71
2. «Эй, шагай ты прямо, а не в сторону...»............................................................... 71
15. Сеятель. Перевод Н. Гребнева............................................................................. 71
16. Песня полольщиц Перевод Н. Гребнева............................................................. 72
380
17. Песня мотыжницы. Перевод Н. Гребнева.......................................................... 73
18. Песня косаря. Перевод Н. Гребнева.................................................................... 73
19. Песня жатвы. Перевод Н. Гребнева.................................................................... 74
20. Песня жнеца. Перевод Н. Гребнева..................................................................... 75
21—22. Песни молотьбы. Перевод Н. Гребнева
1. «Над землей плывут облака...».............................................................................. 76
2. «Вол, я говорю, как другу...»................................................................................. 77
23. Песня возчика. Перевод Н. Гребнева.................................................................. 77
24. Песня жернова. Перевод Н. Гребнева................................................................. 78
25. Песня крестьянина. Перевод Н. Гребнева.......................................................... 79
26. Маленький земледелец. Перевод Н. Гребнева................................................... 79
27. Песня выпечки хлеба. Перевод Н. Гребнева...................................................... 81
28. Песня маслобойки. Перевод Н. Гребнева........................................................... 81
29. «Ах, сбивалка, ты моя сбивалка...». Перевод Н. Гребнева............................... 81
30. Песня веретена. Перевод Н. Гребнева................................................................ 82
31. Прялка. Перевод Н. Гребнева.............................................................................. 83
32. Песня прялки. Перевод А. Суркова..................................................................... 84
33. Песня чесальщицы шерсти. Перевод Н. Гребнева............................................. 84
ПЕСНИ ЛЮБВИ
34. «Я высечен резцом...». Перевод Н. Гребнева..................................................... 86
35. «Склон вершины Мндзурской слишком крут...». Перевод Н. Гребнева........ 86
36. Поцелуй был сладок. Перевод Н. Гребнева....................................................... 87
37. «Нынче вечером был я пьяным. ..». Перевод Н. Гребнева............................... 87
38. «Как мне спасти тебя?..». Перевод Н. Гребнева................................................ 88
39. Ты — моя милая. Перевод Н. Гребнева.............................................................. 89
40. Раскрылся цветок. Перевод Н. Гребнева............................................................ 89
41. «Стан твой, словно рукоять кинжала...». Перевод Н. Гребнева...................... 90
42. «Ты не плачь, не плачь! — сказал бывалый...». Перевод Н. Гребнева............ 91
43. «Милая, ты в благодатном саду...». Перевод Н. Гребнева................................ 91
44. «Если на гору поднимешь ты взгляд...». Перевод Н. Гребнева....................... 91
45. «Ах, яр, амман, ямман, ямман!..». Перевод А. Кочеткова............................... 92
46. «Я повторять всегда готов...». Перевод В. Брюсова.......................................... 92
47. «Ах, раствориться и стать водой...». Перевод В. Брюсова................................ 93
48. Песня на день преображения. Перевод В. Брюсова........................................... 93
49. «Как из яблок шербет — твой румяный лик!..». Перевод В. Брюсова............ 93
ПЕСНИ ИЗГНАНИЯ
50. «Что, красавица, плачешь в печали...». Перевод Н. Гребнева.......................... 95
51. Я — несчастная пленница. Перевод Н. Гребнева.............................................. 95
52. Журавль. Перевод Н. Гребнева............................................................................ 96
53. «Ручеек немноговодный...». Перевод Н. Гребнева........................................... 97
54. Песня бездомного. Перевод Н. Тихонова........................................................... 98
55. Жалоба куропатки. Перевод Н. Гребнева........................................................... 98
56. Куропатка. Перевод Н. Гребнева......................................................................... 99
381
ПЕСНИ О ПРИРОДЕ
57. Песня о временах года. Перевод В. Брюсова................................................... 100
58. «Как вам не завидовать...». Перевод В. Брюсова............................................. 102
59. Песня аиста. Перевод В. Брюсова...................................................................... 102
60. «Белым снегом вершины покрыло...». Перевод Н. Гребнева......................... 103
ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ
61. Песня облачения царя. Перевод Н. Гребнева................................................... 105
62. Свадебная песня («Царю что дам я, с ним что схоже...»). Перевод В. Брюсова. 105
63. Свадебная песня («С божьего благословения...»). Перевод Н. Гребнева...... 107
64. «Бет дизан» (Свадебная песня). Перевод Н. Гребнева..................................... 110
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ
65. «У меня ль невеста есть...». Перевод В. Брюсова............................................. 111
66. «Баю-бай, идут овечки...». Перевод В. Брюсова.............................................. 111
67. «Колыбель качает южный ветер...». Перевод Н. Гребнева............................. 112
68. «Щечка у тебя бела...». Перевод Н. Гребнева................................................... 112
69. «Наша доченька мала...». Перевод Н. Гребнева............................................... 113
70. «Что за мать тебя породила?..». Перевод Н. Гребнева.................................... 113
71. «Баю-баю, кончается день...». Перевод Н. Гребнева....................................... 114
72. «Баю-баю, Орсагюль...». Перевод Н. Гребнева................................................ 114
73. «Дочку, что досталась нам...». Перевод Н. Гребнева...................................... 114
74. «Соловей под горой...». Перевод Н. Тихонова................................................. 115
ПЛАЧИ
75. «Пришла я, но очи твои не видят...». Перевод Н. Гребнева........................... 116
76. «Был ты жемчугом, мог блистать...». Перевод В. Брюсова............................ 116
77. Плач по ребенку. Перевод Н. Гребнева............................................................ 117
78. Плач матери. Перевод Н. Гребнева................................................................... 117
79. Плакальщицы-матери. Перевод В. Брюсова..................................................... 118
80. Плач вдовы. Перевод Н. Тихонова.................................................................... 118
81. Плакальщицы над молодым. Перевод В. Брюсова.......................................... 119
82. Жалоба сестер. Перевод В. Брюсова.................................................................. 119
ЗАКЛИНАНИЯ
83. «Забелелася заря...». Перевод В. Брюсова......................................................... 120
84. «Погашены огни...». Перевод В. Брюсова........................................................ 120
85. Заклинание на волка. Перевод В. Брюсова...................................................... 121
86. «На подушку я — голову склонил...». Перевод В. Брюсова........................... 121
87. Заклятие старух к луне. Перевод В. Брюсова................................................... 121
382
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ
88. Памятная запись XIV века, принадлежащая переписчику Библии Мхитару Анеци. Перевод Н. Гребнева................................................................................................................................. 125
89. Памятная запись XIV века, принадлежащая переписчику Овану. Перевод Н. Гребнева 128
90. Памятная запись XV века. Перевод Н. Гребнева............................................. 128
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЛИРИКИ
МЕСРОП МАШТОЦ
91. «Море жизни всегда обуревает меня...». Перевод В. Брюсова....................... 133
92. «Подвергнут опасностям и мукам я...». Перевод Л. Мкртчяна..................... 133
93. «Рано утром предстану перед тобой...» Перевод В. Брюсова......................... 133
ИОАНН МАНДАКУНИ
94. «Преображеньем твоим на горе...». Перевод В. Брюсова............................... 134
КОМИТАС
95. «Жены, славны страной и народом своим...». Перевод С. Шервинского..... 136
ДАВТАГ КЕРТОГ
96. Плач на смерть великого князя Джеваншира. Перевод Н. Гребнева............ 137
ГРИГОР НАРЕКАЦИ
97. Песнь сладостная. Перевод Н. Гребнева........................................................... 142
98. Вардавар. Перевод Н. Гребнева......................................................................... 143
99. Песнь Воскресения. Перевод Н. Гребнева....................................................... 144
100. Из «Книги скорбных песнопений». Перевод Н. Гребнева........................... 145
ОВАНЕС САРКАВАГ
101. Мудрая беседа, которую вел в час прогулки философ Ованес Саркаваг с птицей, именуемой пересмешник. Отрывки. Перевод Н. Гребнева................................................................. 195
383
НЕРСЕС ШНОРАЛИ
102. Небо. Перевод Н. Гребнева.............................................................................. 200
103. Солнце истины. Перевод Н. Гребнева............................................................ 202
104. На распятие господне. Перевод В. Брюсова................................................... 202
105. Всем усопшим. Перевод В. Брюсова............................................................... 203
106. При восходе солнца. Перевод В. Брюсова...................................................... 204
107. Плач об Эдессе. Отрывки
«Нерсес оставил песню слез...». Перевод В. Брюсова........................................... 205
«Но и к тебе взываю я...». Перевод В. Бетаки....................................................... 208
ОВАНЕС ЕРЗНКАЦИ ПЛУЗ
108. «Наш мир подобен колесу: то вверх, то вниз влечет судьба...». Перевод В. Брюсова 213
109. «Язык для речи служит нам, речь праведных — что злата звон...». Перевод В. Брюсова 213
110. «Подобен морю мир: сухим остаться, переплыв, — нельзя...». Перевод В. Брюсова 213
111. «Я, все грехи свои собрав, оплакал зло прошедших лет...». Перевод В. Брюсова 214
112. «О безрассудный человек, проснись, опомнись же скорей! ..» Перевод О. Румера 214
113. Ованес и Аша. Перевод Н. Гребнева.............................................................. 214
КОСТАНДИН ЕРЗНКАЦИ
114. Весна. Перевод В. Брюсова.............................................................................. 218
115. Песня чистой весны. Перевод Н. Гребнева.................................................... 220
116. Песня чистой любви. Перевод Н. Гребнева................................................... 221
117. Я — твой пленник, сжалься надо мной. Отрывки. Перевод Н. Гребнева. 222
118. Песня любви. Перевод Н. Гребнева................................................................ 224
119. Иные злословят обо мне. Перевод М. Лозинского......................................... 225
120. Борьба плоти и духа. Перевод М. Лозинского................................................ 227
121. Слово на час печали, написанное о братьях, обидевших меня. Перевод М. Лозинского 228
ФРИК
122. Сердце мое, отчего ты забилось? Перевод Н. Гребнева................................ 230
123. Цветок любви. Перевод Н. Гребнева.............................................................. 230
124. К богатым. Перевод Н. Гребнева..................................................................... 231
125. Колесо судьбы. Перевод В. Брюсова............................................................... 234
126. Жалобы. Перевод Н. Гребнева......................................................................... 236
ХАЧАТУР КЕЧАРЕЦИ
127. Бренное тело корила душа. Перевод Н. Гребнева......................................... 242
128. «Господь словам моим свидетель...». Перевод Н. Гребнева......................... 242
384
129. «Я, смертный, сотворен из праха...». Перевод Н. Гребнева......................... 243
130. Жизнь на земле подобна морю. Перевод Н. Гребнева.................................. 244
АРАКЕЛ СЮНЕЦИ
131. Из «Адамовой книги». Перевод Н. Гребнева................................................ 245
ОВАНЕС ТЛКУРАНЦИ
132. Песня любви. Перевод В. Брюсова.................................................................. 248
133. Лик твой — солнце. Перевод Н. Гребнева..................................................... 249
134. Встретил я красавицу нежданно. Перевод Н. Гребнева............................... 249
135. Не убей меня, любовь. Перевод С. Спасского............................................... 250
136. Песня Ованеса о любви. Перевод В. Брюсова............................................... 251
137. «Земля подобна раю стала...». Перевод Н. Гребнева..................................... 253
138. Песнь о храбром Липарите. Перевод С. Спасского...................................... 255
139. Коль не было б мужей... Перевод Н. Гребнева.............................................. 257
140. К смерти. Перевод В. Брюсова......................................................................... 259
МКРТИЧ НАГАШ
141. Суета мира. Перевод В. Брюсова..................................................................... 260
142. О жадности. Перевод П. Панченко................................................................. 261
143. Странник. Перевод Н. Гребнева...................................................................... 262
АРАКЕЛ БАГИШЕЦИ
144. Песня о розе и соловье. Перевод В. Брюсова................................................. 265
КЕРОВБЕ
145. Горе, несчастному, мне. Перевод Н. Гребнева............................................... 269
ГРИГОРИС АХТАМАРЦИ
146. Песнь об одном епископе. Перевод В. Брюсова............................................ 271
147. Песня. Перевод В. Брюсова.............................................................................. 272
148. Песнь о розе и соловье. Перевод В. Брюсова................................................. 275
149. Песня любви. Перевод Н. Гребнева................................................................ 279
150. Ты — рай для меня. Перевод С. Спасского.................................................... 281
151. Песня (Борьба духа и плоти). Перевод С. Спасского.................................... 282
НААПЕТ КУЧАК
Переводы В. Брюсова
152. «О ночь, продлись! останься, мгла! стань годом, если можешь, ты!..»....... 284
385
153. «На кровле ты легла уснуть, твоя созвездьям светит грудь...».................... 284
154. «Ты в мире — перстень золотой, а я — алмаз на нем...».............................. 284
155. «В ту долгую ночь лишь раз, лишь два я прялку повернуть могла...»........ 285
156. «Ты хвалишься, луна небес, что озарен весь мир тобой...».......................... 285
157. «Идя близ церкви, видел я, у гроба ряд зажженных свеч...»........................ 285
Переводы Ф. Сологуба
158. «Как красиво расцветали все кусты в бахче моей!..»................................... 285
159. «Ты сказала: «Я твоя!» Неужели это — ложь?..».......................................... 286
160. «Высоко ты ходишь, — милой передай привет, луна!..»............................. 286
161. «Спорят с морем под Месрой эти очи глубиной...»...................................... 286
Переводы А. Адалис
162. «Когда ты была моей, на деревьях листва была!..»....................................... 286
163. «Взяли милой моей портрет, по стране вдаль понесли...»........................... 286
164. «С той поры, как рожден на свет, мне спасенья в молитвах нет...»............ 287
165. «Ты журчишь между скал, ручей. Из какой ты страны, из чьей?..»............ 287
Переводы П. Антокольского
166. «Мне б глядеть на твой нежный лик, озаренный лучом луны...»............... 287
167. «Я молод, ты молода: нам любовь — для счастья и мук...»......................... 287
168. «Глаза твои — океан, брови сумрачней облаков...»..................................... 287
Переводы В. Звягинцевой
169. «Откуда ты пришла в мой дом, я был с тобою незнаком!..»........................ 288
170. «Взгляни на тяжелый камень, одумайся, ради бога...»................................. 288
171. «Я избит из-за тебя так, что обнажились кости...»........................................ 288
172. «Скучал я смертельной скукой, томила меня тоска...»................................. 288
173. «Милая, если позволишь платье твое расстегнуть...»................................... 288
174. «Твердили мне: «Красавец наш», — когда я рос в семье родной...»........... 289
175. «Белогрудой красоте платье синее идет...».................................................... 289
176. «Что возьмешь за поцелуй, молви, дивное созданье?..»............................... 289
177. «Шла она с другим, болтая по привычке к многословью...»....................... 289
178. «Я вздыхал, ища напрасно сладостной любви утех...»................................. 289
179. «Ручною птицей на земле я подбирать зерно не мог...»............................... 290
180. «Я решил уйти подальше, чтоб с любовью разлучиться...»......................... 290
181. «В мире две великих силы: смерть и скорбь любви земной...»................... 290
182. «Люди пришли и сказали: „Стал твой любимый монахом..."»................... 290
183. «Вино твоего румянца мне пить бы опять, опять...».................................... 290
184. «Вышла из-за гор луна с голубой звездою вместе...»................................... 291
185. «Шла в церковь милая моя, я преградил дорогу...»...................................... 291
186. «Пришел по делу, вышла ты, и я забыл о деле...»......................................... 291
187. «Гляну вниз иль гляну вверх я — краше не найду...».................................. 281
188. «Ты — пальмовое деревцо с негнущимся стволом...».................................. 291
386
189. «Я вышел ночью за вином, держа кувшин в руке...».................................... 292
190. «Я увидел на веревке выстиранное белье...»................................................. 292
191. «Шла любимая из бани, раскрасневшись от тепла...»................................... 292
192. «Если б та, чей стан свободно перехвачен пояском...»................................ 292
193. «Я смертно по тебе тоскую, и стоишь ты того...»......................................... 292
194. «Вот гранат, разрежь, ты видишь, сколько зернышек внутри...»................ 293
195. «Благословен ушедший с милой за дальний перевал...».............................. 293
196. «Из чего ты создана? Из рубина, изумруда?..».............................................. 293
197. «Как-то из дому я вышел, хмель в крови моей играл...».............................. 293
198. «Выбери четверостишье, что на ум тебе придет...»...................................... 293
199. «Если б стало чернилами всё бесконечное море...»...................................... 294
200. «Обращаюсь я к творцу: сохрани ушедших вдаль!..»................................... 294
201. «Худо стать бедняком, распроститься с богатством своим...»..................... 294
202. «Самым худшим из проклятий проклинала сына мать...»........................... 294
203. «Ежечасно сокрушаюсь о скитальчестве своем...»........................................ 294
204. «Обидевший скитальца пусть станет сам таким...»...................................... 295
205. «Яблоки прячешь ты целый год за пазухой, на груди...»............................. 295
206. «Жалок тот, кто, имея немало родных и семью...»........................................ 295
207. «Цари, князья, врата закона, властители земли...»........................................ 295
208. «Спросили мудреца: „Скажи, ты знаешь или нет..."»................................... 296
209. «Я странствовал. Как в зеркале увидел мир. И что ж?..»............................. 296
210. «Цари, султаны, все, кому пришлось высоко сесть...»................................. 296
211. «Абрикосами, инжиром радуют деревья в срок...»....................................... 296
212. «От долгих раздумий растут и печаль и забота...»........................................ 296
213. «Приносит зло и белое и красное вино...»..................................................... 297
214. «Невинным агнцем был рожден я матерью моею...».................................... 297
215. «Запомни сказанное мной, внимательно прослушай...».............................. 297
216. «Душа моя ушла из тела, и горько плакал я...».............................................. 297
217. «Вот что мне в голову пришло, спасибо мысли за приход...»..................... 297
218. «Клеветы человеческой пуще всего берегись...».......................................... 298
Переводы Н. Гребнева
219. «Бог, создавший людей для счастья...»........................................................... 298
220. «Не нужна ты мне, не нужна...»...................................................................... 298
221. «Пред тобою я, мой желанный...»................................................................... 298
222. «Как нам быть — все про нас говорят...»....................................................... 299
223. «Ночью вышел я из ворот...»........................................................................... 299
224. «Я по белому свету ходил...»........................................................................... 299
225. «Я ошибся, пожалуй, в одном...».................................................................... 300
226. «Мой любимый, ты всё не со мною...»........................................................... 300
227. «Как завидую я лампадам...»........................................................................... 300
228. «Белогрудая в кофте белой...»......................................................................... 300
229. «Милый мой, мне принесший зло...»............................................................. 301
230. «Ах, любовь, с тобой пропадешь...»............................................................... 301
231. «Говорил я сто раз подряд...»........................................................................... 301
232. «Всё опять началось сначала...»...................................................................... 301
233. «Ты пронзила мне грудь стрелою...».............................................................. 302
234. «В эту ночь я блюла закон...».......................................................................... 302
235. «Шел я вечером, было темно...»...................................................................... 302
236. «Я, как всякая птица, дика...».......................................................................... 303
237. «О, гордячка моя непреклонная...»................................................................. 303
387
238. «Что ты белые щеки румянишь...».................................................................. 303
239. «Шел по улице неторопливо...»...................................................................... 303
240. «Я опился, но не вином...»............................................................................... 304
241. «Ловчий сокол я с красным кольцом...»......................................................... 304
242. «Что, бедняжка, ты так бледна?..»................................................................... 304
243. «Ой вы горы, ой серые скалы...»..................................................................... 305
244. «Я в любви, как ребенок малый...»................................................................. 305
245. «Эх, глаза, мне бы выжечь вас...»................................................................... 305
246. «Говорят, что любовь на земле...»................................................................... 306
247. «Словно лавка с товаром красным...»............................................................ 306
248. «Сердцу жаловались глаза...».......................................................................... 306
249. «Непослушным глазам своим...»..................................................................... 306
250. «О миндаль, над твоей головой...»................................................................. 307
251. «Говорят у нас горожане...»............................................................................. 307
252. «Ради бога, что создал нас...».......................................................................... 307
253. «О царица, пусть будет воспета...»................................................................. 308
254. «Где была ты, откуда пришла?..».................................................................... 308
255. «Звезды, с неба сойдите прочь...»................................................................... 308
256. «Нет пути ни назад, ни вперед...»................................................................... 308
257. «Ты — ловушка моя, западня...»..................................................................... 309
258. «Я тебе надоел, ну что же!..»........................................................................... 309
259. «Было слышно: вода рокочет...»...................................................................... 309
260. «Твердь небесная, твердь земная...»................................................................ 310
261. «Черноброва ты, тонкостанна...».................................................................... 310
262. «В мире этом, где боль гнездится...».............................................................. 310
263. «Ах, чего от меня хотят...»............................................................................... 311
264. «Кто солгал нам, что под луной...»................................................................. 311
265. «Мне б рубашкою стать льняною...»............................................................... 311
266. «Ты — красива, ты — молода...».................................................................... 312
267. «Месяц, месяц, куда ни пойду...».................................................................... 312
268. «Мне пред тем, как совсем рассвело...».......................................................... 312
269. «Брови черные, грудь бела...».......................................................................... 313
270. «Замок твой на скале в лесу...»........................................................................ 313
271. «Ты не яблочко ли румяное...»........................................................................ 313
272. «Что мне делать, скажи, ради бога...»............................................................. 314
273. «Лишь глазами ты поведешь...»...................................................................... 314
274. «Стан твой тонок, ты высока...»..................................................................... 314
275. «Ты — жемчужина, ты — светла...»............................................................... 314
276. «На земле, где мы все живем...»...................................................................... 315
277. «Дорогая, однажды тайком...»......................................................................... 315
278. «Я, влюбясь, изготовил чернила...»................................................................ 315
279. «Видишь, яблоня на пригорке?..»................................................................... 316
280. «Ты — и яблоко, и — цветок...»...................................................................... 316
281. «Это яблоко, вижу, созрело...»........................................................................ 316
282. «Я страдаю, горю в огне...»............................................................................. 317
283. «Тут старушка живет у нас...»......................................................................... 317
284. «Чахну, сохну который день я...».................................................................... 317
285. «Пусть завидуют все кругом...»...................................................................... 317
286. «На любимую бросьте взгляд...»..................................................................... 318
287. «Как исправить мне глупость мою?..»........................................................... 318
288. «Спой мне песню, о спутник мой...».............................................................. 318
289. «Боль и радость в сердце моем...»................................................................... 319
388
290. «Чье легло на меня проклятье?..».................................................................... 319
291. Стал ручьем я по воле божьей......................................................................... 319
292. «Что я, глупая, натворила...»........................................................................... 319
293. «Милый твой в Алеппо живет...»................................................................... 320
294. «В плен меня увезли, мой брат...»................................................................... 320
295. «Милый, как мне с тобой расстаться!..»......................................................... 320
Переводы А. Кушнера
296. «Я, как скала, крепка...»................................................................................... 321
297. «Из дома выйди своего...»............................................................................... 321
298. «Я спал, но чуткий слух...».............................................................................. 321
299. «Достался поцелуй...»....................................................................................... 321
300. «Грудь твоя — белоснежный храм...»............................................................ 322
301. «Видишь, как покраснела я...»......................................................................... 322
302. «Вышел ночью навеселе...»............................................................................. 322
303. «Когда склонилась ты...»................................................................................. 323
304. «От любви пробежит по мне...»...................................................................... 323
305. «Я прозрачнее ладана стал...».......................................................................... 323
306. «Думал, помнишь обо мне...».......................................................................... 323
307. «Поцелуй, обознавшись, просил...»................................................................ 324
308. «Ясный месяц говорит...»................................................................................ 324
309. «Рос я деревцем в горах...».............................................................................. 324
310. «Не останусь здесь, прощай...»........................................................................ 325
311. «Ослепительный блеск...»................................................................................ 325
312. «Красавица, тебя господь...»............................................................................ 325
313. «Эти волосы, брови и взгляд!..»...................................................................... 325
314. «Утром, выйдя за порог...»............................................................................... 326
315. «Пророк Давид, тебя молю...»......................................................................... 326
316. «Художник кисть и краски взял...»................................................................. 326
НЕРСЕС МОКАЦИ
317. Спор Неба и Земли. Перевод Н. Гребнева...................................................... 327
МАРТИРОС КРЫМЕЦИ
318. Песнь, восхваляющая город Амасию. Перевод Н. Гребнева........................ 330
319. Вино. Перевод Н. Гребнева.............................................................................. 331
320. Иерей Симеон. Перевод Н. Гребнева.............................................................. 332
НАГАШ ОВНАТАН
321. Песня любви. Перевод В. Брюсова.................................................................. 334
322. «Я нарядною тебя видел на заре...». Перевод В. Брюсова............................ 335
323. «Ты мне сказала: „Настала весна..."». Перевод В. Брюсова.......................... 336
324. Песнь о грузинских красавицах... Перевод П. Панченко............................. 337
325. «Приди ко мне в цветущий сад вечернею порой...». Перевод Н. Гребнева 338
326. Ты откуда прилетела, птица? Перевод Н. Гребнева...................................... 339
389
327. «Тебе достойную воздам ли дань я?..». Перевод Н. Гребнева...................... 340
328. Ты и лань моя и газель. Перевод Н. Гребнева................................................ 341
329. «Лик твой — как луна, глаза горят...». Перевод Н. Гребнева...................... 342
330. Песня весны и радости. Перевод С. Спасского............................................. 342
БАГДАСАР ДПИР
331. Песня весны. Перевод Н. Гребнева................................................................. 344
332. Не плачь, соловей. Перевод Н. Гребнева........................................................ 345
333. Свет моих очей. Перевод Н. Гребнева............................................................ 345
334. К Мамоне. Перевод Н. Гребнева..................................................................... 346
335. «Пришла весна, и меж ветвей — тиховей...». Перевод С. Шервинского... 347
ПЕТРОС КАПАНЦИ
336. Народу моему любимому. Перевод Н. Гребнева........................................... 349
337. Стаи. Перевод Н. Гребнева.............................................................................. 350
338. Не осыпай, о роза, лепестки. Перевод Н. Гребнева....................................... 350
ГРИГОР ОШАКАНЦИ
339. Плач о городе Ани. Перевод Н. Гребнева...................................................... 352
340. Песня любви. Перевод Н. Гребнева................................................................ 353
Примечания............................................................................................................... 355
К иллюстрациям........................................................................................................ 379