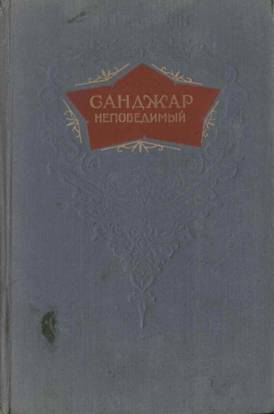
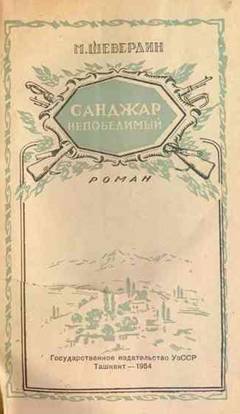
Михаил Шевердин
САНДЖАР
НЕПОБЕДИМЫЙ
РОМАН
Государственное издательство УзССР
Ташкент 1954
Художник Вл. Кайдалов
OCR и вычитка – Давид Титиевский, июль 2008 г., Хайфа
Библиотека Александра Белоусенко

Часть 1

I
Потухал за темной грядой барханов багрово-желтый закат. Одинокое дерево, последнее дерево оазиса, тянуло к небу иссохшие ветви, похожие на руки скелета.
Конь ступал по проезжей кишлачной дороге с колеями арбяных колес, со следами подков на пухлой пыли, с отпечатками широких верблюжьих ног.
Незаметно среди кустиков бурой колючки дорога рассыпалась на узкие тропинки, выбитые в степном дерне копытами баранов и коз. Полуразвалившаяся мазанка с шестом на крыше и холмики могил говорили, что где-то близко, быть может, есть человеческое жилье. Но людей не было видно.
Вечер не принес прохлады. Зной. От лошадиной гривы тянуло терпким запахом конского пота. Надоедливая муха назойливо липла к щеке. Седло стало неудобным. Шаг коня нет-нет, да и сбивался.
— Смерть твоему отцу,— бормотал всадник, с трудом шевеля потрескавшимися, иссохшими губами.— Как была бы уместна сейчас сочная дыня...
Два дня путешествия, похожего на бегство, два дня лишений и горьких мыслей под жестокими лучами солнца. Конь измотан, клонит ко сну, веки слипаются, из тьмы подсознания медленно выбираются первые отрывки сновидений...
Вздрогнул, потянул к себе повод. Чуть слышно, где-то очень далеко, то нарастал, то затихал грохот артиллерийской канонады.
5
Всадник посмотрел назад, в сторону далекой Бухары. Но, насколько хватал глаз, видны были лишь желтовато-пегие, словно облезлые бока верблюда, холмы. Последнее дерево осталось позади, расплылось в пятно. Кругом ни кустика.
Из сумерек выплывали развалившиеся глинобитные стены.
Всадник снова тронул коня. К горлу комом подкатила злоба.
— Проклятие вашим отцам,— шептал путник.— Рабы осмелились роптать на слуг эмира, испытывать терпение тени аллаха на земле. Раньше жили вы здесь, стояли ваши дома, шумел базар, а вот сейчас осталось лишь немного глины и камней. Сильна карающая рука.
Голова путника невольно повернулась на юг. И сразу отлетел сон. Что это? Отблеск потухшей зари?
— Зарево. Горит благородная Бухара. Горит тысячелетняя Бухара!
Злобно подхлестывая камчой лошадь, он ехал дальше мимо развалин.
— Душить надо, резать, давить надо...
Блаженные времена священного эмирата!.. Тогда зарево стояло над степью. Всего год назад здесь землю топтали подковы коней, неслись истошные вопли женщин, валялись в пыли раздавленные копытами лошадей младенцы. По велению эмира! Так было приказано, и так было нужно.
А он — Али-Мардан-бек, носящий громкий титул диванбеги — высокого министра эмира, сидя на коне, взирал равнодушно на стонущих мятежников. Он был непреклонен...
Пришли когда-то сюда люди. Оживили пески. Побежала по арыкам вода. Дехкане слепили из глины мазанки, построили дома баям, имамам, воздвигли мечети, лавки. Зашумел кишлак.
Тень падала от карагачей, плескалась рыба в глубоких хаузах. Цвел персик. Танцевал сладостный танец юноша.
Но... одно движение руки эмира,— и нет богатого кишлака. Скалит зубы в пыли желтый череп. Осыпаются стены домов. Ползет черная черепаха. Еще десятилетие — и на месте селения останутся только холмики да
6
черепки глиняной посуды. Кто тогда вспомнит о людях, живших здесь?
Мимо, смутно белея в сумерках, проплыл бархан. Из песка торчал полузасыпанный минарет кишлачной мечети.
Конь поднялся на гребень песчаного холма. Всадник долго смотрел на юг. Зарево стало больше и выше. Видно, пожар разгорался.
Где сейчас эмир? Если город горит — эмира там нет. Кто бы мог подумать, что властитель, одно слово которого заставляло трепетать миллионы людей, потеряет в несколько часов и столицу и власть. Но... кто знает, что записано на скрижалях судьбы!
И Али-Мардан вспоминал поручение эмира, его напутственные слова:
«...Доставить мне драгоценности, где бы я ни был. И сделать так, чтобы никто не нашел даже следов рудника. Без нашего дозволения ни одна собака чтобы не притронулась к нашему достоянию. Помни, что лучшее из молчаний — молчание могилы...»
Долог путь в пустыне. Ноги коня уходят в песок. Тьма опускается на землю. Воздух делается густым и тяжелым. Мучит жажда. На зубах скрипит песок. Одежда тянет плечи пудовой тяжестью. Поступь коня становится неуверенной, тряской. Кажется, что нет конца дороге, что едешь уже вечность и что ехать нужно еще вечность.
В эти тревожные, полные волнений дни над всеми дорогами цветущего Бухарского оазиса стояли с утра до поздней ночи облака белой пыли. Кишлаки опустели, базары замолкли. Дехкане шли туда, к «сердцу земного круга», к благородной Бухаре.
Неясные слухи бродили из кишлака в кишлак, из вилойята в вилойят. Говорили, что оплот эмиров — Бухара — осаждена восставшим народом и красными богатырями.
Лица людей, шедших по дорогам, были сумрачны и полны решимости. Многие несли оружие: дедовские пищали и фитильные самострелы на треногах, изогнутые сабли, толстые палицы с тяжелыми чугунными шарами на ремешках. Трудовой люд поднялся против эмира.
Завидев всадника в черном бархатном халате, увешанного дорогим оружием, прохожие отбегали в
7
сторону, на обочину дороги и отвешивали глубокие поклоны.
Али-Мардан ни с кем не заговаривал. Люди молча пропускали его. Только изредка, уже за спиной всадника, раздавался приглушенный возглас:
— Али-Мардан, сам... кровопийца...
Или кто-нибудь говорил сквозь зубы:
— Гадина...
Но Али-Мардан словно не слышал; он только подхлестывал коня.
Дальше и дальше... Туда, где кончается зелень оазиса и где вплотную к полям и садам подкрадываются красные пески пустыни Кызыл-Кум. Все реже кишлаки, все чаще плоские пустыри, белеющие налетом соли.
Черного всадника в те дни видели и запомнили многие.
У старой мельницы он попросил воды. Оробевший старик-мельник подошел с грубой глиняной пиалой в руках.
— Быстрее, ты! Кому подаешь?
Али-Мардан в бешенстве ударил мельника камчой по спине...
Никто не видел и не знал, где провел ночь одинокий путешественник. Но на рассвете второго дня он неожиданно выехал из тополевой рощи, перепугал до смерти двух базарных торгашей и исчез так же внезапно, как и появился.
К вечеру Али-Мардана видели в степи, у развалин древнего города. Черный силуэт всадника резко вырисовывался на фоне пылавшего заката. Фигура верхового делалась все меньше и меньше. Вот она стала совсем маленькой — всадник повернул коня и еще несколько минут двигался по самой линии горизонта, на грани неба и земли. И внезапно пропал.
Больше никто в тех местах Али-Мардана не видел, и память о нем, самом жестоком из придворных эмира, сохранилась только в мрачных легендах.
Говорили, что Али-Мардана поглотили красные пески, что его пожрали злые дивы пустыни.
II
Неистово залаяла собака.
Всадник напряженно вглядывался в черный провал между двумя барханами. В темноте склоны их шевели-
8
лись. С трудом можно было разобрать, что это отара овец. Слышался плеск воды, бульканье, блеянье; скрипел блок колодца.
Али-Мардан облегченно вздохнул. Он не заблудился, он на верном пути. Раз овцы — значит вода, отдых...
— Кто? Кто?— крикнул из темноты голос.
— Именем повелителя правоверных...
Тот, кто живет близ реки или даже у самого маленького арыка, тот не знаком с изнуряющей жаждой пустыни. Но он — житель оазиса — не знает и незабываемого ощущения — утоления пламени во рту, раскаленном, как кузнечный горн.
Пусть вода будет мутная, солоноватая. Пусть она припахивает кожей бурдюка, пусть в ней плавают какие-то стремительные букашки... Никакой напиток не может сравниться с водой, утоляющей жажду путешественника в знойных песках.
Собака, надрываясь, прыгала около храпящего, пятившегося назад, коня. Рядом беззвучно выросла фигура человека.
— Воды. Пить,— с трудом проговорил путник.
Он долго пил тепловатый и очень кислый айран из большой деревянной чашки и, только напившись, тяжело и неуклюже сполз с коня.
Высокий старик, проворно отвешивая поясные поклоны, вел коня под уздцы и почтительно указывал путь знатному гостю.
— Эй-эй, Рустам, кошму, тащи кошму его милости, еще одеяло...— кричал старик.
— Что за местность?— спросил путешественник и, кряхтя, опустился на подстилку.
Он сидел в тени, но отсветы пламени костра часто вспыхивали на серебряных украшениях темнолилового бархатного пояса и дорогого оружия.
— Великий бек,— лепетал старик, потирая трясущиеся руки,— великий, могущественный, мы только пыль на пути ваших благородных ног. Вы осчастливили своим посещением пастушеское селение Кош-Как, что лежит в степной стороне Шафриканского вилойята...
Странен и дик был вид старика. Его одежда состояла из лохматой шапки, покрытой клочьями вылезающей шерсти, и вонючей козлиной шкуры с двумя дырками для рук. Пастух был бос. Под его нависшими бровями
9
горели черные глаза. Оттопыренная нижняя губа и длинная тощая бородка придавали лицу хитрое выражение,
— Куда направляетесь, ваша милость?— вдруг проговорил он.
— Молчи! — оборвал его Али-Мардан, и старик снова согнулся в поклоне.— Молчи, нищий, не задавай неподобающих вопросов. Я выполняю поручение его величества эмира.
Старик и подошедшие пастухи упали ниц и на мгновенье замерли.
Али-Мардан чуть заметно усмехнулся в черные с проседью усы.
«Покорные рабы,— подумал он.— Раб останется рабом, которому нужна плеть».
И он произнес очень громко и важно:
— Велика сила аллаха и его наместника на земле — великого нашего повелителя. Нет ничего, страшнее гнева его. Каждый да повинуется установленным законам.
— Эй, бек!— прозвучал в темноте из-за костра молодой голос.— Достойнейший бек, степь разносит слух... Пришли люди Ленина — большевики и помогли рабам и нищим. Народ поднял руку против наместника пророка, люди вошли в город и прогнали его величество из арка.
Али-Мардан вскочил. Из горла его вырывались сдавленные звуки.
— Кто сказал... осмелился сказать?— наконец выкрикнул Али-Мардан.— Пусть встанет сюда, к костру.
Пламя костра освещало седобородые изможденные лица, глубоко запавшие глаза, провалившиеся щеки, борозды морщин, беззубые рты. С напряженным вниманием вглядывались люди пустыни в пришельца. Огрубевшие, покрытые канатами набухших жил руки сжимали суковатые дубинки и пастушьи посохи.
Все тот же старик засуетился, закланялся и, подобострастно прижимая руки к животу, заныл:
— Мой бек, достопочтенный бек, не причиняйте себе огорчений, слушая болтовню молокососа.
— Сюда, пусть выйдет сюда!— неистовствовал путешественник.— Я хочу посмотреть цвет его крови. Иди сюда, собака!— крикнул он в темноту.
Старик залебезил.
— О господин, он только ничтожный пастух, молодой подпасок, невежда. Санджар, сирота Санджар...
10
— Удавить его. Осмелившийся оскорбить повелителя погибнет смертью собаки... Приказываю!
Лица стариков отшатнулись в полумрак. Пастухи забормотали что-то. Они совещались.
— Нет, нет!— крикнул все тот же юношеский голос.
Молодой пастух вступил в круг красноватого света костра. Санджар был высок и крепок. Он кутался в накинутый на плечи чекмень, и весь облик его дышал достоинством. Хотя пастух старался и вида не показать, что он напуган, подбородок его вздрагивал, глаза тревожно бегали.
— Что я сделал, ваша милость!
— На колени, несчастный. Эй, старики! Снова выдвинулись вперед бородатые лица.
— Свяжите ему руки... так. Кто здесь хороший мясник? Ну!
Никто не отозвался.
— Эй, вы, прирежьте этого продавшего себя неверным, убейте его, а голову насадите на высокий шест. Пусть все видят, как карает эмир. Кто из вас мясник?
Жутко было смотреть на черного в блестящих украшениях человека, беснующегося при багровом свете костра.
Еще через минуту пастух стоял на коленях со связанными руками, низко опустив голову. Веревка была ветхая, сильному юноше ничего не стоило разорвать ее. Но страх перед власть имущим, воспитанный поколениями, парализовал силы Санджара.
Опять заговорил суетливый старец. Униженно кланяясь, он сообщил важному господину, что мясника сейчас нет.
— Да простит великий бек, мясник сейчас в степи. За ним немедленно пошлют. Проклятого болтуна, пусть сгорит могила его отца, до приезда мясника бросят в сухой колодец. А там, утром, если угодно его могуществу, Санджара прикончат ради прославления божьей милости.
Молодого пастуха увели куда-то в темноту. Чтобы отвлечь мысли грозного гостя от неприятного происшествия, старики обратились к нему с просьбой:
— Великий господин, просветите глупые наши пастушеские головы своим мнением. Кто живет долго среди баранов, сам легко превращается в барана. Пусть бек станет судьей и разрешит наши сомнения.
11
Вельможа успокоился. Он сидел, важно поглаживая холеную бороду. Знатный гость милостиво поинтересовался делами кишлака.
На чуть белеющей во мраке тропинке появилось несколько темных бесформенных фигур. Закрывая лица накинутыми на головы халатами, женщины присели на корточки в стороне, подальше от огня.
— Достойный господин, величайшего сожаления заслуживают поступки женщины нашего селения,— заговорил старшина.— Зайн-апа недавно стала вдовой. Священный закон определяет: разделить баранов и деньги, и имущество ее мужа на восемь частей, и одну часть из восьми передать вдове для того, чтобы она вырастила детей своего мужа. Так повелевает закон, так мы и поступили. Но вредная женщина не говорит «спасибо», она кричит и утром, и днем, и ночью. Кричит настойчиво и надоедливо: «Вай дод, вай дод!» И требует какого-то еще законного дележа. Сварливая женщина таскается и к настоятелю мечети, и к судье, и к старшине селения. И всем она надоедает и говорит, что не может согласиться на такую малую долю наследства, что она стара и некрасива, и груди ее иссохли, и она не может надеяться, что кто-нибудь захотел бы ее и взял бы в жены. Зайн-апа смеет выражать недовольство законом, оставляющим ей, как вдове, восьмую долю имущества умершего. Вот, господин, поступок женщины Зайн-апа и ее чудовищная неблагодарность.
Высокая худая старуха вскочила.
— Ты, ты...— пронзительно закричала она,— хоть ты и белобородый, но где твой ум? Да что, ты не знаешь разве? Не видишь, что у меня четыре сына, не считая дочерей? Ты хорошо знаешь, что остальные семь частей имущества умершего мужа моего забрали себе его братья да дядья, и без того каждый день имеющие плов и жирное мясо на ужин. Вай дод!
— Женщина, прекрати разговор,— важно сказал Али-Мардан,— уши мои устали слушать твою жалкую болтовню. Ты обременяешь мир своим ишачьим упрямством.
Диванбеги подозвал стариков и пошептался с ними. Затем величавым жестом разгладил бороду и громко, так, чтобы было слышно сидящим поодаль, сказал:
— Будет совершено по закону... Величайшие авторитеты нашей веры, основоположники шариата, предписы-
12
вают в отношении малоумных и слабых, а таковой, несомненно, является эта вдова, проявлять благосклонность и милосердие. Поэтому мы, руководимые снисходительностью, решили в отношении нее применить методы убеждения и совета.— И, помолчав, вкрадчиво спросил вдову:
— Женщина, согласна ли ты с законом, дающим тебе восьмую часть имущества мужа?
— О великий и могущественный, о покровитель вдов, заклинаю вашу милость, пожалейте меня и детей, оставшихся сиротами. Я не соглашусь, смерть на мою голову, с таким решением.
— Слушайте, белобородые,— обратился к старикам Али-Мардан.— Вдова, жалкая и ничтожная, смеет выражать недовольство законом. Поступайте же согласно с требованиями обычая степняков.
Старики не спеша приблизились к вдове. Та, трясясь от страха, медленно отступала назад, но продолжала упорно и монотонно выкрикивать: «Нет, нет!»
Старики схватили женщину за руки. Принесли большой мешок из толстой полосатой материи. Засунули в него отчаянно сопротивлявшуюся вдову. Туда же швырнули принесенного из кишлака фыркающего и ворчащего кота. Мешок туго завязали и бросили на песок.
По знаку Али-Мардана один из пастухов длинной палкой стал наносить по мешку удары. Мешок задергался, из него послышались заглушённые вопли и кошачий визг.
После каждого удара Али-Мардан, посмеиваясь и поглядывая на стариков, спрашивал:
— Эй ты, женщина, эй, Зайн-апа, согласна ли ты, что надлежит безропотно повиноваться высоким мусульманским законам?
В мешке шла возня. Несчастная женщина, видимо, пыталась вскочить на ноги: тюк неуклюже привставал и снова тяжело падал на песок. Али-Мардан от души потешался.
Пытка продолжалась, но на все вопросы вдова сквозь стоны выкрикивала:
— Нет, нет... о... во имя аллаха... ради моих сыновей я требую справедливости. Не хочу, чтобы мои дочери умерли с голоду. Стойте, остановитесь, выпустите меня, вы убиваете меня! Убили, вай дод!
13
Снова били палкой по мешку. Кошка царапалась, впивалась зубами в тело женщины, раздирала его когтями.
Терпелива была в своем отчаянии вдова Зайн-апа, но не выдержала зверской пытки.
Медленно поднималась над барханами холодная луна. В лощине стало светлее. У потухающего костра толпились жалкие косматые люди. Посреди круга лежал шевелящийся мешок. Из него доносились стоны и всхлипывания. Все молчали, молчал и посланец эмира, благородный диванбеги Али-Мардан.
— Освободите мою душу... Я умираю,— простонала Зайн-апа.
Осторожно развязали мешок. Кот выскочил и, фыркая, бросился в сторону. Вдову вытащили наружу. Вся в крови, Зайн-апа еле держалась на ногах. Шатаясь, побрела она прочь.
Со смешком Али-Мардан бросил ей вдогонку:
— Эй, женщина, поспала с котом?..
И, довольный своей шуткой, он громко расхохотался.
Старики молчали. Никто даже не улыбнулся.
Али-Мардан нахмурился. И этого было достаточно, чтобы все потихоньку разошлись. Присутствовать при трапезе сановного гостя остался лишь старшина селения и два-три почтенных старика.
Угощение подходило к концу. Путешественник, пачкая салом руки и чавкая, высасывал мозг из раздробленной кости молоденького барашка.
— Почему вы испытываете мое терпение,— заговорил он, вытирая пальцы о грязный просаленный дастархан,— лежавший прямо на земле,— почему вы тянете? Мясник пришел? Пусть приведут преступника и отрежут ему голову. Я хочу видеть сам.
Старики бросились ниц.
— Милости, милости, бек, милости!
Али-Мардан резко поднялся:
— Где голова наглеца, осмелившегося порочить имя великого эмира? Я прикажу посадить вас всех на кол!
Старики ползали по песку, просили, умоляли, целовали сапоги везира.
Ничто, казалось, не изменилось в священном эмирате. Блестящий вельможа, грозный бек повелевал. В руках его были души ничтожных... Но в поведении стариков было что-то новое, едва ощутимое, и все же заметное.
14
Они проявляли еще подобострастие, пресмыкались усердно, но не торопились повиноваться.
Али-Мардан нечаянно взглянул вверх и невольно съежился. Далеко на юге в небе стояло кровавое зарево. Не могли не видеть его и пастухи.
Превозмогая тревогу, Али-Мардан срывающимся голосом прокричал:
— По велению величества, по велению светлейшего выполняю государственный приказ. Всякий пусть знает фетву: «помощь и содействие», «помощь и содействие». Становящийся на пути посланца эмира, препятствующий и чинящий ему помеху, будет подвергнут жестокому наказанию. Ступайте, приведите.
Старики ушли и долго где-то пропадали. Из темноты выступила неясная фигура.
— Кто? Стой!— путешественник тревожно поднял голову.
— Ваш слуга, достойный бек,— сладко пропел старческий голос.— Не угодно ли перед сном освежить горло зеленым чаем?
Принесли чугунный кувшинчик с кипятком и чайники. Али-Мардан расположился поудобнее на кошме, подложив под локоть плоскую подушку и вытянув ноги.
— Простите нескромность,— не сказал, а ласково опять пропел старик,— не сочтите за навязчивость. Куда господин направляется?
— Мой путь известен эмиру и звездам,— ответил Али-Мардан,— дело мое великое и важное.
Хозяин промолчал. Из впадины между барханов потянуло холодом. Послышался скрип шагов по песку. Во мраке вырисовывались фигуры людей,
— Ну,— поднялся Али-Мардан,— ну, что?
— Господин! Пастух Санджар убежал.
Али-Мардан даже не вспылил. Он предпочел промолчать. Показалось ему, что по губам стариков змеились улыбки. Но лучше было ничего не замечать.
III
Пустынный нищенский кишлак...
Домики его, слепленные из серой с желтизной глины, цветом своим нисколько не отличаются от бескрайней степи, плоской, как большой бухарский поднос, и с при-
15
поднятыми, как у подноса, краями на горизонте. В пыльной мари, затянувшей степь, не сразу разглядишь, когда издалека подъезжаешь к кишлаку, что здесь живут люди,— а живут они здесь из поколения в поколение, не видя ничего, кроме грубо сложенных глиняных хижин и спаленной жгучим солнцем красной земли...
В самом центре кишлака растет дерево. Это огромный тенистый карагач. Его совершенно круглая, шаровидная крона осеняет небольшой водоем с зеленоватой, тинистой водой.
Как выросло здесь дерево? Посадил ли его кто-нибудь? Занесла ли в давние годы семечко птица?
Никто точно сказать не может. Даже самый старый, самый дряхлый из стариков, кишлака, Бобо-Калян — Большой дед, настоящее имя которого и возраст никому не известны, и тот на вопрос о карагаче качает головой и говорит:
— Когда я был маленьким, а тому уже больше ста лет, этот карагач стоял здесь, и в тени его белобородые старейшины нашего селения решали все дела, и назывался карагач, как и сейчас,— Деревом Совета.
В десяти шагах от Дерева Совета растет его отпрыск, с виду совсем юное деревцо. Но и оно уже имеет солидный возраст. По словам Бобо-Каляна, дерево посажено благочестивым охотником Шарипом, а он умер еще при дедушке Бобо-Каляна... Вот как давно посажено маленькое деревцо, а небольшие размеры его объясняются тем, что в сухой степи деревья растут очень медленно.
Большинство обитателей степного селения Кош-Как не задается вопросом — стары или молоды эти деревья. Достаточно вполне, что они растут здесь и что без них нельзя представить себе селения Кош-Как. Без них, может быть, кишлак перестал бы существовать.
Между карагачами расположен обычный степной колодец с глиняной надстройкой и деревянной вращающейся клеточкой, на которую наматывается шерстяная веревка с кожаным ведром на конце.
Ведро только что вытащил статный, крепкий юноша в сильно поношенном, но опрятном чекмене из домотканного верблюжьего сукна, перепоясанном выцветшим поясным платком, красным с желтой вышивкой. Голова юноши чисто выбрита и защищена от солнца бухарской золотошвейной очень старой и поблекшей тюбетейкой.
16
Юноша красив. Тонкие черты его смуглого, с пробивающимся румянцем, лица напоминают жителей аравийской пустыни. Это не удивительно — в кишлаке живут потомки древних обитателей Мавераннахра, и Санджар, так зовут молодого пастуха, считает себя принадлежащими племени туркмен. Правда, Санджар, как и все жители кишлака, говорит только по-узбекски. Язык предков утрачен.
Перелив воду из кожаного ведра в глиняный кувшин, Санджар останавливается и смотрит очень грустно на листву Дерева Совета, в чаще которой чирикают хлопотливые воробьи. Санджар медлит, топчется на месте, вздыхает и, наконец, подняв кувшин, не спеша идет в сторону. Но, пройдя несколько шагов, он вдруг издает невнятный возглас и ускоряет шаг... Лицо юноши багровеет.
Навстречу ему идут две девушки. Они одеты в длинные платья из плотной материи, своим покроем напоминающие рубахи, и в длинные до пят, расшитые шаровары. Но неуклюжая одежда не может скрыть изящества Гульайин — старшей из девушек. В ней очень много женственного — и в не по летам развитой груди, и в изгибе стана, и в узких бедрах. Сверкающее ожерелье из серебряных монет, тяжелые серьги, блестящие каштановые косы обрамляют ее лицо с огромными карими глазами и чуть вздернутым носиком.
Нет нужды скрывать: под взглядом девушки Санджар чуть не выронил из рук кувшин. Сердце его как будто упало в холодную пучину, небо и степь потемнели.
Только не здесь, только не у колодца, только не с кувшином в руках хотел он встретиться сегодня, в решающий день своей жизни, с Гульайин...
То, что сказала девушка, повергло Санджара в бездну отчаяния:
— Ох, сестричка, посмотри, бедненький Санджар! Он будет вечно бабой в своем хозяйстве. У него нет жены, которая принесла бы ему кувшинчик воды.
Что ответила сестрица злой на язык красавицы, Санджар не слышал. Он бросился бежать, провожаемый звонким смехом девушек.
Увы, Санджар был слишком неопытен, слишком прост, чтобы разгадать прозрачный намек, содержавшийся в словах Гульайин. И он быстро, так быстро, как только мог, зашагал по тропинке.
17
...Санджар покидал обитель своих отцов и дедов. Он уходил сегодня из родного дома, из родного кишлака в дальний путь, быть может, навсегда.
Вот почему он не удивился, когда, перешагнув порог домика и очутившись сразу в темном, прохладном помещении, услышал глухие всхлипывания и причитания.
— Тетя,— сказал вздрогнувшим голосом Санджар,— тетя Зайнаб, я принес воду... Вскипятить чай?
— О, кто теперь будет приносить мне воду из колодца... О, сынок мой, душа моя,— запричитала старушка, беря трясущимися руками кувшин.
Тетушка Санджара была не так уж стара, но тяжелый, изнурительный труд состарил ее преждевременно.
— Сынок мой, не слушай моих вздохов, не обращай внимания на мои слезы. Ты поедешь и скоро вернешься богатым и могучим, как гиждуванский бек... Ты не какой-нибудь нищий бродяга без роду, без племени, или анашист, ядовитым дымом конопли отшибший себе память и даже не помнящий своего отца. Нет, сынок, у тебя и отцы, и деды были достойные люди. Твой прапрадед Шодмон был прозван Кудукчи-ота за то, что он, прийдя сюда, в голую степь, нашел место с близкой водой и выкопал колодец. В мазаре, что стоит у большого Дерева Совета, похоронен и он, и его сын Рахман-строитель. Он первый начал строить дома вместо земляных нор, в которых ютился наш пастуший род до него. Сын Рахмана-строителя, тоже Шодмон, был пастух и следопыт. Он ходил по песчаным холмам далеко на север, искал новые пастбища и рыл для своих баранов новые колодцы. Был у него сынок Закир, самый бойкий из семи сыновей; не понравилось ему жить в степи с козами да баранами. К тому же, когда Шодмон-следопыт умер и сыновья поделили стадо, налетели слуги эмира, пусть сядут на его голову вороны, и забрали из каждых десяти овец девять, как налог и пошлину за наследство. Жил Закир где-то на юге, много воевал в стране афган и только в преклонном возрасте вернулся в родной кишлак. Привез он немало денег и жену смуглянку, но такую красавицу, что из-за нее потеряли покой все юноши селения. Много бед принесла эта женщина нашему кишлаку. Отняли ее у мужа и увезли в гарем к самому эмиру
18
в Бухару. Закира, осмелившегося сопротивляться воинам эмира, бросили в темницу, где его заели клещи, а кишлак за бунтарство разорили. Прадед твой, Шарипходжа, начал жизнь поэтому в сиротстве и нищете. Он был великим чабаном и охотником. За то, что он истребил несчетное число волков, а стрелял он из лука так, что на сорок шагов попадал в медную монету, его уважал весь наш народ, и когда он, в возрасте девяноста шести лет, в расцвете сил, был убит сборщиком налогов, ему построили мазар и имамы объявили его святым. Но какой святой был Шарипходжа, скажи пожалуйста! Больше всего он любил песню, и притом веселую. Любил он еще войну и ратные подвиги, и много лет как доброволец-карачирик, а то и воин нукер воевал против кочевников. И потом он не очень-то уважал законы ислама — пил вино и заглядывался на кишлачных красавиц, за что терпел при жизни и от имамов, и от чиновников бека. Даже мухтасиб приезжал в наш кишлак из-за него. Суровая кара часто грозила Шарипу, но народ выручал его. Долго жил твой прадед, но и он не сумел нажить богатства. Не нажил много и твой дед Шакир, такой же пастух, как и его предки. Сколько он ни накапливал денег, все отбирали жадные сборщики налога. И помни еще одно, сынок: и твой отец, и твой дед, и твой прадед полжизни, а то и всю жизнь служили пастухами у баев. Но никогда ни один из твоих предков не гнул перед богачом-хозяином шею, и ни один бай не осмеливался поднять на своего пастуха руку. В нашем роду битых не было. Никто в семи поколениях твоих отцов не был рабом, помни это, сын мой. Пищей их была пища бедняков — варево из головы барана, кислое молоко и сухая лепешка с отрубями, но никогда они не продавались ни за серебро, ни за золото...
Тетушка Зайнаб решила, что после вчерашнего случая с эмирским вельможей Санджар должен немедленно исчезнуть из кишлака. А тетушка Зайнаб была второй матерью Санджара.
Отец Санджара был не из последних жителей кишлака. Своим трудом он обеспечил себе безбедное существование и имел небольшое стадо каракулевых овец. Но трагическая смерть его во время снежного бурана повлекла за собой разорение семьи. Эмирские чиновники быстро расхитили его состояние, затеяв сложную волоки-
19
ту с наследственными пошлинами. Даже домашняя утварь едва не попала в жадные лапы полицейских; к счастью тетушка Зайнаб проявила совершенно неподобающие женщине-мусульманке свойства: она выгнала из дома развязных молодчиков, начавших тащить одеяла, медные кувшины, платья... А незадолго до налета эмирских головорезов сын местного амлякдара ночью увез мать Санджара.
Злые языки утверждали, что похищение произошло не без согласия красавицы-вдовы. Этому несколько противоречили вопли и крики, разбудившие весь кишлак. Но кто знает? Быть может, в последнюю минуту проснулись чувства матери, разлучавшейся навсегда со своим ребенком.
Погоня вернулась ни с чем. Санджар остался круглым сиротой на руках у тетки.
Матери своей он больше не видел. До Кош-Кака доходили неясные, неуловимые, как степные ветры, слухи о том, что вдова недолго жила в доме амлякдара. Ее отнял у него знатный вельможа, который стал впоследствии правителем Денауской провинции в Восточной Бухаре, но в те времена для степняков Кызыл-Кумов пятьсот верст, отделявших кишлак Кош-Как от Денау, были почти непреодолимы, и Санджар рос в полном неведении — жива его мать или нет?
Родной матерью для него стала тетушка Зайнаб.
Она хлопотала сейчас, собирая своего любимца в дальнюю дорогу, на Соленые колодцы, расположенные в семи днях пути к северу от Кош-Кака. Там паслись отары каракулевых овец двоюродного брата тетушки Зайнаб, могущественного бая Музафара. К нему посылала старушка племянника, надеясь, что там он станет испытанным чабаном, а может быть, о, предел мечтаний, женится на дочери дяди, породнится с ним, разбогатеет.
— Когда сделаешься баем, когда у тебя будет свое стадо, вспомни о старушке, которая была тебе матерью, и...— тетушка Зайнаб всхлипнула,— позови ее к себе доить овец. Хоть одним глазком я смогу поглядывать на тебя, мой золотой месяц...
У Санджара опускались руки. В горле начинало першить. Он отворачивался, отходил в угол и шмыгал носом, как будто ему было не девятнадцать лет, а четыре-
20
пять, и будто он был не бравым джигитом, а сопливым мальчишкой, который держится за подол матери. Он только мог выговорить:
— Тетушка... тетушка,— и машинально гладил голову огромного пса Волка, который растерянно тыкал холодным мокрым носом в его ладонь и жалобно скулил.
Еще ночью тетушка Зайнаб сбегала к единственному грамотному в кишлаке человеку, настоятелю мечети, достопочтенному потомку пророка Ходжа Иноятулле. За скромный дар — кусок сбитого из овечьего молока масла — он написал арабскими буквами на клочке пергаментной бумаги «молитву путешествующих и скитающихся». Тщательно складывая бумагу треугольником, чтобы вложить ее в сшитый из тряпки амулет, духовный наставник степной паствы, хотя любопытствовать совсем не пристало столь знатной духовной особе, осторожно спросил:
— Кто же, тетушка, отправляется в далекое путешествие?
— Ой, домулла... я сама хочу сходить к священному колодцу Хозрета. Скоро ведь умирать, а я ни у одной святыни еще не молилась...
— Хорошее дело задумала. Да... А сынок твой Санджар не ушел еще из кишлака?
Тетушка Зайнаб поняла, что ее хитрость раскрыта, и испуганно забормотала:
— Уходит, уходит. Завтра уходит...
— И правильно делает. Разве можно перечить великим и почтенным? Нельзя перечить. Пусть он уходит подальше, пусть степь наша укроет Санджара пока не забудется его дерзновенный поступок.
Он усмехнулся в седую, пожелтевшую от времени бороду, и добавил:
— А в молитве я, тетушка Зайнаб, написал имя Санджара. Исправить, что ли?
— Да нет, пусть уже останется...
Она ушла в смятении, пораженная проницательностью имама, преисполненная благоговейным к нему почтением.
На рассвете тетушка Зайнаб пришла будить своего мальчика, свое счастье. Прикосновение рук, надевавших на него амулет, разбудло Санджара. Он поспешил, встать.
21
Утром пили ширчай, сытное кушанье из горячего молока, заваренного зеленым чаем, овечьего масла и кусков лепешки, сдобренное пахучим черным перцем. После завтрака тетушка Зайнаб читала племяннику, согласно обычаю, наставления.
— Помни,—
говорила она,— что наказывал отец трем своим сыновьям — юным богатырям,
отъезжающим на поиски птицы счастья. Вот что он сказал им: «Внимайте и помните!
Не будьте ворами — и будете ходить с гордой головой, не хвастайте — и стыд не
коснется вашего лица, не  лентяйничайте —
и не будете несчастными». Сын мой, как тяжело на сердце... Но я знаю, птица
счастья не уйдет от твоих рук...
лентяйничайте —
и не будете несчастными». Сын мой, как тяжело на сердце... Но я знаю, птица
счастья не уйдет от твоих рук...
Она поцеловала юношу в лоб и долго стояла в дверях, глядя, как Санджар, провожаемый жалобно скулящим Волком, медленно удалялся, погоняя осла, по тропинке в степь.
Санджара провожал не только взгляд, его тетки: на краю кишлака, в тени глинобитной стены полуразрушенного дома стояла девушка. Она тоже жадно смотрела на уходившего юношу.
Девушка не раз поднимала руку ко рту, чтобы крикнуть, и каждый раз беспомощно опускала ее.
Но Санджар не видел девушки. Обуреваемый горькими чувствами, он, если и оборачивался, то только для того, чтобы посмотреть на родной дом и на тетушку Зайнаб. Наконец, он остановился и погладил Волка по голове.
— Иди... иди домой!
Ему пришлось прикрикнуть на собаку, и только тогда Волк, поджав обрубок хвоста, понуро побрел обратно в кишлак.
IV
Немало лет прошло со времени описанных событий, изменилось лицо пустыни Кызыл-Кум. Сейчас все: и чабаны Ак-Тепе, и старательные земледельцы Синтаба, и неутомимые бродячие охотники — мергены, и звонкоголосые караван-баши — водители верблюжьих караванов, все в один голос утверждают, что в памяти людской никогда не было столь страшного песчаного урагана, как в тот год.
22
Уже с вечера были замечены зловещие предвестники надвигающейся беды: кровавое солнце медленно тонуло в кирпично-красных, застывших волнах песка, в небе буйствовала оргия красок.
После душной ночи солнце вставало с трудом. Стена желтовато-серой пыли поднималась ввысь. И казалось, что это не солнце восходит с востока, а желтая, призрачная луна. Дымная стена неумолимо надвигалась на колодцы, аулы, стоянки степных пастухов. Небо темнело, красноватая марь разливалась в воздухе.
Ураган начался сразу. Барханы задымились, словно гигантские костры. В воздухе понеслись веточки саксаула, травинки, пучки колючки, крупный песок. Свет померк, стало темно.
Много бед наделал буран. Погиб скот кочевых аулов — бесследно пропали чабаны и отары овец. Засыпало Колодцы. Исчезли юрты с целыми семьями. С тех пор тот год в песнях кызылкумских певцов именуется «Годом ветра».
Накануне бурана из Бухарского оазиса вышел и углубился в пустыню знаменитый скотовод и богач, бухарский лихоимец Саттарбай Зайнутдин-кази. Две сотни чабанов пестовали его многотысячные стада великолепных каракулевых баранов. Были у него и бесценные производители, дававшие потомство с серебристой шкуркой, и бронзово-золотистые ширази, и иссиня-черные араби с нежным завитком, подобным локону возлюбленной.
Всю ночь дороги на краю пустыни оглашались заунывными выкриками чабанов — «гей, гек-гек», лаем псов, блеянием баранов.
Бай спасал свое добро от восставшего народа, от большевиков. Он бежал через пустыню, через море барханов в далекий Хорезм. Безумный страх завладел Зайнутдином. Он метался на взмыленном коне между отарами и рассыпал удары камчой направо и налево.
Старики-чабаны подходили к Зайнутдину, предостерегали:
— Бай-ака, идет красная буря... Путь далек. Колодцы не проверены.
Но Зайнутдин гнал отары все вперед и вперед. Он уходил в пустыню, страшась народного гнева.
По безлюдным тропам вел Зайнутдин-бай свои неисчислимые стада, свою жизнь, свое богатство. Зоркие
23
проводники искали дорогу к колодцам по звездам. Но раскаленный ветер — злой гармсиль спутал тропинки, заметал песком древние скотопрогонные пути от базаров Бухары, Вабкента, Шафрикана к амударьинским бродам и дальше — в великий Хорезм.
Шел бай через Кызыл-Кумы на север, подгоняя чабанов, подгоняя свои стада. Как только последний баран на водопое у колодца утолял жажду, Зайнутдин извлекал из кожаного расшитого футляра пиалу, наполнял ее водой и медленно пил, молитвенно закрыв глаза. Помолчав немного, он начинал кричать неистовым голосом:
— Эй, слуги, рабы, несите кетмени!
Слуги в несколько минут засыпали колодец, или бросали в него издохшего барана.
Зайнутдин-бай, в дикой ненависти к народу, восставшему против господина, обрекал жителей степной области Кимирек на вымирание, а их скот на гибель.
— Во имя бога,— громко говорил он, проводя руками по лицу и бороде,— во имя бога! Оомин!
— Оомин!— вторили спутники, грузили кетмени на верблюда и пускались вдогонку за стадами.
А через много дней к берегу полноводной Аму вышла жалкая пара — крупный, косматый козел, вожак стад, и изможденный, в лохмотьях, страшного вида человек с посохом в руке. Никто не признал бы в нем богача Зайнутдина-бая.
Это было все, что осталось от тысячных отар, все, что отдала пустыня. Остальное — и людей, и стада, и богатства похоронили в своих безбрежных пространствах Кызыл-Кумы.
Исчезли стада из области Кимирек, ушли чабаны. Безмолвие смерти пришло в степь.
В глуби песчаного моря возникает точка. Она мала, она равна песчинке.
Точка по временам исчезает, кажется, что это обман зрения. Но нет — она чуть-чуть увеличивается, она движется; медленно, но движется.
В пустыне видно далеко. И нужно ждать по крайней мере полчаса, пока точка превратится в маленькое пятно. Сейчас уже ясно, что среди песчаных холмов движется
24
живое существо. Больше того, можно разглядеть, что это всадник.
Лошадь тяжело плетется по склону бархана, спускается, исчезает в лощине, вновь появляется. В движениях всадника нет уверенности, он едет, часто меняя направление; временами он подолгу задерживается на гребне бархана и напряженно вглядывается вдаль.
Усталое лицо всадника почти черно. Халат покрыт пылью, конь еле держится на ногах. С трудом можно узнать в этом обросшем человеке с воспаленными глазами знатного вельможу Али-Мардана. Он слезает с лошади и идет пешком. Но ноги не слушаются. По сыпучему песку идти трудно.
Али-Мардан бормочет сквозь зубы:
— Лысый бархан! Где Лысый бархан?
Два дня назад улеглась, утихомирилась буря.
Ураган изуродовал лицо пустыни, занес песком следы караванных троп, засыпал трупы павших от жажды животных, разметал пепел и уголь костров. До самых верхушек заметены песком кусты саксаула, к веткам которых привязаны тряпочки, чтобы легче было найти путь к колодцу, носящему невеселое название «Человек не вернется».
Отчаяние, страх смерти сжимают сердце Мардана. Он разговаривает сам с собой вслух.
— Где колодец? Проклятая буря... Вернуться... Нет, не доберешься до воды. Конь до утра не выдержит.
Временами бормотание становится бессвязным — Али-Мардан, словно в бреду, выкрикивает слова угрозы.
Кругом, куда ни взглянешь, на горизонте блестят водной гладью озера, но стоит приблизиться к ним, и они исчезают, растворяются в синеве небосвода.
— Пропал, пропал,— бормочет путник.— Пешком далеко не уйти. Где же бархан?
И Али-Мардан начинает исступленно хлестать коня камчой, дергать уздечку.
На вершине холма, только недавно насыпанного ветром, он снова сдерживает хрипящего коня.
Солнце стоит в зените. Печет. Кругом расстилается песчаное море — бесчисленные гряды барханов застыли мертвыми, однообразными волнами.
Али-Мардан тронул поводья, конь шагнул вниз по склону бархана. Но рука с камчой застыла в воздухе.
25
— Кх-ххк,— раздалось явственно и громко. Али-Мардан не верил своим ушам.
— Кх-ххк... ну, ну...
Из-за гребня бархана появились длинные ослиные уши, шея, седло...
Над спиной осла возникла красная с блестками, побуревшая от времени чалма, затем голова человека.
Осел вышел на песчаный склон, равнодушно ущипнул жалкую сухую травинку и остановился, меланхолично шевеля своими толстыми ушами.
Человек в пастушьей одежде пытливо и недоверчиво изучал Али-Мардана.
Солнце наполняло воздух нестерпимым светом и жаром. Вершины барханов чуть-чуть курились. Потянуло сухим, горячим ветром.
Пастух и вельможа смотрели друг на друга молча.
— Собака,— прохрипел Али-Мардан,— ты смеешь не приветствовать знатных мира! Я приказываю, ты повинуешься.
Человек в чалме встрепенулся, но не похоже было, что он испугался. На потемневшем лице его было видно только утомление и равнодушие.
— Господин, мы пыль ваших следов. Степь велика. Воины эмира далеко. Пастушеские законы иные, нежели в городах. Здесь, в песках, нет господина и раба. Здесь есть только дорожные братья.
— Вода у тебя есть?
— Есть немного, один глоток...
Пастух достал из хурджуна небольшой кожаный мешок и деревянную чашку. Забулькала вода. Али-Мардан забыл обо всем на свете. Слез с коня и схватил пиалу.
Конь, храпя и фыркая, тянулся к чашке...
Напряженно припоминал Али-Мардан, где он видел пастуха. Его открытое лицо казалось очень знакомым. Напрягая память, вельможа перебирал последние встречи. Что-то важное, серьезное ускользало из памяти...
— Куда идешь?— крикнул Али-Мардан.— Где Лысый бархан? Где путь к колодцу «Человек не вернется»?
Пастух усмехнулся:
— Великий бек кричит на меня. Но и ничтожный смертный может быть полезен большому господину. Лысый бархан разметало ветром. Нет больше Лысого бархана. Но дорогу можно найти... Я проведу великого бека.
26
Как человек пустыни отыскивает дорогу — загадка. Никаких признаков караванных троп не осталось после песчаного бурана, никаких опознавательных знаков. Безмолвно высились громады сыпучих холмов. Кустики саксаула и тамариска были все одинаковы с виду.
Вверх, вниз. Путь в пустыне измеряется не верстами, не километрами, а днями. Медленно проплывают мимо барханы, глубоко в песок уходят копыта лошадей. Поскрипывают кожаные ремни, позвякивают стремена...
Солнце уже клонилось к горизонту. Пустыня была все та же.
И вдруг лошадь встрепенулась и шумно потянула ноздрями воздух. Задремавший было в седле Али-Мардан приподнялся на стременах. Вдали, еще очень далеко, белела плоскость такыра и на ней чуть темнело пятнышко.
— «Человек не вернется»,— громко сказал шедший рядом пастух,— вода, много воды.
Еще час утомительного, напряженного пути. Проводник незаметно ушел вперед. Он быстро и размашисто шагал по песку в своих мягких сапогах. И ноги его не вязли глубоко.
До колодца оставалось сотни две шагов. Когда песок кончился и путники вступили на твердую, как паркет, глину такыра, Али-Мардан вдруг вспомнил...
— А! Так вот кто это!
Он снял через голову винтовку и окликнул проводника:
— Санджар, эй!
Пастух удивленно повернул голову на оклик.
— Ага, ты Санджар, большевик. Ты умрешь за то, что осмелился оскорбить величие мира. Стой, не шевелись!
— Господин, я не большевик, я человек степи, указавший вам дорогу из песков — где смерть, к колодцу — где жизнь. Оказавший помощь врагу становится другом врага, таков закон пустыни. Постойте, господин...
— Мудрые сказали: пощадивший врага сам погибает. Вот тебе закон.
Выстрел почти не прозвучал. Словно кто-то ударил палкой по ватному одеялу. Песок и накаленный тяжелый воздух смягчили звук.
27
Санджар шагнул, растерянно взмахнул рукой, ноги подвернулись, и он, как мешок, опустился на землю. Что-то пытался сказать. Тяжело повалился на бок. Пальцы разметавшихся рук впились в трещины такыра.
Али-Мардан с минуту смотрел: потом спокойно закинул за спину винтовку и тронул коня камчой. Вельможа был доволен. Он разделался с презренным пастухом, осмелившимся поднять свой голос против властителей. Дух возмущения должен быть подавлен в самом зародыше.
Конь ускоряет шаг. Сейчас будет вода... Еще минута.
С трудом Али-Мардан перекидывает ногу через седло и спускается на землю. Неверным шагом подходит к глиняному возвышению. Небольшой водоем, к которому ведет желоб, высеченный из глыбы белого нуратинского мрамора пересох, но глубоко в черном провале колодца заманчиво блестит вода.
Скорее воды! Скорее, скорее...
Конь с яростным нетерпеньем трется мордой о глиняный выступ и жалобно ржет. Али-Мардан бегает вокруг колодца, выкрикивая проклятия, растерянно бормочет, поднимается на возвышение, сбегает на такыр. Снова бежит, хватается за голову и бессильно спускается на край возвышения.
— Пить,— хрипит Али-Мардан,— воды!
Вода, точно голубое блюдце, виднеется на глубине десятка метров. Ни ведра, ни веревки нет. Пастухи, уходя, все забрали или зарыли.
Вода близко, но ее не достанешь...
Наступает ночь. Прохлада не утоляет жажды. Человек вновь вскакивает. Он похож на помешанного. Он ползает на четвереньках и воет, снова и снова заглядывает в темный провал колодца, откуда тянет сыростью и плесенью. Отламывает кусочки глины и сосет их, словно надеясь, что они потушат пожар во рту. Иссохшие губы еле шевелятся:
— Азраил, Азраил, черная тень...
На рассвете Али-Мардан вскочил и зашагал по такыру, туда, где лежало тело Санджара.
— Он пастух, он знает, где ведро... где прячут ведро,— бормотал Али-Мардан.
У подножья бархана на границе песка он остановился и начал соображать. Голова кружилась.
26
Вот отпечатки копыт на твердой корке такыра, вот красновато-бурое пятно — кровь. Но тело пастуха исчезло. Нет и осла.
Мардан захохотал дико, хрипло:
— Санджар! Шакалы утянули труп, съели Санджара...
И посланец эмира поплелся обратно к колодцу. Мысли его путались.
Дрожащими руками он отстегнул ремень от винтовки, сцепил его с поясом. Распустил и привязал к ремню чалму. Прикрепив это подобие веревки к деревянному вороту, Мардан, упираясь ногами в стенки, начал опускаться вниз к воде.
Солнце выкатилось из-за цепи барханов. По белой поверхности такыра струились потоки лучей. Пустыня замерла. Вдруг в полной тишине раздался характерный звук рвущейся материи. На вороте колодца дернулся небольшой лоскут чалмы.
Конь, стоявший, низко опустил голову, насторожился. Далеко под землей раздался глухой всплеск и заглушённый вопль. Жадно глотая воду, Мардан приподнялся и сел так, что голова и грудь оказались над водой.
«Пойдешь, не вернешься, пойдешь, не...»
Мир погрузился во мрак, только где-то далеко в вышине медленно кружилось пятно света.
«Не вернешься...» Пятно кружилось, разрасталось... больше... больше.
Мир, казалось, шатался. Вздымались и опускались барханы. В хаосе пятен прыгали и исчезали мысли. Сильно качало, встряхивало.
Вдруг все стало ясно, все припомнилось. Али-Мардан попытался занять на спине верблюда более удобное положение и осмотрелся.
Песчаные желтые холмы плыли наперегонки по горизонту. Голова кружилась, поташнивало. На зубах скрипели песчинки.
Рядом с верблюдом шагали согбенные люди, нет, тени людей. Жалкие рубища покрывали их изможденные тела. На ногах звякали ржавые цепи.
«Осужденные навечно, — мелькнула мысль,— я достиг Цели».
29
Верблюд шагал, покачиваясь. От неудобного положения затекли руки и ноги. Кровь прилила к голове.
— Стой, собака!— крикнул Мардан.— Остановись!
— Стой!— завизжал бородатый человек в лохмотьях и начал размахивать палкой перед мордой верблюда.
Верблюд уныло заревел, опускаясь на колени.
Мардан спустил ноги на песок, сделал несколько неуверенных шагов, расправил члены и с облегчением вздохнул. Внезапно вырвал из рук погонщика посох и начал наносить удары по склоненным спинам.
— Кто господин?— хрипел Мардан.— Убить надо каждого, кто осмелился коснуться посланца эмира. Казнь самая ужасная... кожу с живых!
На коленях к вельможе подползал старик.
— Милостивый, мудрый, могучий,— шепелявил он беззубым ртом,— позволь собаке открыть рот и сказать.
Капельки пота выступили на лбу посланца эмира. Он остановился, всмотрелся в лицо старика. Старик был страшен. Оба уха оторваны, вместо носа зиял черный провал, на руках не хватало по два пальца. На обнажившейся местами из-под просаленных отрепьев спине розовели полосы старых рубцов. Видно, палач основательно поработал, прежде чем отправил свою жертву на каторгу.
Али-Мардан посмотрел вокруг. Отвратительные маски толпились перед ним — люди с вырезанными языками, безглазые, безносые, все в зловонных струпьях, незаживающих, гноящихся ранах. Осужденные навечно ползали по песку, стонали, мычали, молили.
— Позволь сказать,— говорил старик.— Мы не замышляли плохого. Мы извлекли вашу милость из колодца. Мы везем вас, светлый бек, в рудник Сияния к господину невольников. Пощады! Пощады!
Старик тянулся к полам халата. Мардан брезгливо оттолкнул его.
— Отойди!
— Пощады, пощады!— завопили осужденные и поползли к Мардану.
— Тот опустил палку.
— Где мое оружие?
Осужденные навечно завыли еще громче:
— Пощады! Пощады!
Старик, икая от страха, рассказал, что около колодца ничего не нашли.
30
— Вот коня поймали...
Мардан оглядел коня. Хурджун с продуктами, седло, сбруя — все было цело. Но винчестера не было.
Мардан отлично помнил, что перед тем, как опускаться в колодец, он положил оружие на глиняное возвышение. Там же он оставил и патронные сумки, чтобы лишняя тяжесть не мешала добраться до воды. И вот теперь винтовки нет. Перед толпой осужденных Мардан чувствовал себя голым, беззащитным. Он подозрительно рассматривал распростертые на земле фигуры.
— Довольно,— прервал Мардан старика,— едем. Вы у меня заговорите.
После целого дня пути, уже на закате, караван вышел из песчаных дюн и углубился в узкую щель, прорезавшую голые, безжизненные горы. Становилось темно. Звон кандалов эхом отдавался в скалах. Верблюд шагал быстро. Осужденные едва поспевали за ним,— спотыкались на каменистой тропе, падали. Посланец эмира спешил. Он был у цели.
Над острыми зубцами гор поднялась луна. Стало видно, что каменные стены раздались вширь. Ущелье переходило в долину. Тропинка серела среди обломков скал.
Верблюд вдруг засопел и начал пятиться назад.
В камнях кто-то шевелился. Кряхтя, поднялась темная фигура.
— Эй, водоносы что ли? Кто едет, эй?
Человек с винтовкой в руке подошел вплотную к верблюду. Ухватившись рукой за седло, он внимательно, снизу вверх разглядывал приезжего.
— Э,— сказал с удивлением стражник,— кто это? Вдруг он повернулся вглубь долины и диким голосом завопил:
— Палван, Палван-ака! Идите скорее, хозяин приехал.
Мардан с облегчением вздохнул.
— Наконец-то добрался...
V
— Нам нужно держать совет.
— Хорошо, господин.
— Загоните навечно осужденных в пещеры.
— Повинуемся, господин.
— Пусть с ними идет Юсуп, надсмотрщики и нукеры.
31
— Повинуемся.
— Мы же с вами, Палван-ака, с Ашуром и Нурали обсудим священное повеление опоры ислама, вверенное мне — ничтожному рабу эмира. Я вез приказ через горячую бурю и пески. Тень смерти спускалась на меня, но мои дрожащие руки не выпускали фетвы с печатью самого Алимхана.
— Повинуемся... да светит солнце великим.
Али-Мардан в обществе трех степенных бородачей сидел на красной кошме на крыше небольшой мазанки, в которой жили надсмотрщики, и потягивал из голубой китайской пиалы остуженный чай.
Собеседники посланца эмира совсем не были похожи на палачей. Толстые физиономии их лоснились, хитрые глазки, тонувшие в жире щек, озорно и даже весело бегали. Только всевозможное боевое оружие — винчестеры, маузеры, пулеметные ленты,— которым они были обвешаны, показывало, что здесь сидят беспощадные надзиратели каторги, властные над жизнью и смертью людей, осмелившихся поступком, словом, а иногда только мыслью совершить противное диким законам эмирата.
Али-Мардан в раздумье обвел взглядом лежавшую внизу перед домом долину.
Местность была мало привлекательна. Рыжеватые, лысые, кое-где покрытые темными осыпями щебенки холмы в отдалении переходили в пустынные, безжизненные горы. Их вершины тонули в белесой мгле, сливавшейся с ослепительной синевой небес.
Впереди, перед хижиной, высился крутой скалистый обрыв. Даже на большом расстоянии он поражал глаз весьма необычным своим видом. На общем мрачном фоне тянулась несколько наискось яркожелтая полоса, а под нею, вплоть до основания скалы,— грязная голубая лента. Местами стена рассекалась почти вертикальными полосами более светлого голубого цвета.
Неудивительно, что эта скала сразу привлекала к себе внимание редких путешественников, попадавших в долину.
Быть может, сотни лет назад сюда пришел в поисках меди или золота человек. Он заприметил странную скалу и проник вглубь ее через естественную пещеру. Здесь были найдены богатства, создавшие Пещере Сияния славу на тысячелетия.
32
Ни безводье, ни тяжелый путь, ни неслыханные лишения не могли заставить людей отказаться от разработок. Сокровища шли властителям Согдианы и Хорезма, а впоследствии Бухары.
Когда по степным просторам Средней Азии проносились орды завоевателей, связь рудника с внешним миром, с оазисами, прерывалась; шахтеры погибали или разбредались, работа замирала. Но, как только наступало успокоение, неутомимые искатели появлялись в долине Пещеры Сияния, находили по старым следам, по указаниям тайных рукописей, по рассказам стариков древние копи и принимались за работу.
В далекие времена на руднике работали вольные шахтеры, образовывавшие свободные артели и цеха и продававшие добытые ценности на шумных базарах Ургенча, Гиждувана, Отрара, Самарканда. В Бухарском же эмирате рудник был превращен в каторгу. В течение последнего столетия сюда, в долину, пригоняли работать осужденных на вечное тюремное заключение.
Оторвав взгляд от долины, Али-Мардан медленно проговорил:
— Что же? Прибавилось сколько-нибудь в казну великого? Много ли накопали эти... прозябающие по милости господина?
Один из бородачей почтительно наклонился к самому уху Али-Мардана и что-то зашептал. Лицо посланца эмира расплылось в довольной улыбке; он не ожидал таких результатов.
— Мы нашли в пятом боковом ходе новое гнездо, — вслух продолжал надсмотрщик,— и земля отдала нам великие богатства.
— Как рабы?
— Спокойны... Только в конце прошлой луны Салим-писец и горбатый Худайберген из Хатырчей вздумали пробраться к Сладкому колодцу... хотели, ишаки совсем уйти.
— Ну?
Вместо ответа бородатый провел указательным пальцем по горлу и выразительно захрипел. Али-Мардан брезгливо поморщился:
— Хорошо... Дело, не стоящее беспокойства.
Солнце медленно катилось к западу. Не чувствовалось ни малейших признаков ветерка. Жара станови-
33
лась невыносимой. Али-Мардан и его собеседники перебрались под навес небольшой террасы. Здесь было прохладнее.
Диванбеги ничего еще не говорил надсмотрщикам — ни о падении под ударами народа «Средоточия Веры» — Бухары, ни о трусливом бегстве владыки государства. К чему смущать шаткие умы! Да разве и нужны лишние разговоры. Надо спешить закончить дело... Али-Мардан встрепенулся и, смерив расстояние от солнца до вершин гор, скороговоркой произнес:
— Собаки Салим и Худайберген получили то, что заслужили,— и продолжал, словно размышляя вслух,— а нельзя ли, нельзя ли всех...
Бородачи опешили.
— Всех?— спросил Палван.
— Всех.
— Как так всех? Восемь десятков душ?1
— Да, всех... всех.
— Кто же будет работать?
— Найдутся... Найдем... Сейчас они не нужны. Видно было, что начальники рудника ничего не поняли, хотя все согласно закивали головами.
— Эмир приказал,— заговорил Али-Мардан,— эмир решил, а что значат наши мысли и решения перед волей повелителя? Пыль с подошвы его сапога. Эмир решил кончить Пещеру Сияния. Кончить совсем. Предупреждаю — молчание. Иначе мы сами станем жертвами рабов.
Бородачи переглянулись; им стало жутко. Никто ничего точно не знал, но и сюда, в центр великой пустыни, неведомыми путями просочились непонятные, странные слухи...
— Что с благородной Бухарой?— осторожно проговорил один из собеседников.
Поколебавшись с минуту, Али-Мардан заговорил:
— Презренные кафиры подняли оружие на государство правоверных. Большевики стали хозяевами города. Эмир, да продлятся его дни, под напором красных солдат проследовал в долины Гиссара и Кабадиана... собирать под свою высокую руку воинов ислама. Во дворце мне, ничтожному, их милость приказали: «Скорее отправляйся в Пещеру Сияния, убей рабов, возьми с собой, что добыто, и привези в Дюшамбе или в то место, где мы будем
34
пребывать. Никто из большевиков не должен узнать о существовании пещеры. Надо стереть следы. Ни «туварищи», ни большевики не получат в свои руки источника богатств. Пусть мир забудет дорогу к руднику, пока не восторжествует правая вера...» Сегодня надо кончать. Раб нужен или за работой, или в смертном сне.
Али-Мардан замолчал, разглядывая почти стертый узор кошмы.
Палван вскочил.
— Ну, надо резать.
— Где же оставил ты свой ум? Забыл, что тихо идущий всегда дойдет. А кто же будет закрывать ход в рудник? Помни — эмир приказал уничтожить даже следы разработок...
Младший из надсмотрщиков, Нурали предложил покинуть осужденных в пустыне. Надо забрать все бурдюки с водой, оружие, ценности и ночью, когда утомленные каторжным трудом рабы будут спать, незаметно уйти.
Али-Мардан заколебался. План был не плох.
«Но вдруг кто-нибудь, хоть это и невероятно, проберется через пустыню в Бухару к большевикам и разболтает о руднике? Или уйдет на север к колодцам Тамды, к казахам?»
— Нет, так нельзя,— вслух размышлял посланец эмира.— Так нельзя.— И, как бы отвечая на свои мысли, решительно заявил:— Нет, плохо задумали. Никто, ни одна живая душа не будет выпущена отсюда. Руками рабов уничтожим рабов.
— Хорошо, господин, воля эмира — закон.
Никто никогда не уходил из Пещеры Сияния. Попасть на рудники — значило быть заживо похороненным. Человек еще был, возможно, жив, но семья каторжника сзывала родных и знакомых, плакальщицы голосили и раздирали на себе одежды, совершались тоскливые обряды, как по покойнику, устраивались молчаливые поминки. Бегом несли пустые носилки — тобут — на кладбище и в установленные сроки зажигали на мазаре свечи.
Пусть еще осужденный навечно жил год-два, а может быть и десятилетие с колодкой на шее и с цепями на ногах, но для ближних и друзей он был мертвецом.
В Бухаре эмир и его приближенные умели забывать о человеке, забывать навсегда.
36
Пустыня ревниво хранила в своих недрах и Пещеру Сияния, и неисчислимые ценности, и живых мертвецов.
Если зимой или весной, когда на такырах и в степных ямах скапливается вода, в долину Пещеры Сияния случайно попадал охотник за лисицами и джейранами, путь его неуклонно и беспощадно пресекался. Человека убивали — спокойно, неспеша. В лучшем случае его посылали в самую глубокую шахту.
«Пойдешь, не вернешься» — так называли обширную область гор и холмов в центральных Кызыл-Кумах. И действительно, кто попадал туда, тот более не возвращался.
Не было никакой возможности бежать из долины рудника Сияния. Стража зорко следила за табором осужденных. А если кто-либо и ухитрялся выбраться, далеко уйти ему не удавалось. От колодца, из которого брали воду для рудника, до Пастушьих колодцев тянулись пространства мертвых песков на добрых полторы сотни верст, а каждый десяток верст в пустыне равен половине дня пути для всадника, едущего на здоровом и сильном верблюде. Пройти столько пешком изнуренный непосильным трудом человек не может. Закон пустыни гласит: «В песках человек без верблюда — мертвец».
Али-Мардан равнодушно попивал чай.
Толпа рабов лихорадочно копошилась у подножья скалы.
Заваливали вход в пещеру, заравнивали кучи камня и песка. Несколько человек забрались на край обрыва и сталкивали вниз глыбы камня. Красноватая пыль облаком поднималась к небу.
Осужденным было объявлено, что по воле эмира рудник должен быть разрушен, а рабы отправлены в другое место.
Входное отверстие пещеры на глазах уменьшалось.
С грохотом катились сверху потоки щебня и гальки.
— Эй, эй, держи!
Пыль медленно рассеялась. Рабы молча смотрели на то место, где только что был вход в рудник. Сейчас здесь высилась огромная насыпь из щебня, гальки, обломков скал.
— Еще,— закричал Мардан,— еще камней!
36
Он спустился в долину и стал показывать сам, куда нужно подбрасывать камни и землю. Рабы работали молча и сосредоточенно.
И вдруг, когда работа уже казалась законченной, в верхней части насыпи песок зашевелился, вниз по «слону с шуршанием покатились камешки. Все замерли. Кто-то пытался изнутри откопать выход из пещеры.
Из-под камня высунулась рука. Судорожные движения скрюченных пальцев показывали, что человек задыхается. Пальцы словно пытались ухватиться за что-нибудь. Они то скребли край камня, то разбрасывали щебень.
Движения руки становились все слабее.
— Помочь надо. Там остались люди! — прозвучал резкий возглас.
— Там люди!
— Там люди, нельзя засыпать!
— Откройте вход!
Высокий и сухой, как мумия, старик, гремя цепями, с кетменем в руке, скользя и падая, начал подниматься по насыпи вверх. Ноги его съезжали вместе с песком, он вскидывал руки, из горла его вырывались дикие крики.
И сразу разразилась буря.
Вечно осужденные кричали, выли, грозили.
— Нельзя! Там люди! Остановитесь!
Али-Мардан бросился к толпе.
— Кто сказал — «нельзя»?
Проговорил он это совсем негромко. Но так была подавлена воля рабов, что этих невнятно произнесенных слов было достаточно — крики потухли так же быстро, как и вспыхнули.
— Кто сказал «люди»? Там людей нет, там рабы. Какая собака смеет нарушить волю великого!
Мардан поднял маузер и хладнокровно пристрелил старика.
— Ну, кто еще?
Вмешался бородатый надзиратель:
— Господин, — прохрипел он, — господин, там люди еще есть, наши нукеры, много людей, позволь им выйти оттуда.
— Молчи! — закричал Али-Мардан. Голос его сорвался в тонкий визг. — Ты тоже болтаешь.
37
Он с силой ударил дулом револьвера по лицу надзирателя. Тот упал на колени, затем медленно свалился в сухую колючку и лежал ничком, вздрагивая и странно всхлипывая.
— Ну?
Все молчали. Осужденные жались друг к другу.
— Бросай, — закричал Мардан, — бросай! Эй!
С обрыва снова посыпались обломки скалы, камни. В последнюю секунду видно было, что рука заживо погребенного снова зашевелилась, пальцы сжали упавший сверху осколок камня. Все заволокло пылью.
Дрожащие лучи солнца вырвались из расщелины в горе и осветили жалкую группу осужденных. Они сидели безмолвно на камнях, на земле. Приближался час вечернего намаза и скудного ужина. Бородачи притащили мешок с черствыми лепешками и бурдюки со зловонной солоноватой водой.
Мардан с явным удовлетворением поглядывал на гору щебня, песка и камней, скрывшую вход в пещеру.
Рудник перестал существовать, исчез.
— Ночью пусть разрушат жилища, — приказал Али-Мардан, — чтобы никто не нашел и следов. Заставьте работать всю ночь. Утомившихся рабов будет легче прикончить.
Снова стало тихо в долине.
Солнце скрылось за горой. В отблесках зари пылала скала Пещеры Сияния. Высились причудливые утесы. В провалах и расселинах неподвижно застыли мертвые потоки белесого щебня, переходившие у подножия горы в сплошное нагромождение валунов, скал и камней. Казалось, грандиозный подземный толчок встряхнул горные хребты, и вершины их низринулись в долину и засыпали все живое. Никому никогда не пришло бы в голову, что здесь похоронен большой рудник, откуда в сокровищницу бухарских эмиров поступали в течение многих столетий неслыханные богатства.
— Сколько осталось рабов? Не сосчитали еще? — спросил Мардан вечером, за ужином.— Как только начнет светать, ведите всех собак к Сухому роднику.
Али-Мардан хозяйским взглядом окинул долину. Дно ее тонуло в глубоких тенях. В воздухе стоял не то туман, не то пыль, не осевшая после дневных работ. Из
38
сумрака вырывались, будто залитые кровью, гигантские скалы, разделенные темными провалами расщелин. Краски бледнели. Потухали отсветы зари...
VI
На рассвете печальный караван тронулся в путь. Али-Мардан ехал верхом позади.
Переход через невысокий, но очень крутой перевал был тяжел даже для здоровых, сытых солдат охраны. Истощенные рабы быстро выбились из сил. Многие падали. Мардан заботился, чтобы они больше не вставали. Горное эхо то и дело передавало звуки выстрелов. Не останавливая коня, даже не наклоняясь, Мардан прицеливался и разряжал маузер в упавшего человека.
Лицо посланца эмира было равнодушно и непроницаемо. Лишь изредка подергивались губы.
Иногда он привставал на стременах и кричал:
— Шевелитесь, собаки, быстрее! Упавший не встанет.
Осужденные понимали, что их ведут на смерть. Но ни слова протеста не было слышно. Медленно волоча ноги, плелись каторжники по каменистой тропинке. Казалось, по крутому склону горы ползет длинная серая гусеница.
Обливаясь потом, издавая хриплые стоны, падала новая жертва. Никто не пытался помочь товарищу, не подавал ему руку. Зачем? Все равно гибель была предначертана в книге судеб — немного раньше, немного позже. Весь мир для них замкнулся в этой тропинке горя.
О сопротивлении никто не думал. Тысячелетние деспотические законы произвола были незыблемы. Всеуничтожающая воля эмира была непреложна. Мертвящий гнет ислама парализовал всякие проблески мысли.
На самой верхней точке перевала караван отверженных остановился. Кругом, куда ни падал взгляд, раскинулись красноватые скалы и голубые горные вершины, залитые ослепительным сиянием восходящего солнца. В неизмеримой выси плыли розовые прозрачные облака. С севера тянуло прохладным ветерком.
Посланник эмира с высоты коня осмотрел толпу осужденных. Люди были похожи на мешки с костями. Плетьми свисали исхудалые руки, на ногах гноились язвы и струпья, на лица свешивались космы слипшихся волос, бороды отросли у многих до пояса.
39
Мардан подозвал надзирателя и приказал отобрать из рабов несколько головорезов.
Через минуту они стояли перед вельможей — дрожащие, худые, оборванные.
— Вам нужна жизнь?
— Бек, пощади! — пав ниц, завыли рабы.— Мы будем твоими рабами, твоими верными слугами до могилы.
Али-Мардан, казалось, остался доволен осмотром.
— Хорошо, вам дадут ножи. Перережьте горло тем баранам, и я отведу вас в тенистые сады Вабкента, к хаузам с прохладной водой, к чайханам, к плову. Ну?
Рабы стояли, переминаясь с ноги на ногу.
— Ну? — грозно протянул Мардан.— Кто будет выполнять мое приказание? Идите сюда.
Вышли трое. Они получили длинные острые ножи. Такими ножами колют баранов на базарах Гиждувана, Хатырчи, Варганзи.
Мардан показал на стоявшего перед толпой осужденного. Вновь назначенные палачи бросились к нему, сшибли с ног, поставили на колени. Один вывернул обреченному руки за спину, другой ловко уцепился двумя пальцами за ноздри жертвы и, задрав человеку голову назад, медленно перерезал ему горло.
— Прекрасно! — бросил посланец эмира.
Рабы тупо следили за расправой... Никто не сказал ни слова. Никто не шевельнулся. Не попытался бежать.
— Идите, убивайте,— сказал Мардан.
Добровольные палачи ринулись с остервенением в толпу. Они спешили заработать милость, жизнь...
Вечно осужденные безропотно валились на колени и подставляли горло. Кровь оросила плоские камни.
Но вдруг произошла заминка. Из поредевшей толпы безмолвно вышли пять человек, более похожих на живых мертвецов. Они шли, медленно волоча ноги, обходя трупы, стараясь не ступать по лужам крови. В нескольких шагах от Мардана рабы бросились на землю. Один из них, почерневший и тощий, со стоном заговорил:
— Закон, великий закон! Обычай пустыни говорит, что спасший жизнь человеку становится его братом. Светлейший бек, ты должен вспомнить, что только вчера мы вызволили тебя из беды, извлекли из колодца, где ты
40
умер бы и никто не вспомнил бы о твоем существовании. Оставь же жизнь рабам, проливающим слезы отчаяния. Ты должен сохранить нам жизнь, если ты уважаешь веру отцов.
Али-Мардан сжал в руках маузер.
— Ха, падаль разговаривает. Уберите их, от них воняет.
Резня продолжалась. Осужденных навечно еще оставалось свыше сорока человек, а нукеров было всего восемь. И сейчас еще толпа могла смять солдат. Но мусульманский закон внушал: «Предопределенное не может быть изменено волей злополучного».
Только один старик, сидя на земле и раскачиваясь, кричал:
— Ты пьешь кровь людей, господин, пьешь кровь...
Мардан нетерпеливо покрикивал. Дело двигалось медленно. Палачи утомились.
«Ведь предстоит еще возня с солдатами, с надсмотрщиками. Их тоже надо убрать. — Мардан погладил рукоятку своего маузера. — Поручение выполнено. Два мешочка с драгоценными камнями в хурджуне. Дни становятся короче, а солнце уже высоко. До Сладкого колодца почти день пути».
В этот момент недалеко хлопнул выстрел. Мардан резко повернулся.
Человек бежал по гребню горы и отчаянно взмахивал винтовкой. Он что-то кричал. Невозможно было разобрать что именно. Ветер относил голос в сторону.
Все обернулись. Палачи замерли. Нукеры растерянно сжимали в руках свои ружья...
Откуда взялся здесь человек? Как он пробрался в мертвые горы через пустыню? Как мог он идти против солдат эмира, вооруженных с головы до ног?
Минута растерянности дорого стоила Мардану.
Человек приближался быстро, широкими прыжками. Еще немного, и он оказался в нескольких шагах от места кровавой казни.
Незнакомец остановился на выступе скалы над толпой и прокричал:
— Мусульмане! Братья! Разве вы бараны, которых пригнали на бойню? Опомнитесь, схватите в руки свои цепи и бейте ими по головам палачей. И пусть у них будет тысяча жизней, им не уйти от вас. Бейте эмирских со-
41
 бак! Народ
восстал против тирана. Настал день справедливости.
бак! Народ
восстал против тирана. Настал день справедливости.
Суеверный страх овладел посланцем эмира. Перед ним стоял пастух Санджар. Мертвец встал из могилы. Али-Мардан пытался что-то крикнуть солдатам, но изо рта его вырвались несвязные звуки, потонувшие в нарастающем ропоте толпы.
Санджар поднял винтовку и выстрелил в Али-Мардана, но промахнулся.
Выстрел послужил сигналом. С грозным воем осужденные двинулись на палачей.
Когда надзиратели опомнились, было поздно. Несколько шагов отделяли от них толпу осужденных. И хотя рабы были безоружны, а солдаты эмира имели в руках магазинные винтовки, исход столкновения был предрешен. Беспорядочная стрельба в упор не остановила толпу. В ярости рабы шли прямо на пули, и солдаты не успели даже выпустить все обоймы.
У подножья скалы несколько мгновений длилась отчаянная борьба. Толпа рабов поредела. Они побрели, шатаясь и вытирая о лохмотья руки. На камнях лежали истерзанные трупы бородачей-надсмотрщиков, вчерашних «властелинов жизни и дыхания» рабов.
Откуда-то снизу прозвенел тонкий крик:
— Братья... скорее, помогите!
Те, кто был посильнее, захватив оружие перебитой стражи, подбежали к краю обрыва. Они увидели пастуха Санджара, который, прыгая по плоским уступам склона горы, пытался догнать всадника, скакавшего во весь опор по высохшему руслу горного потока.
Пастух сделал еще один головоломный прыжок, остановился и прицелился. Осужденные замерли, ожидая выстрела.
Но выстрела не последовало. Второпях Санджар забыл зарядить винтовку. Пока он возился с затвором и патронами, всадник успел ускакать далеко.
Пастух выстрелил два раза. Звонкое эхо ответило в далеких горах.
Санджар взмахнул винтовкой и спрыгнул вниз.
Еще несколько минут рабы видели, как пастух бежал по дну ущелья.
Маленькие фигурки всадника и его настойчивого преследователя расплылись, потонули в красноватом тума-
42
не, струйками поднимавшемся над раскаленными каменистыми увалами.
Знатоки пустынных троп и колодцев, неутомимые проводники караванов говорят, будто в великой Урта-Чульской степи, лежащей за медно-красными барханами Кызыл-Кумов, можно набрести на такие места, куда скотоводы и караванщики заглядывают лишь раз в пятнадцать-двадцать лет.
Если во время скитания по великой пустыне кто-нибудь встретит престарелого, умудренного опытом чабана Якши-Мурада Низаметдина Оглы, он непременно услышит странную историю. Где-то у подножия бесплодных гор Джиттым-Тау, а может быть близ урочища Биссек-ты, недалеко от окаменевшего леса он, Якши-Мурад, видел на такыре у старинного завалившегося колодца десятки людских скелетов.
Что это были за люди, куда шли эти путники, зачем — старожилы пустыни точно не знают.
Поздно вечером у костра пастухи расскажут невероятную, повесть о далеких рудниках, принадлежавших эмиру бухарскому, о шахтерах-рабах, которых заставляли рыть глубокие норы в скалах, чтобы добывать драгоценности для эмирской казны.
Те же пастухи добавят, что в дни, когда стены Бухары пали перед красными воинами и народ бухарский выкинул, как шелудивого пса, своего гнусного повелителя, рабы, работавшие на рудниках, также заявили о своем праве на жизнь, истребили стражу и пошли через пустыню к зеленой долине Зеравшана.
Но велика пустыня и нет в ней воды. Грозны и беспощадны пески Кызыл-Кумов...
Медленно разматывается нить повествования.
И слушателю начинает казаться, что чабаны рассказывают не быль, а старую-престарую легенду.
Темнота сжимает кольцо багрового света. Из невидимого стада доносится жалобное блеяние козленка. Свирепый пес поднимает тяжелую голову с обрубленными ушами и настороженно рычит. Но все спокойно, и верный страж снова кладет голову на лапы.
Много голодных, горьких дней и ночей пробирался через море барханов на юг Али-Мардан. В кочевьях и
43
пастушьих становищах его присутствие переносили терпеливо, безропотно. Прямо не говорили, чтобы он уходил, но всем своим видом показывали, что им и самим нечего есть, а не только гостей принимать. В тенистых садах Зеравшанского оазиса Али-Мардан вынужден был пробираться по тропинкам за старыми дувалами, чтобы поменьше попадаться на глаза дехканам. От истощения и усталости пал конь. И Али-Мардан, который совсем еще недавно, отправляясь в соборную мечеть, расположенную в ста шагах от его дома, требовал коня, сейчас брел пешком по пыльным, ухабистым дорогам, проклиная революционеров, небо, солнце, час своего рождения. Дальше и дальше шел он на юг. Он хотел пробраться в Карши или Гузар, а оттуда с помощью верных людей в Гиссарскую долину, где еще, судя по базарным слухам, держался эмир Бухары Алимхан. Но в тяжелые минуты Али-Мардан проклинал и самого эмира.
VII
Над далекими низкими горами медленно струился туман. Первые лучи солнца разлились по степи.
Али-Мардан сидел на краю глубокого оврага в тяжелом раздумье. Что делать, куда идти?
Два дня он шел по Карнапчульской степи, к городу медресе и мактабов — Кассану. Но Кассан был далеко, и Али-Мардан начал думать, что ему пешком не добраться. Заходить же в кишлаки он не решался...
Внезапно на дне оврага послышался топот копыт. Али-Мардан схватился за оружие.
Внизу показалась фигура всадника. Посланец эмира пристально вглядывался. Вдруг на лице его появилась улыбка. Тыльной стороной руки он вытер пот, выступивший на лбу, и громко окликнул:
— Эй, Маруф!
Всадник судорожно вскинул голову кверху. Это был невысокий пожилой человек с реденькой бородкой, с плоским мясистым носом и щелочками-глазками. Одет он был в поношенный халат со значком бухарского чиновника дарго — сборщика налогов. Такой дарго весной и летом объезжал кишлаки и следил за состоянием посевов, за сбором урожая, за молотьбой. Как только
44
заканчивалась уборка хлебов, он немедленно извещал об этом амлякдара — главного сборщика налогов.
— Эй, дарго!— снова закричал Али-Мардан.— Эй, дарго Маруф, поднимись сюда.
На лице всадника отразился испуг. Он неуклюже слез с лошади и, припадая на одну ногу, потащился вверх по склону оврага.
Выбравшись наверх, дарго согнулся и, подбежав к Али-Мардану, приложил подол его халата к своим губам.
— Да будет мир вам, великий бек.
— Маруф, что ты здесь делаешь?
— Достопочтимый, я делаю то, что полагается совершать мне, ничтожному дарго: собираю налоги по закону эмирата...
Али-Мардан поморщился.
— О чем ты говоришь? Разве ты не слышал новости? Или ты потерял последние остатки своего разума, возясь с этими роющимися в грязи крестьянами! Где твоя голова?
Маруф еще ниже склонился перед Али-Марданом, потом быстро выпрямился; губы его искривились хитрой усмешкой. Он туманно сказал:
— Может быть, для великих эмират кончился, но, как вы изволили, ваша милость, правильно сказать, крестьяне глупы. Они все еще думают, что законы священного государства так же несокрушимы, как и большой минарет Бухары.
Али-Мардан усмехнулся.
— Сейчас сбор урожая в разгаре, и ты, конечно, едешь в кишлак, чтобы взять с землепашцев долю, причитающуюся великим?
Дарго в знак согласия приложил руку к животу и снова склонился в поклоне.
— Хорошо. Я буду присутствовать при сборе налога,— сказал Али-Мардан,— и я приказываю тебе взять всю долю, причитающуюся и эмиру, и казию, и аллаху.
— Хоп, господин,— проговорил дарго и, вежливо поддерживая под руку Али-Мардана, стал спускаться в овраг, где, понурившись, стояла его лошадь.
...В степном кишлаке Сипки, состоявшем из жалких серых мазанок, появление величественного Али-Мардана,
45
восседавшего на лошади дарго и сопровождаемого прихрамывавшим Маруфом, было встречено со всеми признаками страха и беспредельного уважения.
Кишлачный глашатай с громкими криками «Налоги, налоги» обежал все дома и приказал дехканам явиться немедленно на общественный ток, где заканчивался обмолот пшеницы.
Пока собирали народ, Али-Мардан и Дарго сидели в тени единственного в кишлаке развесистого карагача и солидно, не торопясь, закусывали. Али-Мардан благодушествовал. Случай снова превратил его из бездомного изгнанника и беглеца во всеми уважаемого представителя власти.
— Я вижу, что я был неправ...
И только, когда Маруф недоуменно посмотрел на него, Али-Мардан понял, что разговаривает сам с собой. Он поспешил сказать вслух: — В душе простого народа живет и вечно будет жить великое уважение к эмиру, к беку, к имаму, и никакие большевики не вынудят дехкан забыть свои обязанности. А обязанности эти состоят в том, чтобы...— наклонясь к самому уху дарго, он продолжал шопотом: — чтобы платить, платить и платить,— Али-Мардан откинулся назад и громко захохотал.
Маруф вполголоса ответил:
— Эти-то заплатят, но только боюсь я, господин мой, что дехкане лишнего платить не будут. С этого кишлака, по приказу бека, налог взыскан уже за два года вперед. Да будет мне дозволено дать совет: мы великодушно,— он хихикнул,— возьмем с дехкан кишлака Сипки пятую часть того, что с них полагается за тысяча девятьсот двадцать четвертый год.
— Ты только дарго, ты жалкий раб, ты должен слушать, что тебе скажут, а не высказывать свои ослиные мысли. Слушай и делай то, что я тебе прикажу,— Али-Мардан поднялся и величественным шагом подошел к первой куче зерна.
— Что это? Хлеб?— сказал он.
И хотя было совершенно очевидно, что это пшеница, хозяин зерна, высокий, худой дехканин в рваном халате, стоявший тут же, сложив руки на животе, отвесил глубокий поклон и сказал:
46
— Это зерно, в количестве восьми пудов. Оно при надлежит мне, Али-Данияру, жителю кишлака Сипки, рабу эмира и бая.
Властным движением руки Али-Мардан заставил дехканина замолчать. Затем, протянув палец в сторону дарго, сказал:
— По приказу эмира, во имя аллаха и Мухаммеда, пророка его, объявляю, что здесь будет взыскан налог с эмирского раба Али-Данияра. Так, человек, пиши: от имеющегося на току пшеничного зерна, в количестве восьми пудов, взимается налог сагубордор в размере двух пудов.
Али-Данияр упал на колени и закричал:
— Справедливости, я требую справедливости. С восьми пудов пшеницы полагается взять только полпуда... Чем я буду кормить зимой своих детей?
Но Али-Мардан даже не посмотрел на него.
— Дарго! Делай, что тебе приказано.
Маруф тут же на весах отвесил два пуда зерна и велел ссыпать его в мешок. Затем он снова подошел к куче пшеницы и, приговаривая «А это добровольный подарок мне», сгреб в подол халата с полпуда зерна. Из толпы зрителей вышел небольшой юркий человек. Он приблизился к куче и деревянным совком начал отсыпать зерно в мешок. Тогда Али-Данияр не вытерпел и, размахивая руками, завопил:
— Что вы делаете?
Маленький человек, не прекращая своего дела, презрительно протянул:
— Эх ты, тупица, что ты, не знаешь меня? Ты забыл, что имаму мечети по закону полагается десятая часть?
Крестьянин стоял, опустив руки, и медленно раскачивался из стороны в сторону. Куча зерна уменьшалась на глазах.
Все шло по старинному обычаю. Подошел местный ванвой — лепешечник. Он вручил Маруфу две лепешки, а взамен взял двадцать фунтов пшеницы. Появился еще какой-то человек в чалме с чилимом в руках. Он дал покурить Али-Мардану, Маруфу и кишлачным старейшинам, и взял себе четверть пуда пшеницы. Какая-то бойкая тетушка, прикрывая лицо полой накинутого на голову халата, преподнесла Али-Мардану тюбетейку и также получила разрешение взять несколько фунтов зерна.
47
Оставшаяся пшеница была разделена «по закону» па пять частей. Одну из них отсыпали для казны, а остальное, что составляло примерно около трех пудов, отдали собственнику урожая — дехканину Али-Данияру.
Весь день Али-Мардан и дарго Маруф взимали налог с крестьян кишлака Сипки «по справедливости», весь день над кишлаком стоял вой и плач женщин.
Когда солнце исчезло за далекими холмами и спустились сумерки, на ток прибежал юноша в шитой золотом тюбетейке и вежливо сообщил:
— Уважаемый помещик кишлака Сипки, почтенный Зукрулла просит их милость бека покушать.
За ужином сдержанно беседовали о последних событиях. Помещик, сухонький, одноглазый человечек с изрытым оспой лицом, нерешительно расспрашивал об эмире, о сражениях в Бухаре, о большевиках. Али-Мардан осторожно и очень туманно упомянул о своих приключениях. Вскользь он заметил, что ему нужна лошадь и два-три провожатых, чтобы, как он сказал, «их величество эмир не был принужден ждать слишком долго нашего возвращения».
Опустившись на корточки, помещик принялся разливать чай. Али-Мардан удобно устроился на паласе и, облокотясь на подушку, лениво следил за движениями хозяина. Посланец эмира предвкушал приятный сон на мягких одеялах — отдых утомленному телу.
— Мой бек,— прервал длинную паузу помещик,— что вам угодно сделать с взысканной по налогу пшеницей?
Любопытство хозяина не понравилось Али-Мардану, и он сухо ответил:
— Мы не думали еще. Маруф займется... Ну, продаст на базаре.
— Простите, бек, но на чем вы ее повезете? Тут наберется пудов триста — триста пятьдесят.
— Дехкане дадут верблюдов...
Помещик совсем невежливо перебил:
— Верблюдов! У местных дехкан не насчитаете и двух голов скота.
— А у вас? Я видел у вас на дворе десятка три.
— Мои верблюды заняты,— уклончиво проговорил хозяин. И вдруг он оживился.— Продайте мне казенную пшеницу. Деньги удобно сложить в хурджун.
48
Поздно ночью кончился торг. Али-Мардан возмущался непочтительностью помещика, но все же вынужден был уступить зерно за полцены. Дарго Маруф крутился тут же, стонал, охал, протестовал.
В конце концов он даже надерзил:
— Велик бог! И это мусульмане заключают сделку на куплю-продажу?! Я отказываюсь... Бек, вы поступаете, как растерявшаяся утка, ныряющая и головой и задом.
Али-Мардан прикрикнул на Маруфа, но и сам он видел, что помещик все больше наглеет. О почтительных эпитетах, о титулах хозяин дома совсем забыл. Речь шла о барышах, и он больше не церемонился. Помещик, к тому же, отлично понимал, что за спиной Али-Мардана сейчас нет всесильного эмира.
Когда сделка была совершена, хозяин лениво заговорил:
— Я мог бы и не покупать пшеницы. Я хотел помочь вам, господин, в вашем затруднительном положении. Не забывайте, что пшеница останется лежать у меня, а в наши неспокойные времена и рабы поднимают голову.
Упоминание о «рабах, поднимающих головы», неприятно резнуло. Али-Мардан вспомнил о бунте осужденных навечно, и холодные мурашки поползли по спине.
Хозяин, кряхтя, поднялся с паласа.
— Сейчас вернулся из Карнапа верблюжатник Аззам...
— Ну и что?
— Он видел в Змеином ущелье трех или четырех русских в островерхих шапках с красными звездами. У каждого есть винтовка... С ними какой-то молодой узбек, тоже с винтовкой.
От волнения Али-Мардан даже привстал.
— Они сказали Аззаму,— продолжал помещик, что ищут высокого человека, чернобородого, в темном халате...— Он посмотрел на Али-Мардана и добавил совсем равнодушно:— Уж не вас ли, мой бек, они ищут? Кажется, они едут сюда.
— Скорее, Маруф!— закричал Али-Мардан.— Нужно готовиться к отъезду.
Помещик вдруг стал необычайно вежлив и любезен.
— Вы повезете деньги сидящему на высоком престоле, пусть имя его произносится с трепетом. В час ут-
49
ренней молитвы, на рассвете я передам вам деньги. Возьмете лошадь и проводника.
Ночью Али-Мардан проснулся от лая собак. Кто-то в темноте говорил за дверью:
— Большевики в кишлаке. Ищут. Скорее будите бека. За мечетью лошади и Юнус...
Али-Мардан вскочил, начал шарить руками в темноте, разыскивая халат, оружие. Он хрипло закричал:
— Деньги... Приготовьте деньги!
— Скорее, бек, скорее. Сейчас красные воины будут здесь.
— Деньги, говорю вам!
— Вы слышите собака лает уже около дома старшины.
— Деньги приготовьте... Вы...
Помещик вошел в комнату, закрывая полой халата фонарь.
— Дехкане идут сюда, ведут солдат, показывают дорогу к моему дому.
— Зачем?— испуганно спросил Али-Мардан.
— Они кричат, вы слышите их крики: «Схватим эмирских чиновников!»
Он замолк. Далеко в ночи слышался ропот голосов, доносились отдельные выкрики. Толпа приближалась. Вспыхнул над плоскими крышами отблеск красного пламени, по-видимому, зажгли факел.
По кочковатой дороге, спотыкаясь и бормоча проклятья, бежал Али-Мардан, придерживая рукой кобуру маузера. Он добежал до мечети. Прислушался. Крики слышались где-то в стороне. Дарго Маруф исчез. Али-Мардан обошел здание кругом. Ветер шумел в листве карагача. Лошадей не было.
— Юнус!— вполголоса окликнул Мардан.
Никто не отвечал.
— Эй, Юнус! Эй, Маруф!
Где-то недалеко послышалось бряцание затвора винтовки и топот копыт.
— Юнус, сюда! — обрадованно закричал Али-Мардан.
Из темноты густой бас ответил по-русски:
— Кто идет? Стой!..
Али-Мардан прижался спиной к дувалу, замер, будто хотел втиснуться в глину ограды.
50
— Да тут кладбище,— проговорил другой голос.— Это кому-то не спится в могиле. Эй, Санджар! Поедем к здешнему помещику. Слышишь, как кричат, наверное, там уже все. Там и твоего эмирского выродка найдем.
Стук копыт удалялся. Кто-то по-узбекски сказал: — Вы слышали, он сегодня возомнил себя хозяином кишлака и отобрал в налог всю пшеницу. Если я его поймаю, заставлю пить собственную кровь...
Али-Мардан лег на землю и пополз по обочине улочки, вдоль дувалов. Добравшись до обрыва, он начал спускаться вниз, в овраг. Шум в кишлаке стихал... Потом раздался гул человеческих голосов. Али-Мардан, не разбирая дороги, кинулся в темноту.
VIII
Дряхлый верблюд, с трудом передвигая ноги, шагал по твердой утоптанной дорожке. Временами из его глотки вырывались грустные булькающие звуки. Пронзительно скрипел блок.
Пройдя до конца тропинки, верблюд издавал крик и тряской рысцой возвращался обратно к неуклюжему глиняному сооружению, стоявшему посреди плоской лощины. Здесь он с минуту нерешительно топтался на месте, затем вновь пускался в путь.
Верблюд был виден издалека, и странная его прогулка взад и вперед вызвала недоумение кавалеристов, спускавшихся по длинному, очень пологому склону холма, поросшему чахлыми кустиками побуревшей травы.
— Что с ним?— спросил один из всадников. Молодой узбек, ехавший впереди, обернулся.
— Колодец Отшельника, — проговорил он.— У отшельника, хранителя колодца, умный верблюд. Сам воду достает из колодца для овец. Овцы придут к закату солнца, а бассейн будет полон. Отшельник спит, наверно. Жарко...
И тут все почувствовали, как на самом деле жарко, как хочется пить и как бесконечно долго тянется спуск с холма.
Подъехали ближе. Глиняное сооружение оказалось степным колодцем, с лотком и небольшим бассейном для водопоя. Через скрипучий блок была переброшена веревка, привязанная к седлу верблюда. Шагая по до-
51
рожке, верблюд вытаскивал кожаное ведро. Достигнув верхнего обложенного камнем края колодца, ведро цеплялось за деревянный стержень и опрокидывалось само собой. Вода выливалась в лоток. Верблюд возвращался, ведро спускалось вниз, и дальше повторялось то же.
Видно уже много лет верблюд выполнял свою монотонную работу, ибо хранитель колодца даже не находил нужным понукать его.
Красноармейцы с любопытством разглядывали верблюда, который, не обращая ни малейшего внимания на подъехавших людей, продолжал свое дело.
Кругом — ни единого признака жизни. В стене небольшой, слепленной кое-как из глины, хижины зияла темным провалом открытая настежь ветхая дверь. Налетевший внезапно ветер закрутил в горячем воздухе пыль и сухие соломинки.
Один из кавалеристов, видимо, командир, слез с коня и прошел к хижине:
— А ну-ка, посмотрим, кто есть тут в хате?
Но он не успел дойти. В дверях показался человек. Возраст его определить было трудно. Ему можно было дать и пятьдесят, и больше лет. Опустив глаза и перебирая грубые четки, человек проковылял на изуродованных ногах мимо командира, остановился у бассейна и гортанно крикнул. Верблюд взревел и быстрее обычного вернулся к колодцу. Надоедливый скрип блока прекратился. Человек отвязал веревку, и животное не спеша двинулось в сторону к зарослям верблюжьей колючки.
Только тогда хранитель колодца удостоил своим вниманием приезжих и, не взглянув ни на кого, мрачно буркнул:
— Хлеб привезли?
Командир смущенно начал рыться в сумке.
— Вчера здесь был господин,— продолжал старик,— он сказал: «пришлю муки». Вы люди господина?
Красноармейцы переглянулись. Молодой узбек подошел, отвесил поклон и сказал:
— Твоего господина зовут Али-Мардан?
— Да.
— Он был здесь? Когда?
Хранитель колодца только теперь поднял веки, во взгляде его мелькнула растерянность, но он ничем не проявил своего удивления.
52
— Он был здесь, когда было угодно богу, и покинул колодец в момент, предугаданный предопределением.
Один из красноармейцев сделал нетерпеливое движение. Командир предостерегающе протянул:
— Осипчук! — Затем, обращаясь к проводнику, он сказал: — Товарищ Санджар, отдых! Делаем дневку. Кони притомились, еле дышат.— И вполголоса добавил:— Ты, Осипчук, уж больно горяч. А знаешь, здесь, в Бухаре, правильно говорят: «У горячего повара похлебка или пересолена или совсем без соли». Так-то...
Хранитель колодца молчал.
Молчал он и тогда, когда проводник рассказал ему о переменах, происшедших в стране: о том, что нет больше ханов и эмиров, что дехкане, пастухи и рабочие сожгли дворец угнетения в Бухаре...
Старик посмотрел на необычных своих гостей, сидевших на рваной, пыльной кошме, и только спросил:
— Бухара — святая гробница.
— Нет, Бухара большой город,— ответил Санджар.
— Что такое город?
— Ну, это большой, большой кишлак.
Отшельник помолчал.
— Слышал, в десяти днях пути отсюда есть кишлак. Оттуда приходят пастухи. Кишлака я давно не видел, забыл.
Поздно вечером, когда синий купол неба покрылся мигающими искрами звезд, хранитель колодца, собрав все свои мысли и, припоминая забытые слова родного языка, рассказал о себе. Только в пустыне, в стране злых песков можно услышать такой рассказ:
— Я Кудукчи — хранитель колодца. Проходящие пастухи зовут меня отшельником. Мне говорят: «Когда ты умрешь, тебе господин построит гробницу, и ты станешь хазретом — святым».
Он молитвенно приподнял руки и замолчал.
Санджар почтительно кашлянул. Он был пастухом, а пастухи с величайшим уважением относятся к хранителям колодцев.
Отшельник вздрогнул.
— Я очень горевал, когда у меня издох последний верблюд, который был перед этим, а этого зовут Цветок. Очень был умный и веселый верблюд, он даже умел раз-
53
говаривать. Только не все пастухи могли понять его разговор. А я понимал.
Он снова помолчал и недоверчиво поглядел на собеседников, боясь увидеть на их лицах улыбки.
— Неясно помню, я жил в другом месте, много было там людей, шумно было... не помню. Пришел человек очень богатый, очень сердитый, в красивой одежде — зеленой, желтой, как весенние цветы. Он сказал: «Будешь хранителем колодца, будешь жить у колодца и никуда оттуда не пойдешь». Я кричал, не соглашался, хотел уйти. Меня били, очень сильно били... Потом привезли на верблюде в это место. А чтобы я не ушел, мне надрезали пятки. И верблюду испортили ноги...
— И ты никуда не уходил?— спросил командир.
— Уходил. Мне снова портили ноги и один, и два, и три раза. Но я все-таки ушел. Изловили, жгли меня огнем. В другой день я ушел, меня снова нашли. Связали, держали без воды шесть дней.— Лицо старика исказилось.— Я проклял тогда имя аллаха, я поднял руку на господина.
— На Али-Мардана?
— Нет, нет, Али-Мардана не было, тогда был его отец.
— Сын волка все равно становится волком... Сколько же лет ты здесь?
— Не знаю.
— Сколько тебе лет?
— Не знаю.
— Как же так?
— Каждый год снег сменяется травой. Потом дуют горячие ветры, затем снова идет снег... Один год подобен другому.
Старик замолчал. За весь вечер он больше не произнес ни слова.
Утром его спросили, хочет ли он переехать жить в кишлак, обещали ему прислать смену. Отшельник долго думал. И только когда был выпит чай, заседланы отдохнувшие и повеселевшие кони, хранитель колодца сказал:
— Нет.
— Почему?
— Я умру здесь, и на могиле моей построят гробницу, и я стану святым, покровителем пастухов.
54
Он привязал веревку к седлу верблюда, и снова визгливо заскрипел блок, как скрипел он многие годы.
— Ну что же,— сказал командир,— вольному воля! Пошли обратно на Сипки... Дело, товарищ Санджар, сорвалось, не найти нам вашего дружка... Видно, сбежал он.
Молодой парень с обидой в голосе произнес:
— Ушел Али-Мардан от народного гнева.
Он еще раз, для очистки совести, попытался расспросить отшельника, но тот медлительно перебирал четки и равнодушно молчал.
— По коням! — скомандовал командир, и маленькая группа всадников двинулась прямо, без дороги, в степь. Скрип колодезного блока становился все тише и тише, временами ветер совсем относил звук в сторону. Внезапно командир оглянулся, ему послышался крик.
— Стой!— скомандовал он.
От колодца поспешно ковылял, прихрамывая, отшельник. Добежав до всадников, он ухватился за узду коня командира и, тяжело дыша, сказал:
— Ты воин эмира?
— Нет.
— Почему вы не пытали меня огнем, не били меня камчой, не резали мне тело?
— Потому что мы солдаты народа, а не эмира.
— Господин был вчера на колодце. Я оказал ему гостеприимство.
Хранитель колодца колебался. В его глазах виден был страх.
— Закон гостеприимства не соблюдается, когда гость проклят народом. Ты должен отомстить,— закричал Санджар.— Отомсти за свою жизнь, за искалеченное тело, за ожоги, за удары...
— Я боюсь, он вернется, узнает. Меня опять будут жечь. Нет, я не скажу... Я боюсь.
Отшельник повернулся и, втянув голову в плечи, заковылял прочь.
Чувствовалось, что он и сейчас ждет угроз, побоев. Вот он трусливо обернулся. И когда не увидел ни поднятой руки, ни занесенного клинка, жалобно закричал:
— Бейте, бейте, тогда я все скажу...
55
Командир тронул коня, подъехал к отшельнику и хрипло проговорил:
— Красные воины не бьют.
Хранитель колодца сжался в комок. Только глаза его горели. Он помолчал еще с минуту выжидая, и вдруг крикнул:
— Я думаю, вы слабые люди, жалкие люди. Сильный господин бьет, топчет раба в пыль. Я вижу, вы другие люди... Я не понимаю, какие...— Он заплакал.— Пусть меня изжарят в пламени костра, пусть нарушу я закон степи о госте.— Он протянул руку к чуть синевшей вдали одинокой вершине:— Господин ушел к колодцу Джидели, вон под той горой, имя ее Шур. Идите за ним, и горе мне...
На колодце Джидели стоял разъезд красноармейцев. Никто туда не приходил и не приезжал за последние два-три дня. То ли обманул отшельник, то ли Али-Мардан изменил свой путь, опасаясь преследования.
След посланца эмира Али-Мардана был окончательно потерян...
IX
В беспредельных просторах Карнапчульской степи, где ровная поверхность земли не нарушается до круга горизонта ни единым бугорком, ни единым камнем Али-Мардан встретил дехканина, мирно ехавшего на жалкой лошаденке по своим делам.
Дехканин был удивлен встречей. Одинокий путник пеший, хоть звание его, видно, не простое: из-под распахнувшегося халата поблескивают пряжки дорогого пояса, да и халат бархатный.
Всадник придержал коня.
— Салом!
Али-Мардан пытливо смотрел на дехканина.
— Куда едешь?
— Слушай,— сказал дехканин,— хоть по обличью ты и большой господин... был большой господин, но ты забыл, видимо, правила вежливости. Ступай своей дорогой.
Али-Мардан закричал:
— Ты не видишь, я человек великого эмира... Я путешествую с высоким поручением.
56
— Эмир прыгает по степям и долинам, как тушканчик, и за ним гонятся красные воины. А ты что делаешь в нашей степи?
— Слезай с лошади и прекрати болтовню!— Али-Мардан протянул руку к рукоятке револьвера.
— А, вот ты кто,— и дехканин медленно слез с лошади.
По невозмутимому лицу его можно было подумать, что ему все равно, что ему не жалко отдать вот этому незнакомому человеку самое ценное для крестьянина — лошадь.
— Подержи стремя,— приказал Али-Мардан.
Тайному советнику эмира следовало быть наблюдательнее. Тогда бы он заметил, что в глазах крестьянина пляшут огоньки ненависти, а в сжатых губах чувствуется жесткая решимость.
Но Али-Мардан ничего не видел. Слишком велика была его уверенность в том, что рабы всегда останутся рабами и что воля господина непреложна. И он снова повторил:
— Держи стремя.
Тогда крестьянин молниеносным ударом рукоятки тяжелой камчи свалил Али-Мардана на землю и долго бил его. Потом неторопливо взобрался на коня и тронулся в путь.
Посланец эмира очнулся только поздно ночью. Он быстро обшарил себя. Все было цело. Крестьянин не тронул драгоценного пояса, где была зашита добыча рудника Сияния за целый год. Хотя все тело ныло, голова раскалывалась, а в груди временами чувствовались приступы резкой боли, Али-Мардан мог двигаться. Он поплелся на юг, ориентируясь по звездам. И когда заря залила половину небосклона, он добрался до крошечного кишлака, приютившегося на вершине одинокого холма.
Здесь, в силу старого закона гостеприимства, Али-Мардан нашел отдых и пищу. Пожилой крестьянин, одетый в жалкое рубище, рассыпаясь в любезностях, проводил неожиданного гостя к себе во двор. В крошечной комнатке, прокопченной зимними кострами, Али-Мардан со стоном опустился на вонючую баранью шкуру и заснул.
Хозяин несколько минут постоял, изучая облики одежду пришельца. Потом быстро наклонился, раздвинул по-
57
лы бархатного халата гостя, вытащил из кобуры револьвер и вышел.
...Стук двери разбудил Али-Мардана. Неприятно резнул глаза свет. Посреди комнаты потрескивали в огне ветки, у костра сидел хозяин дома и поглядывал на гостя. Когда взгляды их встретились, ощущение страха подползло к сердцу Али-Мардана. Он резко поднялся, рука его потянулась к поясу.
— Не спеши сражаться, господин,— усмехнулся хозяин.
— Не спеши, бек,— насмешливо прозвучал еще чей-то голос из угла.
Тут только Али-Мардан разглядел сквозь дым костра, что комната полна народа. Суровые лица крестьян были спокойны, равнодушны. В открытую дверь доносился заунывный вой собак.
— Чуют волка,— сказал хозяин. Опять все помолчали.
— Эй, бек, зачем ты пришел в нашу степь?— спросил длиннобородый широкоплечий старик.
— Я странник, я иду в Тармит поклониться праху хазрета, священной могиле.
— Мы хозяева, ты гость, зачем же ты, помня обычай гостеприимства, поспешно ищешь оружие, находясь в мирной михманхане в присутствии старейшин рода Кенегес? Зачем ты в степи останавливаешь почтенного Ата-Исмаила и, как разбойник, пытаешься отнять у него коня? Зачем ты спешишь скрыться от народа и ищешь спасения в краях, куда ускакал, как жалкий вор, сам эмир.
— Вы не смеете становиться на моем пути. Одного моего слова достаточно, чтобы от этого грязного кишлака остались кучи пепла и камней!..
— Было достаточно.
— А вашего Ата-Исмаила я прикажу продержать в клоповнике неделю, а потом ему вырвут глаза, отрежут нос и уши и всыпят двести палок.
— Постой, не грози, господин: нет больше клоповника, нет больше палок, нет больше господ беков, нет больше рабов,— говоривший вскочил, плюнул Али-Мардану в лицо и вышел.
58
Один за другим вставали старейшины рода Кенегес и каждый плевал на Али-Мардана. Никто не ударил его, никто даже не замахнулся.
Всесильный чиновник эмира, блестящий вельможа, попиравший многие годы человеческое достоинство сотен тысяч верноподданных эмира, забился в темный угол и, съежившись рукавом закрывал лицо. Он не пытался сопротивляться. Он был потрясен. Мир рушился, ум мутился. С новой силой вспыхнула боль во всем теле.
Последним ушел хозяин. Он даже не плюнул. Он сказал только одно слово:
— Шакал!
И вышел.
Али-Мардан выждал, когда затихли шаги и звуки голосов, и ползком подобрался к двери. Она не была заперта.
Ночью Али-Мардан исчез. Утром хозяин обнаружил у очага бархатный в серебряных украшениях пояс. Из пояса высыпалось несколько невзрачных камешков неправильной формы, покрытых желтовато-бурой коркой. Хозяин метлой смел камешки в кучу, долго вертел один из них в руках с явным удивлением.
На дворе он лепил из глины небольшой очаг. Камешки вмазал в его стенки.


Часть 2

I
На улице хлопают резкие выстрелы, будто ломаются сухие доски.
Игроки переглядываются. Николай Николаевич медленно кладет на палас карты, предусмотрительно крапом кверху, и поворачивает свое безбровое, лишенное всякой растительности, розовое лицо к распахнутой двери.
Пылкий Джалалов вскакивает, темные глаза его загораются лихорадочным огнем. Он поправляет многочисленные ремни, на которых висит желтая кобура. Впрочем, злые языки единодушно поговаривают, что в кобуре воинственный юноша носит перочинный нож, спички, табак.
Выстрелы щелкают где-то уже совсем близко.
— Стреляют?— вопросительно гудит из темного угла голос Медведя, тягучий и басовитый.
— Нет на барабане нам «с добрым утром» выстукивают,— раздраженно скрипит Джалалов.— Как только попадешь в Карши, вечно в какую-нибудь историю влипнешь. Надо пойти посмотреть, как и что.
— Но ведь там стреляют,— волнуется Николай Николаевич.
Джалалов останавливается и глубокомысленно рассматривает дверь. Совершенно очевидно, что весь запас его отваги исчерпан, и ему совсем не хочется идти на улицу, выяснять причину стрельбы.
Все молчат.
63
Тяжелые, шаркающие шаги нарушают тишину. Лицо Николая Николаевича принимает землистый оттенок, а впадины под скулами лиловеют. Медведь сует папиросу в рот не тем концом. Джалалов теребит застежку кобуры и шопотом спрашивает:
— Будем стрелять, а?
Ему не успели ответить. В низкую дверь просунулась большая синяя в полоску чалма, из-под нее блеснули проницательные, холодные глаза. Проводник экспедиции гузарец Ниязбек остановился на пороге.
— Ниязбек! Что случилось?
Ниязбек, не торопясь, прошел в угол и солидно покряхтывая, уселся по-восточному на одеяло. Только тут, произнося обязательное «бисмилля и рахман и рахим», он заговорил. Ниязбек не владел русским языком настолько, чтобы свободно излагать свои мысли, но он умел немногословно отрывисто и в то же время удивительно образно рассказывать обо всем, что было так важно и нужно в сложном путешествии.
Ниязбек погладил бороду, потом запустил под нее руку и растрепал шелковистые вьющиеся волосы так, что они легли на грудь пушистым веером. Затем он сказал:
— Басмачи.
— Как? Не может быть!
— Басмачи здесь? В Каршах? В самом городе?
Каждый, направлявшийся в те дни в Восточную Бухару, знал, что он пускается в трудный путь, что ему предстоит пережить очень и очень тревожные дни, что, быть может, придется столкнуться с самыми серьезными опасностями, но думалось, что все это далеко впереди. Карши — город мирный, будничный, рядом железная дорога, поезда, свистки паровозов — и вдруг...
— Басмачи,— повторил Ниязбек.
В Бухарской народной республике еще шли упорные бои с басмаческими шайками. Еще всякие ибрагим-беки, понсат-усманы, палваны, мурад-датхо мнили себя полновластными беками Гиссара, Локая, Байсуна, Ширабада.
Басмачи опустошали край, обирали дехкан, пожирали, как саранча, все съедобное. Землевладельцы и скотоводы прятали зерно, угоняли в непроходимые горные ущелья скот. Начался голод. Дехкане распродавали последнее, что у них было, разрушали жилые постройки, выру-
64
бали фруктовые сады и шли, куда глаза глядят. В Миршадинском вилойяте из двадцати тысяч жителей за зиму вымерло пятнадцать тысяч. В развалинах городов и селений выли шакалы и бродячие псы.
Но уже началась мирная созидательная работа. Из Ташкента в Бухару, в самые далекие и глухие места двинулись советские люди. Впервые появлялись, в горах и долинах врачи, агрономы, инженеры, учителя. Впервые встал вопрос о том, что болезни нужно лечить, а не заговаривать знахарскими заклинаниями, что надо строить дороги и дома, что надо учить детей и учиться самим. В помощь освобожденной от деспотии эмира Бухаре Коммунистическая партия братской Туркестанской республики направляла своих работников.
В те дни из города в город по бухарской земле не решались ездить в одиночку. Время было беспокойное, шайки всевозможных кзыл-аяков, каракулей, найманов пользовались тем, что Красная Армия занята ликвидацией последышей британского наемника — турецкого авантюриста Энвера, банд Ибрагима, Бахрама и им подобных. Тогда-то и воскрешены были знаменитые «оказии», столь обычные для середины прошлого века на Кавказе. И здесь, в Бухаре, тоже каждую группу гражданских лиц, как правило, сопровождал воинский отряд, и всякий путешествующий обязательно присоединялся к «оказии».
На восток через всю Бухарскую республику в мае двинулась многолюдная экспедиция. Сотни арб, полторы тысячи верблюдов везли мануфактуру, всевозможные товары, серебряные деньги. С экспедицией ехали направлявшиеся на работу в Дюшамбе, Гарм, Куляб сотни советских работников и специалистов.
Только что окончивший Ленинградский университет, молодой хирург Николай Николаевич Гордов направлялся вглубь гор не столько в силу необходимости, сколько из юношеской склонности «к перемене мест». Пожилой, с тронутыми сединой волосами этнограф Кондратий Панфилович Медведь сумел попасть в состав экспедиции только в качестве фотографа. В Ташкенте Медведю разъяснили, что для сбора фольклорных и бытовых материалов в Восточной Бухаре не созданы еще подходящие условия. Тогда ученый, вооружившись громоздким аппаратом, принялся фиксировать на фотопластинки всякого рода торжественные встречи, заседания.
65
Это не помешало Медведю за короткий срок собрать в Старой Бухаре большую коллекцию интересных для него материалов и снимков и заполнить множество тетрадей записями. Теперь, махнув на болезни, на бремя лет, он двинулся дальше к подножию Памира. Трудное имя и отчество ученого давалось лишь немногим, и все предпочитали обращаться к нему просто по фамилии. Ехал в Дюшамбе на время летних каникул молодой, шумливый и вспыльчивый комсомолец Джалалов, студент факультета общественных наук, устроившийся в экспедиции счетоводом и мечтавший о необычайных приключениях и подвигах. И много еще ехало на Восток в бывшие восточные вилойяты Бухарского ханства молодых, полных энтузиазма и сил советских работников, студентов, банковских служащих. Были среди них и такие, что думали только о заработках, но большая часть людей чувствовала себя пионерами социалистической культуры, пробирающимися в дебри огромной, еще недавно совсем недоступной страны. Их манили к себе романтические названия таинственных, мало известных городов — Бальджуан, Гиссар, Калаихулит, Кафирниган,— куда до революции проникали, да и то с трудом, лишь отдельные смелые путешественники.
То, что рассказал Ниязбек, поистине было удивительно.
На днях один из состоятельных жителей города Карата, Шарип-бай, объявил, что в ближайшее воскресенье будет пир по случаю бракосочетания его дочери. Сахибулла, заслуживший еще в эмирские времена славу самого громкоголосого глашатая города Карши, кричал без отдыха три дня на базаре о предстоящей свадьбе.
Вечером, накануне свадебного пиршества, улицы предместья огласили резкие звуки сурнаев. Медленно и важно проследовал сам жених по дороге, что вела от монастыря слепых к шахрисябзским воротам. На развалины старой зубчатой стены высыпали любопытствующие шумливые горожане. Толпа проводила свадебный кортеж до дома, где остановился жених, как говорили, весьма состоятельный мясоторговец.
Много было вечером в чайханах разговоров и пересудов, ибо со времени эмирата не видели такого пышного празднества. Старики хвалили Шарип-бая за то, что он разыскал в эти бурные времена для своей дочери
66
столь солидного мужа, который, как видно, знает толк в дедовских обычаях и не скупится в расходах на семейные торжества. То обстоятельство, что жених уже далеко не первой молодости, мало интересовало досужих чайханных сплетников. На нелестные замечания юношей, робко сидевших на самом краю помоста у дверей, убеленные сединами старцы сурово отвечали: «Жена, обращающая внимание на наружность мужа, ослепнет». Молодые джигиты, проведавшие кое-что о нежной красоте шестнадцатилетней невесты и тайком вздыхавшие по ней, робко умолкали. Они хорошо знали уродливый порядок, обрекавший молодого неимущего мусульманина на длительное холостяцкое существование, лишавший его радости отцовства. Закон ислама бросал цветущих девушек в объятия немощных старцев, имевших капиталы, а следовательно, и возможность покупать канонизированное число жен. Молодежь покорялась безропотно. Была она в первые годы после Бухарской революции еще послушна велениям старших.
Откуда-то пошел слух: «А ведь жених не очень благополучен». Но что именно с ним — не говорили.
Празднество шло своим чередом, обильное угощение, на котором присутствовали все почтенные лица города Карши, длилось от восхода солнца до поздней ночи. Одного плова было съедено неимоверное количество.
Скрипучую арбу с невестой провожало целое шествие разряженных родственников и знакомых. Невеста, как подобает, плакала, из-под паранджи доносились жалобные всхлипывания. Но плач расценивался как проявление естественной скромности и стыдливости.
И, наконец, жених был отведен к невесте.
Шумел пир. Лоснились от бараньего сала лица обжирающихся жирными яствами гостей. Льнули ещё к окнам комнаты молодоженов, хихикая и подталкивая друг друга, женщины и девушки.
Как вдруг веселье оборвалось. Поднялась стрельба.
Потухли лампы, зачадили кем-то поспешно погашенные факелы. В неверном свете восходящей луны с воплями метались люди. По улочкам и переулкам с оглушительным топотом промчались всадники в буденовках.
Слухи, неясные намеки мгновенно облеклись в плоть и кровь. Почтенный жених — басмач. Более того — не рядовой бандит, а главарь крупной шайки, известный курба-
67
ши Кудрат-бий, самый опасный и могущественный из басмаческих вожаков байсунских гор.
Гости, многочисленные зеваки, слуги байского дома при первых же выстрелах бросились наутек. Милиционеры из недавно взятых на службу не обученных дехкан и бывших эмирских нукеров палили из берданок в темное усеянное звездами небо. Отряд красных кавалеристов поскакал в погоню...
Закончив немногословный рассказ, Ниязбек умолк и принялся за чаепитие.
Дверь скрипнула. Стремительно вошел человек в форме командира Красной Армии. Это был комбриг Кошуба, возвращавшийся из Ташкента в Восточную Бухару и принявший на себя начальствование над экспедицией. Через плечо у Кошубы на ремне переброшен карабин,
Все вскочили, улыбки разлились по лицам.
— Товарищ Кошуба!
Не отвечая на приветствия, Кошуба ступил вперед и проговорил:
— Неладное дело, ребята. Студентку нашу убили.
— Таню?!
— Татьяну Ивановну?!
— Танечку?!
Неподдельное горе слышалось в голосах. Танечка — студентка Восточного института, ехавшая с экспедицией в Восточную Бухару «на практику иранских наречий», как было у нее записано в путевке. Хохотушка Таня, добрая Таня, в которую все успели по-мальчишески влюбиться.
— Сейчас, во время перестрелки, она шла по улице, налетели всадники...
Так состоялось вступление экспедиции в Восточную Бухару.
II
Пофыркивает конь, встряхивая головой в такт своим шагам. Запах пыли смешивается с ароматами цветущих садов. Поскрипывает седло, звякают стремена.
Разговор вполголоса. В темноте не видно, кто говорит.
— Заметили... там, на повороте?
— Сколько?
— Человек э... десятка два.
68
— М-да...
Тот же голос громче произносит:
— Джалалов, товарищ Джалалов!
— Я.
— Тсс... Вы говорили что знаете пулемет Льюиса?
— Да.
— Вот, возьмите, заряжен. Держите наготове.
Конь нетерпеливо топчется на месте. В темноте звенит металл о металл. Резкая команда:
— Марш!
Отряд снова движется вперед, во тьму.
Для экспедиции с последним бухарским поездом прибыл груз. Ехать за ним надо было на железнодорожную станцию, километров двенадцать от города Карши. Так как отряд ушел ловить Кудрат-бия, за грузом по приказу Кошубы была послана группа штатских лиц.
Джалалов, Медведь, Николай Николаевич и другие получили оружие, коней и стали кавалеристами.
...Насколько опасна это поездка, каждый из них представлял себе очень смутно, и то по свежим воспоминаниям о предыдущей ночной пальбе и гибели студентки Тани. Всем было известно, что по окрестной степи рыскают группы басмачей, банды эмирских ширбачей-головорезов, жадные до коней, сбруи и особенно до огнестрельного оружия. Но очень трудно представить, что среди этих серых будничных домишек и развалившихся дувалов может подстерегать смерть.
— Джалалов,— шепчет Медведь,— ты взаправду управишься с пулеметом?
— С «Льюисом»? Конечно,— убедительно шепчет Джалалов. Но что-то в его голосе не нравится Медведю.
— Смотри, друг, не подведи.
На повороте едва слышно передается от одного к другому команда — держать винтовки наготове. Джалалов с пулеметом выдвигается вперед.
Чуть светает. По бокам дороги белеют из-за дувалов шапки цветущего урюка. Постукивают копыта...
Отряд спокойно добрался по переулкам до дома каршинского казия, где остановились участники экспедиции.
В глубине улицы в рассветных сумерках появилась кучка всадников.
Впереди, в отливающем всеми цветами радуги шелковом халате, в белой чалме, на пляшущем вороном
69
скакуне важно ехал пожилой бородач с суровым бледным лицом. Человек двадцать вооруженных конников сопровождали его.
Не останавливаясь, не обращая ни на кого внимания, всадники почти беззвучно проплыли мимо. Ни один не оглянулся, ни один не сказал ни слова. Облако пыли встало за ними, словно ширма, и долго еще висело над кривой улицей.
— Что же вы стоите? Заезжайте.
Проводник Ниязбек, остававшийся дома, стоял в настежь распахнутых воротах. Держался он спокойно, но усмехался довольно криво.
Когда все слезли с коней и стали разминать затекшие ноги, Ниязбек негромко сказал:
— Видели?
— Кого?
— Курбаши Кудрат-бия... самого командующего войсками эмира.
Джалалов побежал к воротам.
— Скорее! Надо догнать, задержать.
Произошел легкий переполох. Бросились к телефону. Стали звонить коменданту города. Медведь выскочил на улицу.
Только Ниязбек не суетился. Он заметил равнодушно:
— Пользы не будет. Их много, кони у них хорошие. Благодарение богу, вас не тронули.
Курбаши Кудрат-бий опоздал на несколько минут. Он знал и то, что для экспедиции получен ценный груз, в том числе и оружие, и то, что за ним поедут люди глубоко штатские, и то, что отряд будет проезжать на рассвете по обширному пустырю, что лежит между станцией и стеной Карши. Одного не учел Кудрат-бий — беспокойного, назойливого характера Медведя. Старый ученый заставил людей поспешить, не позволил задерживаться в буфете вокзала Карши и погнал в город.
— Да ведь вы выполняете задание, ответственнейшее задание!
И своей воркотней Медведь избавил участников поездки от смертельной опасности.
Басмачи опоздали. Встреча произошла на улицах города, где при всей своей наглости Кудрат-бий не решился совершить нападение.
70
Обо всем этом рассказала Саодат, присоединившаяся в Карши к эскпедиции. Местная организация женотдела направляла ее на работу в Восточную Бухару.
Весеннее солнце рассыпало лучи по куполу сардобы — крытого водохранилища. Водоносы с кожаными мешками на спине длинной вереницей выныривали из темного провала входа и, тяжело ступая, медленно плелись вверх по стертым за многие столетия каменным ступеням. Выбравшись из мрачного, насыщенного тяжелыми испарениями подземелья, водоносы начинали вопить полной грудью:
— Оби-и-Зем-зем! О мусульмане, об-и-Зем-зем! О вода райского источника Зем-зем!
Черноокая, с тонкими, сходящимися на переносице, бровями красавица Саодат разъясняла смысл выкриков:
— Сладкая вода, вода священного источника Зем-зем, кричат они, эти бедняки, как кричали их отцы и деды...— Грустно улыбнувшись, она продолжала:— Мой отец — вы знаете, он тоже полжизни гнулся под тяжестью кожаного бурдюка с водой — никогда не позволял мне пить воду из сардобы. Не пейте и вы ее. Плохая там вода. Когда красноармейцы пришли к нам в Карши в позапрошлом году, большевики решили вычистить сардобу. Сотни людей ведрами выносили черную жидкую грязь и сливали в ров у городской стены. А там, на дне водоема, кроме грязи, нашли... знаете, что там нашли? Скелеты людей. Оружие, мечи, черепа. И люди пили такѵю воду... могильную воду... Много, много лет назад народ восстал против эмира. Горожане нашего Карши — ремесленники и дехкане сражались с воинами эмира, защищали народ от деспотии и притеснений. И когда эмирские войска разгромили храбрецов, оставшиеся в живых, израненные, едва живые сбежались к сардобе и отбивались от врагов у ее входа. Теперь мы знаем — многие погибли там, утонули...
Девушка продолжала рассказывать... Нахлынули видения прошлого.
Такой же, как и сейчас, позеленевший, местами поросший чахлой травой купол, сложенный из квадратных плит известняка. Ночь. Мечутся огни факелов, вспыхи-
71
вают красные молнии мечей. На краю круглого водоема, глубоко под землей идет сеча. Безмолвная, ожесточенная. Люди знают — нет больше спасения. Угасла всякая надежда. Наступил последний час восстания. Никто не просит пощады. Израненный, обессиленный вождь восставших водоносов, сам водонос, еще отбивает удары. Ноги его скользят на мокрой от крови земле. Вот он оглядывается. Друзья, соратники слабеют. Многие корчатся в агонии. Руки ненавистных врагов тянутся к храбрецам... Все кончено. Изнемогающий от ран вожак с гордым призывным криком откидывается навзничь, и черная тяжелая вода смыкается с глухим ворчанием над его телом. Мятежники слышат предсмертный призыв вождя. Новый всплеск. Еще... Падают блики факельных огней на взбудораженную поверхность водоема...
Саодат теребит Джалалова за рукав. Она позвала его сюда, в уединенный уголок, в сторону от шумной толпы, чтобы рассказать о слухах, которые ходят среди горожан.
Басмаческие курбаши на днях собирались на совет в селении Хилели и решили перехватить экспедицию на дороге между Карши и Гузаром. Басмачи узнали, что на арбах везут серебро для Восточно-бухарского банка, а на верблюдах мануфактуру, чай и другие товары в Дюшамбе. Сотни басмачей спустились с гор, чтобы поживиться добычей.
— Но откуда они узнали?
— О, они быстро узнают такие вещи. У них глаза и уши на базаре, в чайхане... Они напали бы на вас здесь, но они трусы. Они предпочитают степные овраги, камышевые заросли.
Саодат боится басмачей. Горе, ужас коснулись ее души, оставили глубокие раны в сердце. В день, когда банды оголтелых басмаческих головорезов ворвались в кишлак Яр-Тепе, Саодат, присланная сюда из Карши, должна была проводить собрание женщин. Бандиты жгли, насиловали, грабили. Саодат увидела и испытала столько, сколько не под силу перенести и зрелому, закаленному мужчине. Чудом она вырвалась из рук истязателей, осталась жива.
Саодат родом из Кассана. Стройная, с правильными чертами лица и большими проницательными глазами, она очень хороша. Бедствия, постигшие ее, не сломили
72
в ней воли к жизни. Она много учится, работает в женотделе. Ей, одной из первых, доверено великое дело приобщения женщин горной Бухары к идеям советской власти.
— Здешние женщины,— говорила Саодат горько,— очень хорошо знают, что такое восточный гарем, затворничество... Мои три сестры, три подружки моего детства, были проданы, да, проданы. И родители сделали это, любя их. Нас дама никогда не били, пальцем не касались... А таков брачный закон: продавали за двести-триста рублей или за тридцать-сорок баранов. Калым. Прелестных, юных, нежных сестренок продали как скот. А кому? Чернобровым, луноликим юношам, думаете? Вот сестрицу Шухрат в тринадцать лет сосватали крупному землевладельцу Шамурату. Ему было лет под шестьдесят, но богат, деловит. Значит, думали родители, дочь нашла счастье. Дал калым — десять пудов риса, десятка два баранов, верблюда, немного денег. А другую сестру продали семидесятилетнему казию. Муж бил ее и кулаками, и суковатым посохом; и ногами за то, что не было у них детей. Потом в темную зимнюю ночь вытолкал на улицу, на снег. И так развелся с ней. А сколько мучили бухарских женщин, если у них рождались не мальчики, а девочки...
Отец Саодат, водонос Шамсутдин — хмурый, согбенный годами и бедами старик, любил сидеть в чайхане и, заложив под язык терпкий нас, сплетничал о соседях. На дочь свою первое время, когда она сейчас же после революции ушла от мужа, он смотрел, как на падшее — нечистое существо. Когда же Саодат стала грамотной и уважаемой, Шамсутдин внезапно начал называть дочь «Саодатханум» — «Саодат-госпожа».
Саодат знала о свадьбе в доме Шарип-бая, но не могла помешать ей. То были первые годы становления советской власти в бывшем эмирате, и не всегда еще побеждали новые веяния. Саодат познакомилась с юной женой, вернее жертвой басмача Кудрата, и, как могла, помогала ей. Но сила старого была еще велика. С ужасом узнала Саодат, что и в последующие после свадьбы дни Кудрат-курбаши продолжал по ночам тайно посещать молодую. Басмач не скрывал от Шарип-бая и его домашних своих замыслов в отношении экспедиции. Отсюда многое стало известно и Саодат.
73
Кошубой был составлен план захвата дерзкого басмача и его приспешников, но внезапный выезд экспедиции заставил отказаться от этого замысла...
Впрочем, не был ли этот план хитростью, которая позволила обмануть басмачей, ожидавших, что экспедиция выедет из Каршей значительно позднее? И не потому ли о предполагаемой попытке захватить Кудрат-бия говорили так много во всеуслышание на всех базарах Карши...
III
Ночью караван сделал привал в окрестностях кишлака Янги-Кент, принадлежащего в качестве вакуфа, целиком, со всеми полями, домами, овцами и дехканами каршинскому священному мазару Идриса-Пайгамбара. Почтенный мутавалли Гияс-ходжа был немало поражен, когда среди ночи в степи застонали, заскрипели сотни колес, заревели верблюды.
Нетерпеливый стук в ворота разбудил в большой, огороженной глиняными стенами, усадьбе всех домочадцев. Требовались ведра — поить лошадей, хворост и колючка — разводить костры, шила и прочий инструмент — чинить сбрую. В темноте бегали люди, неуемно, отрывисто лаяли собаки.
Сам мутавалли бродил с фонарем в руках по шумному и беспорядочному бивуаку и вежливо осведомлялся о том, где же находится начальник.
Он останавливался около беседующих, присаживался к кострам и, отставив в сторону фонарь, грел руки у дымного пламени. Благообразная, клинышком, бородка его живо поворачивалась к говорящему. Он весь был внимание и подчеркнутое уважение.
— Неужели вы, друзья, едете всю ночь? О, наша обитель к услугам путников, к вашим услугам. Здесь вы можете предоставить отдых своему телу. Нельзя же ехать дальше, не отдохнув, как следует...
Джалалов нетерпеливо пощелкивал камчой по новеньким кожаным гетрам, специально приобретенным для путешествия.
— Конечно, конечно, мудрый ходжа! Отдых необходим, но мы спешим. Да и если бы мы захотели здесь остаться4 что бы мы кушали? Здесь нет даже базара.
74
Ходжа засуетился. Через несколько минут оборванные, почерневшие от загара работники принесли обильное угощение.
— Замечательно,— заговорил Николай Николаевич.— Вот он настоящий Восток. Не успели мы нежданно-негаданно нагрянуть, и перед нами вкусная еда, удобства. Все приправлено добродушием, вежливостью, любезностью. И подумать только — этот ходжа ведь не такой уж и друг нам. Как вы думаете, Джалалов, он понимает, кто мы? что мы для него?
— Отлично понимает,— проговорил Медведь, опережая ответ Джалалова,— чувствует и понимает.
— Ну, ну...— улыбнулся Николай Николаевич.— Как вы думаете, он от коньячка не откажется?
Саодат вполголоса заметила:
— Наш добрейший, любезный хозяин успел два раза меня проклясть.
— Как? Что вы?
— Да, да, и по-персидски, и по-арабски. Так что вы не очень верьте ему...
Все заметили, что молодая женщина нервничает. Она бледнела каждый раз, как только мутавалли взглядывал на нее.
Потом началась суматоха выступления. А гостеприимный хозяин все еще тащил какие-то угощения: бешбармак, жареную в луке баранину, рисовую молочную кашу.
— Вы мусафиры — священные путники. Задержитесь. Остановите караван... всех людей, всех животных накормлю, напою. У нас, мусульман, самое богоугодное дело — дать пищу и кров путешественникам. Поистине благое дело! Будете, ваша милость, довольны гостеприимством.
Были очень соблазнительны и мягкие одеяла, разбросанные на чистых паласах, и шелест свежего ветерка в цветущих ветвях молодых персиковых деревьев, и горячий зеленый чай.
Вопрос решил Кошуба, который неожиданно появился на коне из тьмы. Он, очевидно, так и не слезал с седла, наводя порядок в лагере.
Кошуба неодобрительно посмотрел на разлегшихся на коврах участников экспедиции и довольно грубо объявил:
— Товарищи! Давайте по местам! Верблюды уже вытянулись на Гузарскую дорогу. Арбы трогаются.
75
Ходжа засуетился. Он подбежал к Кошубе и залебезил, быстро сгибаясь и разгибаясь, прижимая к животу руки в длинных, узких рукавах.
— Таксыр! Господин! Токсоба! Прошу. Отведайте...
— Некогда. Едем.
Николай Николаевич нехотя поднялся. Семеня мелкими шажками, к нему подбежал мутавалли и помог перекинуть через плечо винтовку. Трогательное прощание доктора с любвеобильным хозяином продолжалось долго. Стремя держал сам Гияс-ходжа.
Когда уже вся скрипящая, шумливая громада каравана кряхтела по дороге и пыль резко била в нос, рядом с Джалаловым возникла крепкая, сбитая фигура Кошубы.
— Не курите, потушите трубку — Он наклонился совсем близко, стараясь, видимо, разглядеть собеседника:— А, это вы... Да, вот вы должны были заметить. Как вы думаете, чего не хватало в угощении этого святого, а?
— Не хватало? Там все было.
— Там не хватало хлеба, лепешек. А знаете почему, а?— Зло выругавшись, Кошуба продолжал.— Потому, что он враг. Если бы он дал хлеб-соль, он не посмел бы злоумышлять против нас. Он привлек бы на себя немилость божию.
— Значит?
— Значит, он не зря всячески нас задерживал. Он готовил нам неприятности.
Много лет прожил Кошуба в Туркестане, исколесил всю страну вдоль и поперек, а с первых дней революции, в рядах сначала Красной гвардии, а затем Красной Армии сражался и против белогвардейцев, и против интервентов, и против басмачей. Он прекрасно изучил местные обычаи.
На следующее утро к отдыхающим в чайхане участникам экспедиции подсел бобо-камбагал — старшина нищих, только что пришедший из Янги-Кента. Он рассказал, что спустя четверть часа после того, как экспедиция покинула ночной лагерь, из степи во весь опор прискакали всадники. Они порыскали по кишлаку и по соседству с ним и так же быстро исчезли.
— А что делал ходжа?— спросил Джалалов.
Бедняк понимающе посмотрел на юношу и, осторожно выбирая слова, заметил:
76
— Мудрый и уважаемый мутавалли пребывал у ворот своего почтенного дома и, подняв очи горе, совершал утренний намаз... Эх! Вы, наверно, не здешние,— продолжал он, помолчав немного.— Поверьте мне: этот мутавалли, хозяин дверей рая, обманщик из обманщиков. Когда эмир мучил народ, где он был? Когда дехкан терзают басмачи, где он со своим богом? Он платил налоги эмиру? Нет! Он думает о нас — нищих, неимущих? Нет!
Видя, что его слушают внимательно, бобо-камбагал уселся поудобнее, потребовал чайник чая и начал рассказывать, мешая таджикские и узбекские слова.
— Я из кишлака очень святого и благочестивого. Все земли и все дехкане со всеми своими кишками принадлежат там Хызру Пайгамбару, великому пророку, а весь урожай собирают ишаны и ходжи. Очень святой кишлак. Если только на улице увидите большие ворота, знайте, здесь живет ишан Хызра Пайгамбара. Кишлак Ура-Тюбе известен своими кузнецами, кишлак Курган своими соловьями-певцами, Риштан — гончарами, а наш кишлак — ишанами. У нас есть знахарь-ишан, Насреддин-ишан, Шираббудин-ишан, Аназуддин-ишан, Мухседдин, Саид-Камалхан. И есть еще один, самый богатый и самый вредный,— голос рассказчика снизился до шопота,— самый злой, горбатый ишан Ползун. Он не ходит, он ползает. Ишаны сидят у нас в кишлаке, как жирные вши в халате бедняка.
Очень они благочестивые люди. Каждый имеет по восьми жен, много земли, большую бороду и жирное брюхо. Им преподносят то жертву, то праздничный подарок, деньги, кур, баранов, халаты, лошадей, девочек в прислужницы и в наложницы, да мало ли что!
Сами они не работают, только молятся. Очень святые ишаны. Я вкусил от их святости. Я сам из ишанских батраков. Я убежал из кишлака, когда умер мой отец и бай-ростовщик забрал нашу землю, хижину, пару быков и моих сестер за долги, а меня хотел сделать рабом. Я бежал через горы, через снег и лед, я испытал мучения, голод, жажду. И зачем? Чтобы двадцать лет, согнув спину, работать на другого ишана. Тогда я понял, что бедняк — всегда бедняк, а бай — всюду бай.
Бобо-камбагал тряс бородкой, морщился, охал.
— Каждый год я приходил за жалованием к своему ишану. Он доставал с алебастровой полочки какие-то
77
бумаги, долго щелкал на счетах, а я стоял у порога. Зайти в чистую михманхану в рваном халате мне было неудобно. Потом ишан вздыхал и говорил сладким голосом: «Душечка Хакимджан, ты работал трудолюбиво, ты заработал очень много, очень много, но, братец ты мой, и кушал ты очень много, слишком много. И не только с меня не причитается тебе ни одной теньги, но, наоборот, ты еще задолжал за пищу и одежду двадцать одну теньгу. Но Пайгамбар повелевает быть нам добрыми; я прощаю тебе долг. Вознесем же благодарственную молитву пророку Хызру».
— Так я за двадцать лет двадцать раз молился вместе со своим ишаном, а не сумел даже купить одеяло, чтобы накрывать от холода свои больные кости. Я спал, покрываясь рваным халатом, в холодной конюшне на куче навоза,— все было мне теплее. У меня не было ни чайника, ни пиалы, не было у меня семьи. Да разве такой, как я, мог мечтать стать отцом? За жену надо платить тысячу тенег, а я сам кормился объедками от ишанского дастархана. А когда я заболел, ишан прогнал меня, и я стал просить на дорогах... Руки у меня больные, ноги мои распухли, ноют, спина согнута... Прихлебнув из пиалы чай, бобо-камбагал вдруг заговорил просящим тоном: — А теперь, о великодушные, подарите же несчастному несколько грошей на хлеб, только несколько грошей...
Случай с мутавалли Гияс-ходжой вселил в участников экспедиции естественную тревогу, чувство настороженности. И когда рано утром второго дня путешествия, перед самым въездом в Гузар, вдали показались мчащиеся вскачь конники, все сбросили с себя оцепенение сна, схватились за оружие. По внешнему виду всадники ничем не отличались от басмачей.
Прогрохотали копыта по настилу моста через Гузар-Дарью.
Один из всадников, одетый в зеленый халат с маузером на поясе, резко осадил коня и, отдав честь, вежливо сказал:
— Мы добровольный отряд из Карши. Салам, таксыр-товарищи!
— Здравствуйте!
— Вы увезли из города дочь старшины водоносов, Саодат. Мы просим вернуть ее отцу и матери.
78
Джигит тяжело сполз с коня и стоял, твердо упираясь могучими ногами, обутыми в мягкие сапоги с острыми загнутыми носками в доски настила моста. Из-под войлочной белой треугольной, отороченной черным бархатом, шляпы карие воспаленные от ветра и пыли глаза смотрели внимательно и жестко, казалось, спрашивая: «Кто вы? Что мне с вами делать?» Губы под длинными, ниспадающими к небольшой темной бородке усами были сжаты в ироническую усмешку, уверенность в своей неодолимой духовной и физической силе сквозила во всем его облике.
О таких молодцах степные бахши поют:
«Тигровые лапы твои не уступают цепкостью когтям орла с вершин Хазарет Султана, сердце леопарда бьется в железной груди твоей, когда ступаешь ты по полю битвы...»
Джигит,
увешанный оружием, властно требовал. Два десятка таких же  внушительных и
грозных молодцов, как и он сам, спешившись, стояли за его спиной.
внушительных и
грозных молодцов, как и он сам, спешившись, стояли за его спиной.
Участники экспедиции в тревоге столпились у бревенчатых перил моста, дерзко переброшенного через ущелье Гузар-Дарьи. Обрывистые склоны, облепленные сотнями домов с плоскими крышами, заворачивали куда-то в розовую дымку быстро ползущего вниз тумана. С минаретов неслись звонкие призывы муэдзинов. Жаворонки рассыпались певучими трелями в бирюзовом холодном небе. Город еще не шумел, а только тихо ворчал словно потягивающийся в сладкой утренней истоме великан.
Подошла Саодат. Лицо молодой женщины, носившее следы утомления, было спокойно, большие глаза прищурены, и от этого взгляд их светился иронией и силой.
— Санджар! Зачем вы приехали?
Краска прилила к смуглым щекам батыра. Он отвел взгляд в сторону, стараясь не смотреть в лицо Саодат, и пробормотал что-то неразборчивое.
— Зачем вы приехали? — повторила Саодат.
Джигит выпалил, ни к кому не обращаясь:
— Мы приехали, чтобы вернуть дочь родителям. Нет обычая, чтобы дочь покидала родителей без их разрешения.
— Вы лжете,— твердо сказала Саодат.— Мой отец знает о моем отъезде. Он согласен, чтобы я уехала. А
79
вы... Я вам говорила, что не хочу видеть вас, я не поеду с вами...
В голосе Саодат зазвучали стальные нотки. Стало понятно, что не первый раз Санджару приходилось слышать нелюбезные слова молодой женщины.
Могучий воин вжал голову в плечи. Он потерял всю свою самонадеянность, но все же упрямо продолжал твердить:
— К родителям... Она поедет назад. Дальше она не поедет...
Гневные слова джигита прервал голос Кошубы, неожиданно вмешавшегося в спор в самый напряженный момент. Вообще командир появлялся всегда удивительно удачно, как раз тогда, когда это было нужно.
— Привет, мой брат Санджар!
Тут последовал обмен дружескими приветствиями, радостными возгласами и нескончаемыми любезностями.
Когда же джигит заикнулся о том, что нужно увезти обратно дочь старшины водоносов, Кошуба вдруг стал холоден и непроницаем.
— Дело терпит. Вопрос решим в Гузаре.— И скомандовал:— В повозки! Быстро!
Санджару ничего не оставалось как сесть на коня и последовать за караваном.
В Гузаре экспедиции была оказана самая радушная встреча.
За завтраком между Кошубой и Санджаром произошел знаменательный разговор.
На доводы джигита о том, что Саодат неудобно ехать одной, нехорошо бывать постоянно с открытым лицом среди стольких мужчин, Кошуба заметил:
— Мы тоже знаем обычай местных племен. Мы знаем, что в кишлаке узбечки не закрывают лиц. Не то что в городе Бухаре, где мужья и имамы прячут их под жесткую конскую сетку. Конечно, это до поры до времени... Мы знаем, что женщины-степнячки обходятся частенько в своих решениях без помощи мужчин. Правда ли это?
Санджар низко опустил голову и чуть слышно ответил:
— Да.
— И должен тебе сказать, брат мой Санджар, мне все это не нравится. Мне не нравится, что, ты, советский
80
человек, передовой человек, пытаешься вернуть узбечку к старому. Кричишь: «Долой деспотов и феодалов, баев и вонючих ишанов с их гнусными обычаями», а сам силой хочешь вернуть свободную женщину к цепям рабства и угнетения. Ты забыл, что живешь в Советском государстве, что женщина у нас не товар, который покупают и продают. Советская женщина сама решает свою судьбу. Санджар был подавлен, но, по-видимому, не убежден. Все же товарищу Кошубе, пожалуй, следовало бы на этом и остановиться. Но он продолжал с лукавой усмешкой:
— Сейчас война, Санджар. А «когда сыплются искры из мечей, есть ли время подбирать искры из глаз возлюбленной»? Не правда ли? Вот если бы вы захватили разведчиков Кудрат-бия! Говорят, они обнаглели и безнаказанно рыскают по дорогам и кишлакам по берегам Катта-Уру-Дарьи.
Санджар вскочил:
— Хорошо же, пусть будет по вашему. Плохо, если вам что-то не нравится. Гостю все должно нравиться. Что вам, товарищ Кошуба, нравится? Вы наш гость.
— Мне нравится враг без головы,— резко сказал Кошуба.
Санджар хрипло воскликнул:
— У нас в Бухаре есть обычай: все, что нравится гостю, принадлежит гостю.
...Спустя час Санджар со своим отрядом покинул Гузар.
Наконец-то можно было лечь отдохнуть... Все разбрелись по саду, выбирая места потенистее, потому что солнце уже изрядно припекало.
Пробуждение от сна было шумное. Десятки голосов наперерыв сообщили, что всех приглашают на ужин к начальнику гарнизона в бывший бекокий дворец.
Во дворце было людно. Собрались все члены гузарского городского совета, почтенные старики из окрестных кишлаков, старшины ремесленных цехов, работники потребительской кооперации, рабочие строительства железной дороги. По краям большого двора, выложенного огромными каменными плитами, были разостланы паласы, ковры, кошмы.
Из разговоров удалось узнать, что комбриг хочет порадовать горожан Гузара только что полученной приятной
81
новостью. Ждали приезда виновника торжества. Саодат шопотом сообщила, что это никто иной, как Санджар.
Спустились сумерки. Зажгли фонари. Заполыхало желтое пламя дымных факелов. Появился во дворе комбриг, командиры, красноармейцы. Почти одновременно с улицы донесся дробный стук копыт, звякание подков, возгласы: Яша! Яша!
Во двор въехали всадники. Даже при неровном, колеблющемся свете факелов бросался в глаза измученный, усталый вид джигитов. Халаты их покрыты пылью, темными пятнами. У некоторых были перевязны бинтами головы.
— Кровь,— прошелестел шопот рядом.
Саодат, молитвенно сжав руки, смотрела на всадников. Нет, она смотрела только на одного из них. Это был Санджар. Санджар-победитель!
Он медленно слез с коня и, бросив поводья, неуклюже расставив ноги, сделал несколько шагов к группе командиров.
Сотни глаз с напряженным сниманием смотрели на богатыря, сотни рук приготовились аплодировать ему.
Санджар вытянулся и замер.
— Здравствуйте, командир добровольческого отряда!— громко сказал комбриг.— Рапортуйте!
Санджар обернулся, посмотрел кругом. Он не видел тонувших в темноте лиц сотен собравшихся. Но он чувствовал на себе их испытующие, нетерпеливые взгляды.
— Вот, товарищ командир, товарищ Кошуба сегодня утром сказал, упрекал меня, что блеск глаз одной девушки...
Стоявшая рядом Саодат сердито пробормотала что-то, и дыхание ее стало быстрым и прерывистым.
— Что блеск глаз одной девушки затмил все... Заставил меня забыть об обязанностях воина. Что долина Катта-Уру-Дарьи стала неспокойной, что змей Кудрат опять осмелился жалить... Да, Кошуба — мой старший начальник — сказал так. Верно ведь?
Кошуба молчал.
— Товарищ Кошуба сказал, что ему не нравятся мои поступки. Я сказал: «Гостю все должно нравиться». Кошуба сказал: «Мне нравятся враги без голов».
И Санджар обвел круг долгим взглядом. В глазах его прыгали бешеные огоньки. Внезапно речь его стала
82
резкой, уверенной; он бросал слова, как камни на плиты двора.
— Пусть не скажет, что узбеки не уважают желаний лучших своих гостей, русских наших любимых руководителей и учителей. Желание гостя священно. Все, чего хочет гость, принадлежит ему.— Санджар обернулся и негромко приказал:
— Дехканбай, Нурали, сюда!
Два здоровенных парня притащили большой полосатый мешок из грубой шерсти и бросили его к ногам Санджара.
— Ну!— сказал богатырь.
Парни схватили мешок за уголки и встряхнули его. Глубокий вздох пронесся по кругу. Многие отшатнулись. Непонятные круглые предметы с глухим стуком запрыгали, как мячи по отполированным каменным плитам двора. Не все разобрали сразу, в чем дело...
К ногам Кошубы подкатились бритые, покрытые спекшейся кровью, круглые головы. На одной из них по необъяснимой случайности сохранилась зеленая в кровавых пятнах тюбетейка.
— Возьмите, вот мой дар...
Глухо звучал теперь хрипловатый голос Санджара. Наступило молчание. Тишина нарушалась лишь треском пламени факелов.
Молчание грозило затянуться. Санджар недоуменно пожал плечами. Он ждал, очевидно, рукоплесканий, приветствий.
Выручил комбриг. Он сказал внушительно:
— Отряд добровольцев товарища Санджара разгромил сегодня у кишлака Люглян банду, которая намеревалась напасть на правительственную экспедицию. Я пригласил товарищей поздравить доблестных джигитов.
Пожимая руку Санджару, комбриг брезгливо заметил вполголоса:
— А это уберите...
IV
Подобие лесенки из развороченных камней вело к старой потрескавшейся очень низкой дверке. Когда она с надсадным треском поддавалась под толчком руки, за ней разверзалась темным провалом сырая яма, из которой в лицо посетителю ударял едкий угар с примесью
83
запаха прогорклого масла, какой-то непередаваемой кислятины. Нужно было постоять немного, освоиться с темнотой, с затхлым воздухом, чтобы разглядеть, Наконец, почерневшее от дыма самоваров помещение с низким потолком, кое-как сложенным из жердей и истрепанных цыновок и поддерживаемым ветхими, грубо обтесанными бревнами. На глиняных возвышениях, покрытых разлезающимися кошмами, были беспорядочно разбросаны посеревшие от грязи одеяла. Пол в промежутках между возвышениями был даже сейчас, в жаркий день, мокрый и скользкий. По-видимому, он никогда не просыхал.
Встречали в этой чайхане не очень приветливо. Из всех углов и темных закоулков на посетителя устремлялись враждебные взгляды, слышались недвусмысленные ругательства. Кто-то скрипуче, надрывно кашлял, то и дело сплевывая...
Из-за самоваров прозвучал осипший голос:
— Чего надо?
Посетитель — немолодой, хорошо одетый горожанин — заметно вздрогнул и, слегка кашлянув, громко произнес:
— Салям алейкум! Как дети, как дом, как скотина почтеннейшего хозяина...
Не отвечая, из-за самовара выбрался скрюченный человек и заковылял на костыле к посетителю. С минуту он внимательно разглядывал его, потом, не удовлетворившись осмотром, еще резче повторил:
— Чего надо?
По-видимому, думая, что он попал не по адресу, гость слегка попятился назад, намереваясь выйти, но тут же спохватился и спросил вполголоса:
— Есть здесь чай?
— Нет, он остался на базаре.
— А где базар?
— В Гузаре.
Странный обмен бессмысленными фразами вполне удовлетворил хозяина грязной берлоги, и он, бросив коротко: «Заходите», заковылял через всю чайхану в дальний угол.
Посетитель шел за ним. По пути он успел заметить, что в чайниках и пиалах, стоявших прямо на паласах и кошмах, был отнюдь не чай, а мусалас, и что, судя по
84
резкому запаху, здесь из чилима, ходившего по рукам, курили не табак, а анашу. Воспаленные лица, блуждающие взгляды, пьяный бранчливый говор, выкрики, непристойная ругань,— все говорило о том, что это не чайхана, а шарабхана — питейный дом.
Такие притоны существовали во многих городах старой Бухары, где официально мусульманская религия запрещала пить вино под страхом суровых кар и даже смерти. Эмират до последних дней своего существования оставался одним из наиболее прочных оплотов исламского благочестия. С особым рвением здесь соблюдались все установления в области поддержания «чистоты нравов». В каждом городе и в каждом квартале имелся свой мухтасиб — блюститель нравственности, который ежедневно в часы молитвы шествовал в сопровождении прислужников, вооруженных длинными палками, по улицам и базарам и следил за тем, чтобы правоверные аккуратно совершали намаз. Если кто-либо по легкомыслию или небрежности забывал свои обязанности перед аллахом, он получал от мухтасиба суровое внушение. Попавшийся же вторично, а это был, чаще всего, приехавший на городской базар невежественный дехканин, подвергался унизительному наказанию — получал десять-двадцать ударов палкой по голым пяткам. Если же мухтасиб со своей свитой натыкался на пьяного или хотя бы подвыпившего горожанина, дело кончалось обычно позорными колодками или клоповником. Нет нужды говорить, что состоятельные люди легко избегали наказания. Достаточно было, как говорили в то время, «сделать беременной руку мухтасиба», то есть попросту дать ему солидную взятку, и он становился слеп и глух и не замечал даже крикливых компаний пьяных «чапанде» — представителей золотой молодежи. Люди же, не имевшие достатка, старались не попадаться на глаза блюстителю нравов и находили прибежище во всякого рода шарабханах, машрабханах, нашанханах, куда мухтасибы не заглядывали, так как содержатели притонов откупались от них регулярной и увесистой мздой. Обычно, помимо виноградного вина-мусаласа и водки, в шарабхане любитель мог найти и наркотики: кукнар — настой из маковых головок, китайский опиум, анашу и прочее. Впрочем, больше всего здесь было бузы — водки из рисовой сечки. Пили ее, как правило, в горячем виде из больших деревянных чашек.
85
В такую шарабхану и попал посетитель. Опустив голову, он поспешно, насколько это было возможно, пробирался через комнату, стараясь не натолкнуться на сидевших и лежавших прямо на глиняном полу в проходах между нарами людей. Вдруг один из них поднялся и, пошатываясь, преградил ему дорогу...
— А, бай из всех баев, и ты сюда пришел?— он хрипло расхохотался.
Можно было разглядеть в темноте, что это был оборванец с просвечивающим сквозь лохмотья телом, всклокоченной рыжей бородой, опухшим лицом и волосатой головой.
Посетитель, не поднимая головы, глухо проговорил:
— Э, убирайся, отойди, чего тебе надо?
— Ха, бай, покури со мной анаши, хорошая анаша,— оборванец дрожащими руками судорожно тыкал в рот вошедшему мундштук чилима. Видя, что посетитель резко отстраняется от него, пьянчужка заорал: —Смотрите, какой господин! Он брезгует! А? Раньше он не очень-то пренебрегал мной. Я нужен был. Я с ним...
Поток слов был прерван внушительным тумаком подскочившего хозяина. Оборванец повалился на возвышение, чилим полетел в сторону, угли и горящий табак посыпались на кошму. Завоняло паленой шерстью. Близ сидевшие повскакивали, начали тушить...
Воспользовавшись суматохой, хозяин потянул гостя к крошечной дверке. Пройдя по низкому, темному коридору, они через такую же дверь проникли в большую комнату. Убранство ее было полной противоположностью обстановке шарабханы. Гранатового цвета текинские ковры, шелковые одеяла вдоль стен, тончайшей резьбы алебастровые полочки в нишах, резные столики на низеньких ножках,— все свидетельствовало о любви хозяина к удобствам и роскоши.
При свете большой лампы можно было разглядеть и самого хозяина. Это был тот самый владелец шарабханы, который своим отталкивающим видом напугал посетителя. И здесь хозяин не стал привлекательнее. Но все же он держался несколько прямее и не так сильно хромал. Изменился и его внешний облик. Исчезли грязные лохмотья, с плеч падал, скрадывая горб, добротный суконный халат. По-видимому, проходя по темному переходу, хозяин успел сменить верхнюю одежду. Дер-
86
жался он отнюдь не подобострастно, а испытующий его взгляд из-под тяжелых надбровных дуг был так настойчив, что пришедший невольно отвернулся. За глаза хозяина шарабхапы называли «ишан Ползун», пытаясь одним словом охарактеризовать все его физические недостатки. Природа зло подшутила над ним: он был и горбат, и сухорук, и хром на обе ноги, не говоря о том, что лицо его было изуродовано параличом и напоминало неподвижную маску.
В комнате для гостей, куда ишан Ползун ввел посетителя, сидели и полулежали около десяти хорошо одетых людей. На всех были черные или темно-синие халаты и белые чалмы, все носили умеренной длины холеные бородки, благодаря чему на первый взгляд казались очень похожими друг на друга.
После короткого приветствия вошедший уселся на одеяло.
— Все собрались,— отрывисто проговорил ишан Ползун. Он занял почетное место и взял со столика лист мелко исписанной бумаги.— Приступим к делу... Почтеннейший мутавалли Уста Гияс всего несколько дней изволил прибыть из пределов Афганистана. Он имеет сообщить нечто важное.
Легкое движение возникло среди собравшихся, все головы повернулись в сторону посетителя. Не поднимая глаз и осторожно поглаживая свою мягкую бородку, Уста Гияс заговорил, как всегда, нежно и певуче:
— Поистине славны своим благочестием богобоязненные обитатели подножия священной гробницы благороднейшего из благородных ревнителей и воителей веры ислама. Не осквернены сады, улицы и площади прелестного города Мазар-и-Шарифа поступью неверных собак, ибо в связи с временным, достойным пролития рек слез, унижением светоча мусульманства священной Бухары, мудрые, источающие свет истины направили свои стопы к высокой гробнице и превратили сей скромный городок в блистательный чертог благолепия...
Речь текла размеренно и представляла собой образец самого изысканного красноречия. Но слушатели проявляли нетерпение. Когда Уста Гияс произносил цветистые славословия в честь аллаха и пророка его Мухаммеда, собравшиеся торопливо кивали головами, небрежно проводили ладонями по лицу и бормотали что-то под нос,
87
искоса поглядывая на говорившего, как бы понукая его переходить к существу дела.
А слова лились нескончаемым потоком, пышные и блестящие, но почти лишенные всякого содержания.
Наконец нетерпение гостей дошло до предела (а этого очевидно и добивался мутавалли). В михманхане стоял шум от покашливаний, вздохов и сдавленной воркотни. Неожиданно Уста Гияс прервал речь и попросил воды.
Пока доставали с полки чашку, пока бегали за водой, Уста Гияс не произнес ни слова. Сквозь приспущенные веки он наблюдал за собравшимися, и презрительная усмешка бродила в уголках его губ.
Только напившись и облегченно вздохнув, он снова заговорил, но уже совсем другим тоном:
— Во время посещения святых мест мы имели удовольствие встретиться с их превосходительством, представителем могущественного доброжелателя нашего — Великобритании. Они изволили проявить внимание и интерес к делам нашим и воинам ислама. После других и приятных бесед их превосходительство выразили пожелание дальнейших успехов и удач.
Уста Гияс замолк. Белые тонкие пальцы его рук медленно перебирали зерна четок. Вздох разочарования прошелестел по комнате. Никто не нарушал молчания. Вдруг Уста Гияс, как бы невзначай, бросил:
— Их превосходительство изволили сообщить, что высшее мусульманское духовенство Пешавера, Пенджаба и Карачи соблаговолили принять участие в делах своих братьев — наших мусульман и направили нам, на укрепление дел благочестия в святых храмах и мазарах священной Бухары, десять тысяч фунтов стерлингов в золоте и бумажках... дабы денно и нощно имамы наши и муфтии возносили моления к престолу всевышнего о гибели и низвержении большевистской скверны...— Как будто между прочим он добавил: — А также через Дарью переправлен кое-какой груз в ста двадцати тюках и ящиках, с пожеланием, чтобы друзьям он принес пользу, а врагам вред.
После того как радостное оживление, вызванное сообщением Уста Гияса, улеглось, заговорил ишан Ползун:
— Много народа, всевозможных советских начальников едет через Байсун в Дюшамбе. Хотят там утвердить вместо
88
благочестивого эмирского правления власть большевиков. Везут много денег. Серебро и новые белые червонцы... Много мануфактуры и другие товары. Если привезут туда товары, народ скажет — Советы хороши, заботятся о народе.
Вошедший последним заметил:
— Али-Мардан-бек может, наверно, ответить. Его люди рыскают по дорогам...
Ползун резко и недовольно перебил говорившего:
— Али Мардан? Вы хотите сказать — Кудрат-бий парваначи? Прошу помнить, что господин Али-Мардан удостоен самим пресветлым эмиром назначения командующим всей бухарской мусульманской армией в высоком и достойном звании парваначи.
— Понятно, понятно, я забыл.— В тоне говорившего звучали пренебрежительные нотки.— Пусть господин парваначи ударит на них и...
— Но я хочу сказать, что караван сопровождают красные кавалеристы,— недовольно хмурясь, возразил Али-Мардан.
— Все! Кончено,— перебил ишан Ползун, и его лицо искривилось в усмешке.— Пообещайте вашим молодцам побольше добычи, деньги, женщин,— и никто до Дюшамбе не доберется. Дальше: что делать с предателем и вероотступником? Именем этого большевика не хочу осквернять рот.
Тот же посетитель снова заговорил:
— Неужели господин Кудрат-бий не в состоянии прекратить в какой-нибудь стычке жизнь вонючего батрака Санджара?
— В его отряде,— поспешно возразил Али-Мардан,— сто одиннадцать здоровенных, сильных, как бугаи, босяков, ненавидящих богатых. Они заражены ядом большевизма, и у всех есть винтовки, а патронов некуда девать. Только вчера они убили восемнадцать моих лучших воинов в бою под Люгляном.
— Купите его,— сказал ишан Ползун,— а если не пойдет на это, то... Ну, не обязательно нужна битва, сражение. О! Вот мысль. Устроить пир. Пир без улака не бывает. Улак без Санджара не обойдется. А там, знаете, в смятении, в суматохе... Отчаянная голова, отчаянная. Жаль, что он не наш. Как так? Столько у нас светочей ислама, знаменитых на всем Востоке ученых, глубочай-
89
ших знатоков священного писания, а одного пастуха мусульманином сделать не можем.
— Хорошо,— заметил Али-Мардан,— только пусть... вот вы, бек, устройте пир у себя в Тенги-Хараме. Вы любитель улака.— И он повернулся всем своим грузным телом к последнему гостю.
— Да, можно устроить,— протянул тот, кого назвали беком.
— Вы сами... понимаете, сами!— крикнул Ползун.
Бек сжался и низко опустил голову.
— Еще что?— Ползун обвел всех взглядом.— Нет ничего... Так я прочитаю письмо из Ташкента. Ну, тут вначале разные приветствия и вежливости. Я о деле. Так, так... «организация неудачная»... Нет, не то. Вот-вот, слушайте:
«Мы — люди новой жизни, мы против тирании эмира и против религиозных мракобесов. Вы это, конечно, знаете. Достоуважаемейший Бехбуди нас учил: «Идите с простым народом, пока он вас слушается». Вы это забыли. Узду сняли и думали, что одного недоуздка достаточно. Вот теперь и проливаете слезы обиды. Народ ускакал на скакунах ярости далеко и опередил вас, и сбросил вас с коней. Открытой борьбой против советов вы ничего не сделаете. Теперь есть только один путь. Очень умные и достойные люди так и сделали. Сделайте так и вы. Откройте объятия большевикам, но делайте и поступайте во всех делах по совести. Воинам ислама тем самым поможете больше, чем если будете с ними, в их стане. Так мы счастливо принятыми мерами укоротим руки наших врагов, и усилия этих злоумышленников-большевиков обратятся на их же голову...»
Сделав паузу, горбун прибавил:
— Подписи очень почтенных людей. Понятно?
Собравшиеся закивали головами. Али-Мардан нервно теребил бороду. Да и остальные гости были несколько возбуждены: во всем собрании не замечалось обычной чинности и благолепия, были отброшены вежливые эпитеты и обращения, принятые на совещаниях высокопоставленных лиц.
Последние годы наложили суровый отпечаток на всех собравшихся. Али-Мардан, уже несколько лет под именем Кудрат-бия руководивший крупной шайкой басмаческих головорезов, потерял весь блеск и вылощенность
90
придворного; он очень постарел, огрубел во время походов и вечных скачѳк по степям и горам, преследуемый по пятам отрядами красноармейцев. Кто бы сказал, посмотрев на этого, неопрятного на вид, степняка от которого на версту несло лошадиным потом и чесноком, что он еще не так давно блистал в светском обществе Лондона и Берлина в качестве восточного князя — неофициального представителя сказочной Бухары? А что стало с неукротимым Саид Ахмадом, недавним владетелем тысячных стад, богатейшим скотоводом, дикий произвол которого в степях Карнапчуля вызывал недовольство даже среди прочих феодалов Бухары? Он стал робок, его трусливая натура проглядывала в каждом слове и жесте.
Были здесь и другие, еще недавно могущественные властители душ и имущества дехкан — крупные землевладельцы, обладатели несметных богатств, ныне лишившиеся почти всего и потерявшие почву под ногами. Их уже страшило всякое действие, и многие из них рады были уцепиться за малейший повод, чтобы уклониться от открытой, активной борьбы против советской власти и забиться в щели, сохранить любой ценой свою шкуру. Таким поводом, и при том очень благоприятным, было прочитанное письмо.
Но ишана Ползуна трудно было провести. Важно погладив бородку, он произнес:
— Для начала каждый внесет на пользу дела по мере своих сил и щедрости. Кто и сколько?
Но так, как никто не торопился отвечать, а на лицах гостей появилось весьма постное выражение, Ползун угрожающе протянул: «Помните обещание!» и при этом закатал левый рукав халата. На белой коже руки можно было прочитать вытатуированную синеватую надпись, сделанную арабскими письменами:
«Нарушитель обета прогневит его!»1
Все гости, словно загипнотизированные, также засучили рукава; у всех оказалась такая же надпись. Проделав это, каждый со вздохом поспешил заявить:
— Пятьсот!
— Четыреста!
— Тысячу !
_____________________
1 То есть бога.
91
Поглядывая исподлобья на своих гостей, Ползун разгладил на колене лист бумаги и начал записывать фамилии и цифры.
Против некоторых он делал приписки. И тогда каждый вытягивал шею и старался рассмотреть, что там записано. Переписав всех присутствовавших, ишан Ползун объявил, в чем дело:
— Деньги — деньгами, но Саид-Ахмад пригонит, кроме того, пятьсот баранов, Нурулла-бай из Гиссара — четыреста, Мингбаши-казак даст двадцать коней. Нужно, чтобы Гияс-ходжа с вакуфа отправил воинству парваначи сто арб сухого клевера, Чунтак тоже сто.
Он еще долго перечислял, что нужно поставить натурой.
— А зачем,— вдруг захрипел Саид-Ахмад,— что я один здесь, что ли? Почему я должен платить? Пусть платит Нурулла-бай. Он богат. Он сумел приладиться и к нашим, и к вашим, и мусульманину друг, и цыгану брат.
— Что? — завопил Нурулла-бай.— Ах ты, бездельник! А ну-ка скажи, где ты прячешь свои мешки с золотом, а? А ну-ка раскошеливайся.
— Видел ты мое золото, старый вор?
— У меня никаких лошадей нет,— кричал на другом конце михманханы Мингбаши-казак,— какие там кони! У меня нет ничего, кроме беременной кобылы. У Чунтака в долине Каратага целые косяки гиссарских коней гривами трясут, пусть поносят на своих гладких спинах воинов ислама!
— Да что ты, бузой что ли налился? Откуда у меня кони? Враки!
— Эй, Ползун, запиши ему покрепче, он все врет.
— Сам врешь, сын проститутки...
— Ты сам...
Шум поднялся, как на кишлачном базаре...
Долго еще переругивались бы почтенные гости, но Ползун грубо прикрикнул на них, и, такова была власть этого человека, все умолкли.
Только Чунтак шипел и плевался, отчаянно размахивая руками: «Коней ему захотелось, убийца, разбойник!»
— Я не понимаю, из-за чего они расстраиваются, выходя из спокойствия и благодушия,— елейно протянул Уста Гияс.— Или мусульмане окончательно оставили веру отцов, или вы стали так беспомощны, что потеряли
92
всякую власть над своими кишлаками... Поезжайте к себе, прикажите рабам, и все, что нужно, вам приведут и принесут. И это будет даже лучше. Не вы баи и помещики, а сам народ, простой народ будет помогать армии ислама. И пусть посмеет потом кто-нибудь сказать, что дехкане, черный народ, друг большевиков и Красной Армии. Но гости снова начали возражать. Спор затянулся.
— Нам известно,— после долгих колебаний, нехотя проговорил Ползун, и лицо его перекосилось,— до нас дошло, господин парваначи...
Он запнулся на полуслове, потому что Кудрат-бий, ничего не говоря, мрачно посмотрел на него. Но Ползун был не из тех, кого можно было запугать так легко. Как ни в чем не бывало, он ровным голосом продолжал:
— Мы хотели бы только напомнить вам, господин парваначи, что по решению наших высоких друзей в Ташкенте и вы... и вам следовало бы...
— Что-то вы потеряли дар слова, достоуважаемый...— проговорил презрительно Кудрат-бий.— Что же вы ходите вокруг да около? Я знаю, о чем вы хотите сказать... Но я уже предупреждал, чтобы никто не касался дела о Руднике Сияния. Понятно? Мы сражаемся своими руками, мы день и ночь не слезаем с седла, мы воюем, и оставьте наше нищенское имущество в покое...
Сидевший в углу пожилой бритый человек в зеленой бархатной тюбетейке и в пиджачной паре, до сих пор внимательно и молча следивший за всеми разговорами, счел удобным вмешаться:
— Господин парваначи,— сказал он вкрадчивым, но не допускавшим возражений тоном,— наша организация, взгляды которой, насколько нам известно, разделяете и вы, решила, что все фонды в бумажной валюте, звонкой монете, различных ценностях, как, например, драгоценные камни и прочее... Итак, все фонды, принадлежащие эмиру бухарскому Саид-Алим-Хану и находящиеся на территории Бухары, переходят в полное и бесконтрольное распоряжение комитета миллииттихад. Поэтому, не будете ли вы любезны...— Он говорил с явным ташкентским акцентом и по манерам выглядел то ли купцом второй гильдии с Воскресенского базара, то ли учителем-татарином из русско-туземной школы. Он вежливо, но твердо продолжал:— Не будете ли любезны сообщить, где находятся...
93
— Ни копейки,— буркнул Кудрат-бий.
— Но можно ли так говорить, когда Ташкент решил...
— Ни копейки...
— Но мы просим...
— Я сказал.
— Мы не торгуемся, — многозначительно проговорил миллииттихадовец,— мы... э... так сказать приказываем...
Воцарилось неловкое молчание. Все присутствующие смущенно разглядывали — кто носки своих ичигов и сапог, кто узоры на паласах и коврах. Молчал и Кудрат-бий, но не от того, что его смутил повелительный голос бритого ташкентца, а от гнева, душившего его. С трудом преодолев ярость, он прохрипел:
— Приказывай вот им, торгашам и лежебокам, таким, как ты и твои хозяева, а я плюю им в бороды.
— Но, наконец...— лицо бритого стало принимать бурачный цвет.
— Но, но...— свирепо закричал Кудрат-бий.— Я сказал... Ни копейки. Что ты хлопочешь ради каких-то там идей о едином великом Туркестане? Что, вот они тоже полны забот о благоденствии народа и процветании родины? Глупости! Каждый из вас хочет жирного кусочка... Да, да. И эмиру нужен кусочек, и твоему хозяину, паршивому вдохновителю всех этих джадидов да младобухаров Мунавару-Кары нужен кусочек, и бухарским заправилам — кое-каким назирам нужен кусочек сала. Осмелься сказать, что я не правду говорю! Тоже мне нашлись бескорыстные, тоже мне объявились отцы народа... народа... Да я со всех слюнтяев джадидов с живых приказал бы кожу содрать... Не мутите народ! Без вас народ жил в божьем страхе, в повиновении. Это вы, джадиды, посеяли семена сомнения... Вы — причина всех несчастий, обрушившихся на священные могилы эмиров.
— Зачем же так,— попробовал протестовать бритый, но голос его звучал слабо и тихо.— Но вы... ваши высокие побуждения... родина... священная война против большевиков... интересы народа...
Решительным жестом остановив невнятный лепет бритого, Кудрат-бий с необычной для него живостью и проворством посучил в воздухе пальцами:
— И Кудрат-бию, командующему благочестивым войском правоверного ислама, нужен жирненький кусочек. И я вам скажу: не залезайте в наш карман, не суй-
94
те туда нос и не пытайтесь считать там денежки... А иначе... У нас есть еще джигиты, и они могут по единому нашему слову... Они нечаянно по дороге в Карши в темноте могут кое-кого из вас принять за советских людей! И...
Жест его, весьма красноречивый, поняли все присутствующие...
— Ну, ну, — успокоительно проворчал Ползун,— не ссорьтесь, уважаемые, у нас и нет сейчас особой нужды в средствах. Наши друзья англичане прислали нам на первое время достаточно...— Он повернулся лицом к гостю, которого все называли беком. Вам, новому человеку у нас тоже придется наложить печать. Таков здесь обычай...
Бек глухо пробормотал что-то насчет: «Воля господина священна» и прошел за ползуном в следующую комнату. Гости в полном молчании занялись угощением, принесенным слугами.
Уже после ужина появился бек. Он болезненно морщился, осторожно придерживая левую руку. Ишан Ползун несколько раз иронически поглядел на него и вдруг сказал:
— Значит, улак...
— Да.
— Надеемся, что дни этого проклятого смутьяна Санджара божьей милостью сократятся.
— Оомин!— протянул бек.
Его поддержал встрепенувшийся Али-Мардан и кое-кто из гостей.
— Только не вздумайте подсылать к нему кого-нибудь, чтобы э...э... он как-нибудь явно...э... грубо... Знаете, кровь вызовет возмущение. Он у черного народа сумел снискать любовь...— снова заговорил Ползун.— Плохому мусульманину бог сам пошлет жалкую кончину. Сам пошлет, понимаете?
V
Почтовая станция Тенги-Харам расположена на старинном Термезском тракте, соединяющим Самарканд через Гузар — Байсун — Ширабад с Термезом и через Дербенд — Байсун — Миршаде — Денау с Дюшамбе.
В котловине, напоминающей гигантский амфитеатр, на небольшом плоском плато, окруженном глубокими оврагами, высится здание станции, похожее на укрепленный форт. Высокие толстые стены с многочисленными узкими бойницами, четыре мощных зубчатых башни по
95
углам, массивные ворота, которые может пробить только пушка. Царская администрация, организуя в конце прошлого столетия перевоз почты на перекладных от Самарканда до пограничного Термеза, приняла основательные меры против всяких случайностей. Колонизаторы справедливо опасались местного населения и не доверяли бухарским чиновникам.
Такие укрепленные почтовые станции железной и несокрушимой линией внедрялись в Бухарский эмират. В случае малейших волнений каждый блокгауз превращался в опорный пункт для военных операций.
Сейчас, после революции, блокгаузы пригодились для охраны «оказий» от налетов басмачей.
Помещение самой станции было слишком тесным, и большинство участников экспедиции расположилось под открытым звездным небом, но каждый даже в темноте ощущал громаду мощного форта. Все спали спокойно, так как знали, что, в случае необходимости, ворота блокгауза гостеприимно распахнутся перед ними. Арбы составлены были довольно тесно, и каждый выбрал место по своему вкусу, стараясь устроиться подальше от копыт лошадей. Спали все как убитые. А утром, когда готовились к выступлению, произошел случай, показавший, что за каждым движением каравана, за каждым шагом экспедиции из-за камней, из зарослей, с перевалов вершин, оврагов следят без устали внимательные злые глаза...
Исчезли Медведь, Саодат и Николай Николаевич. Когда весь лагерь уже гудел, как встревоженный улей, когда во все стороны двинулись на поиски пропавших разведчики, с западной стороны из-за утеса показался Медведь. Он шел, сгибаясь под тяжелым фотоаппаратом с огромной, покрытой медными блестящими пластинками, треногой. За ним вытянулась небольшая, но очень странная процессия. Два горца в красных с позументами халатах, понурившись, шагали по тропинке. Руки они держали за спиной. Вслед им двигались Саодат и Николай Николаевич. У обоих был сконфуженный вид. Саодат растерянно теребила большой букет тюльпанов. Мирный, добродушный доктор Николай Николаевич тащил на плече две винтовки.
— Ничего, ничего,— пробормотал Николай Николаевич, когда странная группа оказалась в кольце любопытных.— Ничего. Это он...
96
И Николай Николаевич усталым жестом дал понять, что нужно спрашивать обо всем Медведя...
— А ну-ка, позвольте,— загудел голос Кошубы. Раздвигая довольно нелюбезно столпившихся, он протолкался вперед.— Так, так... Как ваше достопочтенное здоровье, ваша милость Мунши, а?— обратился он к одному из горцев.— Давненько не встречались. А это что за фигура? Не знаю.
Пленники переминались с ноги на ногу.
— А как здоровье и благоденствие моего друга Кудрат-бия?
— Товарищ Кошуба,— прервал командира Николай Николаевич,— надо их развязать. Они — обманутые крестьяне.
— Это они-то крестьяне? Да это ведь помощник Кудрат-бия, Мунши. В прошлом известный конокрад.
Мунши внимательно прислушивался к разговору. Черные борода и усы его зашевелились. Глухо, надтреснутым голосом, он произнес:
— Я не пастух, я не дехкан... Я воин правоверного эмира. Я не из черной кости.
Говорил он презрительно и злобно мерил любопытных глазами.
Случай с поимкой двух басмачей был настолько поразителен, что все с неослабным вниманием прослушали рассказ Медведя.
— Пошел я с аппаратом поутру в горы поснимать...— начал он.— Аппарат в руку, треногу на плечо, кассеты — и через мостик. Вижу, за речкой спит кто-то в траве. Смотрю — наш Николай Николаевич. Я еще подошел и говорю: «Нехорошо, кругом неспокойно, а вы тут один ночью...» А он: «Чего вы меня пугаете»,— и смеется. Я пошел на холмы. Ходил, все место выбирал для съемки. Там на горе такая лощинка есть, вот я и взялся снимать. Крестьянин пахал еще на волах допотопным омачом. Поднялся я на холм, ах, черт, думаю, вот история. Наши-то ходят по склону, тюльпаны рвут — Саодат да Николай Николаевич. Только вот беда... Они справа от меня за камнями, а слева, пониже, двое с винтовками ползут в траве. Мне сверху видно, а Николай Николаевич и Саодат не видят. Те ползут быстро. Проползут немного и опять залягут. Что делать? Крикнуть — застрелят девушку или Николая Николаевича. А они ходят, болтают, ничего не видят, не
97
слышат. Решил поставить аппарат и бежать вниз. Ставлю я треногу, а аппарат был к ней привинчен. Тишина. Вдали снеговые горы. Арча смолой пахнет. На небе облака. Майская картина, а немного сбоку — два разбойника d чалмах, халатах. Кадрик... Тут бы и щелкнуть. И вдруг басмачи поднимаются и идут прямо на меня во весь рост. Ног под собой я не чуял, стоял и смотрел, как смерть подходит. Только произошло непонятное. Винтовки они бросили, руки кверху подняли и кричат «аман». Не сразу я понял, что случилось, а когда понял, не поверил себе... Сдались они оба басмача. С минуту так мы и стояли: я у аппарата, а они пониже в овражке, по которому ползли. Как быть думаю? Потом крикнул: «Эй, ты, бородатый, иди сюда... один только, один». Он подошел, глаза испуганы, борода дрожит, косится на фотоаппарат, бормочет: «Пулемет! пулемет!» Его же поясом я ему руки назад затянул. А потом позвал другого... И они позволили себя связать, как бараны.
...Басмачей увели под конвоем в блокгауз.
Вечером Кошуба на все расспросы ответил:
— Разведчики Кудрат-бия. Охотились за одиночками... растяпами.— Раскурив трубку, он добавил: — Вот письмецо Ниязбек привез. Не хотел я его разглашать, боялся взволновать нашу милую Саодат. А теперь придется...
Письмо было небольшое. По мере его чтения сквозь смуглую покрытую тончайшим пушком кожу Саодат начала проступать бледность, а на глазах заблестели слезы.
В письме говорилось:
«Его высокопоставленности господину полковнику большевиков урусов.
Бисмилля! Пусть бог вразумит неверных, в безумной беспечности своей нагло осмелившихся совершить, без соизволения на то, путь по владениям света очей моих, любимого сына моего дербентского бия Ассадуллы, да еще везущих в арбе позора беспутную блудницу, торгующую своим женским естеством и богохульно открывающую перед мужчинами бесстыдное лицо свое и таскающую подол свой по улицам и дорогам. Повелеваю сорвать с поганого тела одежды: свяжите по рукам и ногам проститутку и бросьте ее на пути вашем. Ее нагую привяжут к хвосту
93
паршивой клячи, которая будет волочить ее по камням> пока она не издохнет.
Командующий силами мусульман Кудрат-бий.»
VI
Зеленого шелка шуршащий халат облегал атлетическую фигуру парня. Приложив руку к сердцу, он проговорил:
— Пожалуйте, глубокоуважаемые, усаживайтесь, вы почетные наши гости.
Широким жестом он пригласил гостей усаживаться на огромный красно-желтый палас, постеленный на траву.
Сегодня участники экспедиции во главе с Кошубой и Санджаром приглашены местным землевладельцем, известным другом советской власти и проводником экспедиции Фатхулла Ниязбеком присутствовать на спортивном празднике — улаке.
На обширной Тенги-Харамской долине ездили взад и вперед сотни джигитов в ярких праздничных халатах. Джигиты перекрикивались, обменивались шутками и язвительными замечаниями. Над толпой всадников облаком поднималась пыль. В воздухе стоял терпкий запах конского пота.
Провели жеребца. На нем был подлинно праздничный убор. Чепрак из прочного шелка расшит золотом. Подседельник сделан из шкуры волка. Седло имело золоченую луку, на нем лежала атласная подушка с изумрудными кистями. Стремена, многочисленные бляхи на подхвостнике и нагруднике были тоже золоченые. Все это сияло на солнце и звенело на каждом шагу.
— Конь Ниязбека, хозяина праздника, — сказал кто-то во всеуслышание.
Внезапно, словно по сигналу, шум стих, движение прекратилось. На великолепном коне ахалтекинской породы, от которой, как гласит предание, некогда произошли арабские скакуны, вырвался вперед юноша в зеленом халате. В поднятой его руке блеснула украшенная серебром рукоятка камчи. Он требовал внимания.
— Слушайте! Слушайте!— провозгласил он.— Сегодня тенгихарамцы увидят незабываемое зрелище. Джигиты покажут свое удальство, ловкость, силу, отвагу! Четыре козла разыгрываются. О юноши! О зрелые мужи! Четыре
99
козла от щедрот почтеннейших и уважаемых. Сюда! Сюда! Пусть каждый дерзнет! Двадцать призов! Халаты! Сапоги! Шелк! Седла! Шелковый платок для возлюбленной! О! Скачите, хватайте!
Улак, организованный по случаю обрезания полуторагодовалого сына жителя орлиного гнезда Фатхулла Ниязбека, начался.
Всадники выстроились огромным полукругом. Лошади нетерпеливо рвались вперед, едва сдерживаемые всадниками.
Глашатай подскакал к огромному валуну, на котором восседали судьи — вся знать окрестных кишлаков, и крикнул:
— О уважаемые, народ требует козла. Один из судей спросил:
— Зачем, юноша, тебе козел? Джигит снова закричал:
— Сварить бешбармак!
— Получай же.
Два парня перекинули через седельную луку двухпудовую козлиную тушу. Всадник с гиком ринулся вперед. Его появление было встречено приветственными возгласами. Весь полукруг всадников заколыхался и напрягся, словно лук с натянутой до предела тетивой. Юноша в зеленом халате два раза проскакал по площади вперед и назад. Глаза всадников горели, раздавались гортанные возгласы: «Скорее! Ну же!» Наконец юноша выехал на середину площади, осадил коня на всем скаку и бросил козла на землю...
И тут началось что-то невообразимое. Всадники ринулись к центру площади, где на блеклозеленой траве чернела мохнатая туша. Единодушный вопль вырвался из тысячи грудей, когда в стремительном напоре столкнулись кони, люди. Что там происходило? Все повскакали с мест, стараясь разобраться в этом месиве лошадиных и человеческих тел, взметнувшихся столбах пыли... По правилам игры нужно, не слезая с лошади, поднять козла, втащить его на седло и, вырвавшись из толпы, проскакать три круга. Минуты шли, борьба за тушу становилась все ожесточеннее. Всадники напирали друг на друга, нахлестывая коней камчами, пытаясь протиснуться к центру. Слышались вопли «Хватай!», заглушаемые неистовым ржанием лошадей.
100
Вдруг все закричали: «Санджар! Молодец Санджар!» По степи мчался во весь опор, пригнувшись к шее коня, всадник. Козел мотался под брюхом лошади. Камчу всадник держал в зубах. Он успел подтянуть козла к седлу и прижать его одной ногой.
Санджар сделал круг. За ним, на большом расстоянии, с гиком, свистом мчались остальные участники улака. Второй круг! Конь Санджара летит вперед. Зашли на третий круг. Победа близка! Приближение всадника вызвало в рядах дробь аплодисментов. И вдруг рев голосов потряс горячий воздух. Санджара настигал всадник в белой чалме. Полы его халата развевались, рыжеватая борода смешалась с гривой коня.
— Да это сам Фатхулла Ниязбек!— закричал кто-то.
— Отец! Хозяин праздника!
— Ого, Санджар будет драться с царем всех джигитов!
Зрители замерли. И вот, когда до конца оставалось не больше четверти круга, между Санджаром и Ниязбеком на полном карьере завязалась схватка. Борьба шла не на шутку. С минуту исход был неясен. И вдруг лошадь Санджара шарахнулась в сторону. Всадник, вцепившись в рукав халата противника, чудом удержался на коне. Еще секунда — и шелк расползся по швам. Стремясь сохранить равновесие, Санджар выпустил козла. На одну секунду перед его глазами мелькнула обнажившаяся рука Ниязбека с вытатуированными арабскими письменами. Только блестящее искусство езды спасло Санджара от позора падения на землю и от верной гибели, ибо сзади надвигалась, как лавина, толпа разгоряченных всадников, которые, конечно, не сумели бы остановить коней и затоптали бы лежащего...
Ни на секунду не сдерживая коня, Ниязбек ухватился за тушу и вырвался вперед.
— Молодец, Фатхулла-бай, богатырь Фатхулла! Покажи старинное искусство улака,— кричали в толпе.
Конь был хорош, всадник держался в седле безукоризненно. Казалось, никто не догонит Ниязбека. Но сегодняшние соревнования были полны неожиданностей. Снова из толпы преследователей выскочил всадник. Он был мал ростом, скакал на невзрачной, но крепкой лошаденке.
Появление соперника в тот момент, когда победа была близка и Ниязбек мчался в предпоследнем круге, оставив
101
далеко позади себя всех участников состязания, казалось всем излишним и оскорбительным.
— Кто это, кто это?— спрашивали друг друга бородатые толстяки в роскошных ярких халатах и белых чалмах. Их беспокоила судьба сотен рублей, поставленных в заклад.
Со страшной быстротой преследующий настигал ничего не подозревавшего, упоенного победой Ниязбека. Всадники сшиблись в облаке пыли.
— Кто? Кто это?— шумели гости.— Откуда он взялся?
Но кто бы он ни был, когда после ожесточенной борьбы, тянувшейся на протяжении трех кругов, джигит швырнул козла перед камнем, на котором сидели судьи, толпа единодушным воплем приветствовала победителя.
— Тише! Порядок!— закричал громовым голосом глашатай.
И когда порядок водворился, он объявил:
— К вам обращаюсь, участники копкари! Первого козла взял наш гость Джалалов. За первого козла достойно боролись Санджар, хозяин праздника Ниязбек и молодой гость из Ташкента — Джалалов. Молодость победила!
Соревнования продолжались. Джалалов важно сидел среди почетных стариков в пожалованном ему в виде приза новом халате. Его чествовали как победителя.
Вечером, когда у костров участники игры насыщались бешбармаком из затасканного и истерзанного козлиного мяса, Николай Николаевич спросил Джалалова, что побудило его оспаривать победу у Санджара и Ниязбека. Покраснев, как девушка, юноша ответил:
— Санджар и Ниязбек посмеялись надо мной, когда я просился на улак. Они говорили мне: «Куда? Твой удел сосать грудь матери. Да и силенок не хватит...» Теперь они знают, что мой удел быть воином.
В это время подошел Санджар. Лицо его было спокойно, только маленькая жилка дрожала на щеке. Он остановился около Кошубы и, быстро оглянувшись по сторонам протянул ему подпруги, которые держал в руках.
— Посмотри, товарищ начальник!
— Черт!— вырвалось у командира.
— Вот, только я и хотел сказать... Обе подпруги были подрезаны.
Но поговорить толком не удалось. Кто-то осторожно Тронул Кошубу за рукав гимнастерки, и он, резко повер-
102
нувшись, очутился лицом к лицу с невысокой старушкой. Как и большинство степнячек, она не носила паранджи и чачвана и только слегка прикрывала лицо полой халата, накинутого на голову. Лицо старушки было заплакано, губы жалобно вздрагивали.
— Что тебе, бабушка?— спросил Кошуба.
— Господин! Ой, господин, заступись за нас, позволь мне сказать.
— Да говори же!
— Ой, большой господин, скажи, кто мне отдаст деньги за козла? Ой, помоги мне! Вы, большевики, справедливы к народу, вы помогаете вдовам и сиротам!
— Какого козла?— недоумевал командир.
— Ой, моего козла, моего козлика... Утром пришли, забрали моего козлика, зарезали и отвезли на улак... И сейчас играли с ним.
— Купили?
— Нет, говорят, ты старая, и тебе деньги все равно не понадобятся, а я говорю, что у меня дети... а они... Помоги, заступись!
— Ладно, понятно... А других козлов у кого взяли?
— Одного козла, что с белыми отметинами, отняли у такой же несчастной вдовы, как и я, а другого взяли у Тахтасына. Ой, господин, кто мне отдаст деньги за козла? Заставьте их заплатить, вы большевики, все можете.
— Сейчас, сейчас. Вот идет сам хозяин. Его спросим. Старушка испуганно зашептала:
— Ему только не говорите... Не говорите, что я жаловалась. Плохо мне будет...
Она сделала порывистое движение, чтобы уйти.
— Постой-ка, бабушка... И скажем ему сейчас, и плохо не будет.
Лицо подошедшего Ниязбека сияло самодовольством. Он снисходительно взглянул на старуху и, потрепав ее по плечу, проговорил:
— Что, старая, любопытно посмотреть на командира Красной Армии, а? Смотри, смотри. Большой командир! Очень большой.
Почувствовав прикосновение хозяйской руки на плече, старушка сжалась в комок. Лицо ее подергивалось, суковатая палка запрыгала в слабых руках.
— Ну что ж, насмотрелась? Иди, иди старая, у нас тут дела с другом нашим, командиром... Не мешай...
103
И он улыбнулся, показав ряд белых и крепких зубов. Ласковость Ниязбека, очевидно, перепугала вдову больше, чем резкий окрик, и она метнулась в сторону.
— Стой, бабушка,— сказал Кошуба,— не спеши.— Обернувшись к Ниязбеку, он продолжал: — Дорогой друг, у вас есть с собой немного денег?
— Как же, как же,— с полной готовностью Ниязбек быстро размотал поясной платок и извлек из него увесистый кошелек,— всегда готовы служить другу нашему...
— Вот что, сколько стоит у вас в Тенги-Харамеодин обыкновенный козел?
— Старый или молодой?— недоумевающе спросил Ниязбек.
— Ну, так... Среднего возраста.
— Да, ну сколько бы он мог стоить?— вслух начал соображать помещик.
Когда он назвал цифру, Кошуба спокойно заметил:
— Пожалуйста, отсчитайте.
Тот повиновался.
— А теперь вручите эту сумму старушке.
Только на секунду задержалась рука с деньгами в воздухе, и лицо Ниязбека как-то покривилось. Но тотчас он снова заулыбался. Сделав два шага к старушке, он взял ее руку, вложил деньги. Затем подтолкнул ее и сказал:
— Иди, иди, матушка. Пусть твой козлик тебе приснится...
Старушка было засеменила прочь, но Кошуба остановил ее:
— Матушка! В наше время, советское время, никто не смеет обижать вдов и сирот. Никто. Эпоха притеснения ушла навсегда. А вас, уважаемый,— повернулся он к Ниязбеку,— прошу: проследите и прикажите, чтобы и другой вдове и Тахтасыну заплатили. И потом прошу вас, очень прошу, чтобы я больше не слышал таких жалоб...
Ниязбек иронически улыбнулся.
— За что им платить? Они и так мне должны столько, что и на том свете не рассчитаются.
— Я не кончил... Я прошу вас учесть, что если с этими людьми случится хоть малейшая неприятность, малейшая обида... Словом, вы примете, дорогой мой, меры, чтобы они жили совершенно спокойно... без малейших огорчений... Договорились?
104
Голос Кошубы звучал жестко и требовательно. Ниязбек подобострастно прижал руку к сердцу и улыбка стала у него совсем сладенькая. Он сказал:
— Да будет так...— и ушел величественным шагом вниз по тропинке, спеша догнать группу чернобородых чалмоносцев.
— Хорошо бы разобраться теперь с подпругами,— сказал Джалалов,— расследовать эту странную историю.
— Тут нечего расследовать,— сухо сказал Николай Николаевич,— и так все ясно.
Все удивленно посмотрели на него. Он полулежал на зеленом склоне холма и лениво, со скучающим выражением лица жевал травинку. Не торопясь, доктор заговорил снова:
— Это сделал Ниязбек... Да, да,— продолжал он, когда раздались недоверчивые возгласы,— он, и больше никто. Кто задумал пригласить нас в гости в свою вотчину? Ниязбек. Кто упрашивал, уговаривал, уламывал? Ниязбек. Кто затеял этот самый улак? Кто знал, что наш друг Санджар полезет, извините меня, в самую свалку? Ниязбек. Где стояли лошади перед состязанием и кто их седлал? В конюшне Ниязбека и конюхи Ниязбека. Только вот что для меня неясно — зачем Ниязбеку нужно вредить Санджару?
Тут вмешался Санджар. Резко и возмущенно он заявил:
— Не верю. Закон гостеприимства сильнее смерти у нас, у узбеков. Даже заклятому врагу не угрожает ничего, решительно ничего, если он в гостях. Обидеть гостя — святотатство. Нет, Ниязбек тут не при чем...
Заложив руки за пояс, Кошуба посвистал.
— Загадочная история... А впрочем, поехали...


Часть 3

I
Майское солнце жгло совсем не по-весеннему. Снеговой хребет сиял нестерпимо ярко. В глубине далеких ущелий дымился туман.
На белой пыльной ленте дороги, спускающейся прямо к разбросанному в лощине лагерю экспедиции, показался всадник верхом на верблюде. Голова путника была повязана красной чалмой и издали казалась ритмично покачивающимся тюльпаном.
Человек в чалме пел звучным гортанным голосом не сложную мелодию. Столь же просто было и содержание песни:
Путь идет по горам,
Путь усыпают тюльпаны.
Путь ведет к небесам.
О пери, исцели мои раны...
Продолжения не было. Песню, вернее единственное четверостишие песни, сочинил, видимо, сам певец.
Все с интересом разглядывали живописную фигуру одинокого путешественника. Прежде всего бросилось в глаза, что он молод и красив, а в то же время беден, как может быть беден бухарский бедняк. Одет он был в пестрые лохмотья. Нельзя было даже определить, что служило основой для синих, красных, желтых заплат его халата — ситцевых, сатиновых и даже грубой мешковины. На ногах были заплатанные мукки — сапоги на мягких подошвах.
109
Не менее живописен был верблюд. Более потрепанное и в то же время высокомерное животное трудно было представить. Верблюд выступал по дороге величественно, высоко держа на тонкой шее покрытую комьями свалявшейся шерсти голову. Он нес на горбу большой багаж: была тут кошма, какие-то палки, узелки; глиняная тарелка высовывалась из шерстяного дырявого мешка, сбоку виднелся кетмень; еще можно было разглядеть топор, небольшое ведро, еще ведерко с прохудившимся дном, фонарь «летучая мышь», пару изорванных сапог, небольшой медный кувшин с проткнутым боком. Видимо, все имущество хозяина двигалось вместе с ним на спине верблюда.
Путник заговорил по-русски.
— Здравствуйте. Меня зовут Курбан. Курбан из селения Чиндере. Где здесь военный начальник? У меня к нему письмо.
Курбана и его верблюда отвели к Кошубе. Командир долго всматривался в послание, мелко написанное замысловатой арабской вязью, изящной, но трудно поддающейся разбору.
Уже первые строки показывали, что письмо было зовом о помощи, и в то же время оно было величайшим по своей значимости документом, говорившем о том, что трудящийся сельский люд Бухары отшатнулся уже в те полные смятения и крови дни от эмира, беков, баев. В сердце поднималась радость от сознания, что надежды этих людей были всецело оправданы благородными поступками одетых в красноармейские шинели русских рабочих и крестьян уже три года проливавших кровь на полях, в долинах, на скалистых перевалах бывшего эмирата, чтобы вырвать из-под грязных сапог богатеев и эмирских чиновников жизнь и счастье узбеков и таджиков.
Письмо это, написанное на клочке бумаги, начиналось так:
«Начальнику красных воинов-большевиков мирахуру Желтобородому.
Мы, старшины рода кунград, проживающие в кишлаке Сары-Кунда, зная вашу мудрость и уповая на вашу справедливость, будучи сами неграмотны, поручили написать и продиктовали это письмо Сарымсаку, писцу тенгихарамского мингбаши.
110
Бисмилля!
Пребывайте дни и ночи в здоровьи и благополучии, нанося смертельные раны врагам!
Хотим вам сказать в письме нижеследующее.
Никогда мы раньше, грубые горцы, не слышали о советских людях. Кто вы, что вы — мы не знали. Нам приказал эмир и наш сарыкундинский ишан:
«Сражайтесь с неверными, ибо вера Мухаммеда и обычаи отцов и дедов в опасности».
Мы были в руках пятидесятников и курбашей, как труп в руках мурдашуев — обмывателей трупов. Нас обманули эмир и сарыкундинский ишан. Два года идет война. Детям и женам нашим нечего есть, потому что пшеница и ячмень посохли, потому что арык, дававший воду нашим полям, пришел в запустение. Дети и старики наши умирают, у нас нет даже материи на саваны, чтобы заворачивать тела умерших. Амлякдары эмира взыскали с нас налоги и налоги с налогов за пять лет вперед. Войска ислама съели наших рабочих волов, нам не на чем пахать. Курбаши, мингбаши, пансады, проклятье им, позорят наших дочерей.
До нас дошли вести: большевики дают землю беднякам, делают бедняков людьми, загоняют под землю ростовщиков и господ. Мы хотим, чтобы большевики пришли к нам в кишлак Сары-Кунда и сказали нам правду и защитили нас от курбаши Кудрата, чинящего нам притеснение.
Господин мирахур, наши сердца открыты, наши руки у наших сердец, пожалуйте.
Старейшины приложили свои печати и подписи к этому посланию. А писал его писец Сарымсак Алим-оглы со слов мусульман».
Нижняя часть листа и все поля были покрыты оттисками маленьких — круглых, овальных, квадратных печаток с витиеватыми арабскими письменами.
Такие печати были широко распространены в то время в неграмотной, темной Бухаре. На каждом, даже самом маленьком базарчике в городах Бухары мухрсоз — печатных дел мастер — с удивительной быстротой вырезал имя и фамилию заказчика тут же, в его присутствии, на заранее изготовленной медной форме с маленькой рукояткой.
111
Печать и вырезка на ней надписи стоили гроши, но полученное Кошубой письмо из Сары-Кунда свидетельствовало о том, что и такой расход был не под силу многим дехканам. Гораздо больше, чем оттисков печатей, под письмом было оттисков пальцев. Ни одной подписи, кроме самого писца, на письме не было.
Отправить ответ сарыкундинцам не успели. Вечером, когда лагерь стал засыпать, в стороне большой дороги послышались голоса. Разнесся слух, что пришел крестьянин-горец из кишлака, на который напали басмачи.
Слух подтвердился. Басмачи напали на кишлак Сары-Кунда. Дехкане взывали о помощи.
Горец — высокий, атлетически сложенный бородач, всхлипывал и временами тихо стонал. Он сидел на скамейке в комнате командира тенгихарамской почтовой станции, опираясь черными, загрубевшими руками на суковатую дубинку, и раскачивался из стороны в сторону. Свыше сорока километров прошел он за пять часов по горным каменистым тропам, по щебенчатым осыпям, через перевалы. Дважды переходил, по пояс в ледяной воде, через вздувшиеся потоки.
И вот он сидит — большой, беспомощный, как ребенок, и бессвязно повторяет одно и то же:
— Басмач Кудрат пришел. Всех убьет, всех зарежет. Все сгорит... Пшеницу требует. Деньги требует...
Кошуба отдал приказ красноармейцам седлать коней.
— Экспедиция останется в Тенги-Хараме,— распорядился комбриг.— Здесь сильный гарнизон... Вы отдохнете за два дня.— Голос командира доносился уже со двора.— Курбана и этого крестьянина ко мне!
А еще через минуту прозвучала команда:
— По коням!..
В отряд, шедший на выручку к дехканам, были включены добровольцы из состава экспедиции.
Отряд шел всю ночь. Тихо пофыркивали кони, звякала приглушенно сбруя, цокали по камням подковы.
В полночь на порозовевшем на севере небе начала вырисовываться зубчатая стена черных гор.
Кто-то негромко спросил:
— Луна всходит?
— Нет, зарево.
Горел кишлак Сары-Кунда.
112
II
Голос надрывался, голос неистово звал. Призывный вопль несся во мраке над плоскими крышами домиков, над темными настороженными куполами могучих чинаров, столпившихся около большой мечети у священного источника.
Голос звучал сначала внизу, у бурной говорливой речки, а затем переместился повыше, к большой мечети.
По улочкам и тихим переулкам заскользили тени; хлопнула калитка, другая, зашлепали по камням подбитые подковами кожаные калоши.
Погруженный только что в крепкий сон, кишлак Сары-Кунда наполнился шумом, сдержанным говором. То тут, то там встревоженно лаяли собаки.
Голос у мечети все еще взывал к небу. Далеко в горах отзывалось эхо.
— Люди! Эй, люди! Собирайтесь к мечети. Собирайтесь, отбросьте ваш сон! Идите скорее!
Желтоватое пятно света проплыло по земле, блеснуло в воде хауза и выхватило из темноты бородатые заспанные лица. Сразу стало видно, что большой двор мечети заполнен народом.
Толпа выжидающе молчала. Хотя крик сельского глашатая среди ночи нарушил установленный испокон веков уклад жизни, никто ни словом не выдал своего любопытства. Молча стояли люди, поеживаясь под резкими, сердитыми порывами ветра, мчавшегося с льдистых склонов Хазрет Султана.
Заговорил староста селения Сираджеддин. Собравшимся видна была только пушистая его борода, каждый волосок которой сиял в струившемся сбоку и снизу свете фонаря. Лицо и голова, увенчанная чалмой, прятались в тени.
— Мусульмане, ваш сон поистине безмятежен, ваши сердца беспредельно спокойны. Говорят: «Заяц спит и просыпается без головы». А вы?
Голос его дрожал:
— Вы спите, а полчище ширбачей1 этого сына разводки — Кудрат-бия скачет сломя голову, к нашему
________________________
1 Ширбачи — так называли специальные отряды по борьба с революционной крамолой, созданные эмиром в последние годы перед революцией. Отряды ширбачей набирались из уголовные преступников. После революции так стали называть иногда басмачей.
113
кишлаку. Глаза людоедов налиты кровью, их клыки оскалены.
Помолчав для убедительности, староста продолжал:
— Слушайте, что сказал мне посланец вожака бандитских шаек. Преисполненный гордыни и наглости Кудрат-бий объявил: «Мы слышали, что в Сары-Кунда люди впали в разврат и отказали в гостеприимстве нашему ясаулу. Поэтому приказываю...— Голос говорившего дрогнул.— Приказываю сегодня же доставить мне и моим людям сто пятьдесят подков, четыре пуда фамиль-чая, полтора пуда кок-чая, чилимного табаку десять фунтов, баранов — сорок, рису — десять пудов, кишмишу — три пуда. Ослушникам — наказание, их семьям — разорение!». Слышали, люди? Кровопийца и насильник Кудрат-бий опять пришел, лошади его джигитов ржут на дорогах, а вы спите...
Толпа молчала. Каждый с тоской припоминал все беды все несчастья, которые пришлось претерпеть злосчастному селению Сары-Кунда в прошлом году.
Тогда в долине несколько недель стояли лагерем басмачи Кудрат-бия, загнанные сюда, в глухие дебри, красными конниками. Слезы, разорение, свежие могильные холмики оставили после своего ухода воины ислама в кишлаке Сары-Кунда.
И вот сейчас они снова тут.
— Идет сама смерть,— сказал престарелый Навруз-бобо, которого все называли просто Мерген — охотник.
Он был стар, никто не знал, сколько ему лет, и каждое слово его воспринималось односельчанами, как прорицание.
И теперь сказанная им фраза всколыхнула весь кишлак. Все закричали сразу. Что кричали — неизвестно. Каждый, не слушая соседа, выкрикивал торопливо слова, спеша излить все обиды и горести, накопившиеся в груди за многие годы притеснений, бесправия, нищеты.
Шум перекрыл спокойный густой бас кузнеца Юсупа:
— Все идут домой. Все берут то, что есть у каждого из оружия. Есть нож — бери нож. Есть серп, хорош и серп, есть топор — прекрасно, есть железные вилы — замечательно, есть ружье — да будет радостен и счастлив тот, у кого есть ружье.
Шум удаляющихся шагов показал, что предложение кузнеца Юсупа было воспринято как приказ.
114
Во дворе мечети остался только Юсуп и еще несколько человек.
Кто-то вопросительно кашлянул, робко, но настойчиво.
— Что хотите сказать?— отозвался Юсуп. В круг света вступил человек. Лица его не было видно, но по халату тонкого верблюжьего сукна Юсуп тотчас узнал имама — достопочтенного настоятеля сарыкундинской мечети. Он подошел вплотную к кузнецу и притронулся пальцем к поблескивающей при свете фонаря вороненой стали ружейного ствола.
— Что это?— спросил имам.
— Вы разве впервые видите ружье?— с досадой ответил кузнец.
— Мы знаем вашу мудрость, да будет она очищена от богохульства и заблуждений. Ваша мудрость подтверждается вашей предусмотрительностью. Вы взяли в руки оружие, узнав о приближении парваначи Кудрат-бия, а?
Юсуп промолчал. Он чувствовал, что в темноте за его спиной угрожающе сдвигаются тени. Голова кузнеца инстинктивно ушла в плечи.
Ничуть не обескураженный молчанием Юсупа, снова заговорил имам, явно пытаясь затеять спор:
— Тот истинный мусульманин, кто доверился святым шейхам, кто учится у них. Доверься главе воинов ислама Кудрат-бию, ибо он заслужил своей войной с большевиками, нечестивыми гяурами, имя великого шейха.
— Это Кудрат — шейх? Он вор, растлитель дехканских дочерей. Зверь, пьющий кровь детей. Вот кто ваш святой шейх!
— Опомнись, пока не поздно. Такие, как ты, сеют в народе смятение. Ты мутишь дехкан. От твоих слов народ обращает взоры на чужое имущество, на чужих жен...
На улице послышался шум шагов. Юсуп понял, что крестьяне возвращаются с оружием. Чувство напряжения исчезло. Толпившиеся за спиной враждебные тени беззвучно отступили, растаяли.
Но имам не унимался. Он уже обращался не к Юсупу, а к народу, который быстро прибывал.
— Опомнитесь,— кричал имам,— опомнитесь! Рассчитывайте на милосердие всевышнего. Ваши шеи тоньше волоса.
115
Тогда к свету выдвинулось выразительное лицо Навруз-бобо Мергена.
— Мусульмане!— громко заговорил он.— Вот я живу много, много лет и много, много лет возношу аллаху молитвы.
— Твоя, Мерген, набожность открывает тебе дорогу в рай,— торопливо проговорил имам.
Мерген вздохнул:
— Велик аллах, но ни я, ни мои соседи, ни все жители Сары-Кунда не видели, чтобы всевышний, когда мы умираем весной от голода, бросал нам лепешки с неба.
Послышался легкий смешок.
— Так-то: чужое дело легче ваты, свое — тяжелее камня,— заключил Мерген.
Сираджеддин наклонился к уху Юсупа и быстро заговорил.
— Староста наш,— громко сказал Юсуп,— боится, как бы чего не получилось плохого, Камил-бай, ростовщик Зарип и еще другие забились в свои норы и молчат.
— Пусть баи скалят свои зубы, а мы Кудрата к себе не пустим.
Это сказал совсем еще молодой парень, Мустафа. Про него ходили слухи, что он был одно время в басмаческой шайке, но сбежал оттуда.
Кузнец насторожился.
— Ты быстр на слова, но...
Тогда Мустафа подошел к фонарю и скинул халат с плеч.
— Видишь?
Возгласы жалости послышались в толпе. Спина Мустафы была похожа на обнаженный кусок мяса — ее сплошь покрывали вздутые багровые рубцы еще не заживших ран.
— Я был у Кудрата, я служил ему, но я не стерпел. Я не смог смотреть на зверства, чинимые им и его разбойниками, и ушел от него. И вот я думал: когда силы вернутся ко мне, уйду к большевикам, стану красным воином.
Кузнец Юсуп, Мерген и староста Сираджеддин взялись руководить защитой селения. И по тому, что оборона Сары-Кунда вошла в историю Узбекистана как героическая страница, можно судить, что они оказались неплохими организаторами и командирами.
116
Сарыкундинцы подняли оружие против притеснителей.
Меньше всего матерый волк Кудрат-бий мог допустить, что бараны, как называл он дехкан, осмелятся дать отпор воинам ислама.
Никогда не бывшие воинами, никогда не державшие в руках оружия, дехкане вступили в битву с испытанными, жестокими головорезами, набившими руку на убийствах, изощрившимися в хитрости и вероломстве. Но дехкане проявили природную сметку, подлинное мужество, терпение.
Впоследствии, когда Кошуба разбирал действия сары-кундинцев, он выразил свой восторг:
— И полководец остроумнее не придумал бы. Вот уж правильно таджики говорят: мужественный не жмурится от лучей солнца, трус слепнет от света луны.
Староста Сираджеддин, кузнец Юсуп и Мерген после быстрого, немногословного совещания разделили дехкан на три части, и каждый двинулся с группой людей в определенном направлении.
Напутственных речей не произносилось. Только Юсуп, любивший поговорить, во всеуслышание заявил:
— Братья! Жадная лошадь прогрызает дно торбы. Помните, Кудрат жаден, как голодная крыса. От ваших рук и вашего мужества зависит, чтобы вы не проснулись завтра нищими.
Часть сарыкундинцев поднялась по склону горы к ущелью. Другая часть спряталась в домах и за каменными оградами вдоль дороги. Третья группа открыто напала на конницу Кудрат-бия, едва он вышел из горла ущелья.
Когда Мергена спросили, как мог он, имея в своем отряде всего-навсего три однозарядных берданки и десяток серпов и кетменей, решиться напасть на самого Кудрат-бия и пятьдесят его головорезов, вооруженных многозарядными английскими винтовками, он ответил:
— Взгляд батыра и железо плавит.
Гулкие, отдававшиеся далеким эхом выстрелы, стоны раненых напугали басмачей, и они повернули назад к ущелью, решив, очевидно, что в Сары-Кунда засел отряд красноармейцев.
Но едва всадники втянулись в узкий проход, сжатый скалами, как ущелье огласилось страшным скрежетом. Горы грохотали. Сверху на басмачей сыпались камни,
117
щебенка. Было еще совсем темно, и басмачи не могли ничего разобрать. Раздались крики:
— Злые духи! Спасайтесь! Дивы, горные дивы! Бандиты стремительно бросились назад из ущелья. В темноте они падали вместе с лошадьми, всадники топтали упавших, пускали в ход камчи.
— Дивы! Дивы!
Но у входа в долину снова загрохотали выстрелы. Басмачи заметались в колючих кустарниках. Кое-кто, сраженный пулей, падал на камни. Паника овладела басмачами.
...Чуть брезжил рассвет, в сумраке начали вырисовываться пологие холмы. На одном из них стоял всадник и махал белой чалмой.
Тогда из-за большого камня выбрался Юсуп и, сделав несколько шагов по направлению всадника, спросил:
— Что тебе надо?
— Кто вы?
— Я начальник доблестных воинов, — не задумываясь, заявил Юсуп.— Чтр тебе надо?
— Мой господин мирахур Кудрат-бий повелел мне передать следующее: «Мне претит дальше сражаться против советов. Пропустите нас, и мы не тронем пальцем кишлак Сары-Кунда. Я решил вместе с джигитами своими вернуться к нашим очагам и отныне мирно платить налоги советской власти».
Юсупу пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы радость не прорвалась наружу. Он сурово заявил:
— Хорошо, мы согласны...
— Мой господин спрашивает: «Будет ли дана клятва, что ни меня, ни моих джигитов не ждет притеснение или тюрьма?»
— Хорошо.
— Дайте клятвенное обещание.
— Клянемся богом.
Всадник исчез. Юсуп стоял по колено в полыни, бурно разросшейся по окраинам кишлака.
Из ущелья потянулись цепочкой всадники. Они проезжали мимо одинокого Юсупа на большую дорогу.
Одним из последних подъехал Кудрат-бий. Молодой джигит, почти мальчик с нежным девичьим лицом, сопровождавший курбаши, воскликнул нараспев: ...
— Мой господин хочет говорить.
118
— Пусть скажет,— нетерпеливо ответил Юсуп.
Он услышал за своей спиной шаги и обернулся. К нему подходил Сираджеддин с группой дехкан. Юсуп оживился:
— Говорите, Кудрат-бий!
Курбаши выехал на дорогу и направился к сарыкундинцам.
— Эй, дехкане,— пренебрежительно кривя в усмешечку рот, сказал он,— где мой храбрый друг Кошуба?
Кузнец Юсуп забыл всякую осторожность,— он признался, что Кошубы в Сары-Кунде нет.
Услышав ответ, Кудрат-бий в первое мгновение растерялся. Лицо его посерело, глаза суетливо перебегали с одного человека на другого.
— А!— протянул он.— Кошубы нет? Кто же сейчас воевал с нами?
— А мы, дехкане.
— Позор на мою голову! Позор! Позор! Мои джигиты — грязные трусы, мелкие воры, а не борцы за ислам!
Он ускакал.
С радостными песнями возвращалось ополчение в кишлак. На площади у чинаров произвели дележку трофеев: шесть новеньких винтовок, два мушкетных карабина, наган, восемь лошадей, патроны, ножи. Несмотря на ранний час, во дворе мечети в огромном котле варился плов.
Басмачи ушли в горы. Впереди ехал Кудрат-бий. Поднявшись на холм повыше, он остановился и долго смотрел на утопавший в садах кишлак Сары-Кунда. Стоявшие около него видели, как сжались кулаки курбаши. Вполголоса он проговорил:
— Не прими, господи, от меня ни поста, ни молитвы до тех пор, пока я не вытяну жилы из этого быдла.
Злобно хлестнув коня, Кудрат-бий помчался вперед. За ним едва поспевало его потрепанное воинство.
III
Рассказы организаторов обороны кишлака — старосты Сираджеддина, кузнеца Юсупа и Мергена позволили воссоздать картину событий последней ночи, событий, которые едва не привели к поголовному истреблению крестьян кишлака Сары-Кунда.
119
Мудро и умело отразившие ночное нападение сильной басмаческой шайки, разгромившие ее небольшими и плохо вооруженными, но искусно расставленными силами, сарыкундинцы проявили в дальнейшем непростительную беспечность.
Сейчас трудно понять, какими побуждениями руководствовались Сираджеддин, Юсуп и Мерген, когда они отпускали на все четыре стороны Кудрат-бия и его ближайших помощников — матерых бандитов и убийц. Вернее всего, сказывалось веками культивируемое и укореняемое палками чувство раболепного преклонения перед каждым, кого надлежало величать в разговоре обращением «таксыр». К тому же, обрадованные счастливым исходом сражения, дехкане вообразили, что шайка Кудрат-бия отныне перестала быть опасной. Кудрат-бий и басмачи остались на свободе. Сарыкундинцы сами уготовили себе страшную кару.
В день после схватки даже скот пригнали с окрестных пастбищ пораньше.
— Нужно, чтобы и чабаны со всеми праздновали,— говорил староста,— все должны быть в весельи и радости. И дети и старухи — никого не забудьте.
И все праздновали...
Праздновали так, что забыли о самых необходимых мерах предосторожности.
По каменистой улице кишлака к большим чинарам с гиканьем, свистом, улюлюканьем прошел кортеж сарыкундинской молодежи. Толстый, жизнерадостный Абдували, прозванный за свою круглую, всегда сияющую физиономию «Эх ты, луна!», обмотал голову пестрым, по-фазаньи ярким тряпьем, напялил неведомо откуда раздобытый старый-престарый парчевый халат, навесил на себя вместо портупеи кожаные подпруги. В руках у него было огромное дедовское ружье, из которого никто не решался стрелять уже добрых полсотни лет.
— Вай дод! Дехкане, вай дод! — вопил «Эх ты, луна».
Звонкими криками, грохотом котлов и барабанов отвечали джигиты на истошные вопли толстяка.
— Вай дод!— проворчал «Эх ты, луна» и бросился к чинару.— Помогите мне, великому курбаши. Ха, за мной гонится пучеглазая лягушка. Ах, вай дод! Смерть угрожает моим печенкам! Спасите!
120
Будто спасаясь бегством от грозной опасности, «Эх ты, луна» вскарабкался на чинар и там разрядил в небо свою древнюю пищаль.
Выстрел прозвучал оглушительно, и горные ущелья ответили многоголосым эхом.
Но что это? Эхо разносилось по долине слишком долго. Сухой треск выстрелов рассыпался на окраинах кишлака.
С вершины чинара вдруг раздался крик:
— Вай дод, басмачи!
По улице, где только что веселилась толпа юношей, во весь опор проскакали всадники. Они решительно осадили лошадей у подножия большого чинара, перед сарыкундинскими старейшинами, торжественно восседавшими на паласах в ожидании праздничного ужина.
Наезжая конем на ошеломленных стариков, передний всадник с уродливым лицом, но статный и ловкий, заговорил властно:
— Салом алейкум, мусульмане.— Не дождавшись ответных приветствий, он продолжал.— Письмо! Я привез письмо от его высокодостоинства, командующего войсками ислама Кудрат-бия к старейшинам Сары-Кунда.
И, наклонившись с седла, протянул свернутое в трубочку письмо. Тут же он высокомерно добавил:
— Быстрее! Вы, чернохалатники, грязь недостойная прилипнуть к сапогам курбаши, пошевеливайтесь. Возблагодарите пророка, что Кудрат-бий соизволил сделать вам последнее предупреждение.
Конь нетерпеливо танцевал на месте. Басмач уперся рукою в бедро.
— Читайте народу! Я жду ответа.
Письмо прочли.
Вот что писал Кудрат-бий, столь великодушно отпущенный на свободу сарыкундинцами всего только несколько часов назад:
«Обитателям кишлака Сары-Кунда, мусульманам, бисмилля и рахман и рахим. Вы, дехкане, черные душой и невежественные в вопросах веры, заблуждаетесь, действуя не по велениям шариата. Опомнитесь! Помогая безбожным красноармейцам, вы идете против ислама, исповедывавшегося вашими отцами и отцами ваших отцов. Вы идете против нас, таких же правоверных как и вы.
121
Если вы будете поддерживать злокозненных гяуров, то клянемся книгой книг — кораном, что всем дехканам с их женами и сыновьями мы укоротим жизнь, все их имущество отберем, а в кишлаке Сары-Кунда мы не оставим ничего, кроме могил. Помните это и поймите, что только великодушие наше и доброта заставляют писать это доброжелательное предупреждение после нанесенных нам обид и поношений от недостойных аксакала Сираджеддина, кузнеца Юсупа и человека, именуемого Мергеном. Людей этих отдайте без разговоров в наши руки еще до ответа. Мы с ними поступим по закону, казним легкой смертью. В случае вашего несогласия, для уничтожения дехкан Сары-Кунда и их имущества у нас есть достаточно сил.
Кудрат-бий, командующий».
Посланец курбаши небрежно играл камчой с блестящей инкрустированной серебром рукояткой. Всем своим видом он показывал, что содержание ответа мало его интересует, что участь сарыкундинцев решена, что будь он на месте Кудрат-бия, он не стал бы вести лишние и нудные переговоры, а сразу же принял бы решительные меры.
Вновь разгоревшаяся в долине стрельба напомнила сарыкундинцам, что на этот раз Кудрат-бий действует более предусмотрительно.
— Ну,— сказал посланец,— вы даете ответ?
Нет сомнения, что в этот момент и Сираджеддин, и кузнец, и Мерген горько пожалели о своем опрометчивом поступке. Кишлак лежал посреди долины беззащитный, беспомощный, басмачи ждали только сигнала, чтобы ринуться на свою жертву.
Старейшины медлили. Гордый дух горцев не позволял им согласиться на басмаческие требования. Страх, леденящий душу, мешал ответить отказом, ибо они отлично понимали, что Кудрат-бий, не поколеблясь осуществит свои угрозы. Отцы кишлака молчали в мучительном, тоскливом раздумье. Они ждали, они надеялись.
Тогда из-за ствола чинара вышел «Эх ты, луна». Он был все еще возбужден и не сознавал опасности. Подойдя вплотную к всадникам, «Эх ты, луна» сдвинул свою шутовскую чалму набекрень и, паясничая, заговорил:
— Ха, это ты Зуфар-мухрдор! Я вижу облезлую собаку, забравшуюся на золоченое седло, в котором достоин
122
сидеть витязь. Мусульмане! Гоните эту потаскуху, гоните в шею...
Старейшины Сары-Кунда повскакали с мест, зашумели.
— Убирайся, палач! Убирайся, пока тебе не надавали палками по заду.
Скрипучий голос перекрыл возгласы.
— Довольно! Я знал, что безумцы остаются безумцами. Ваш час наступил.
На площадь выехал Кудрат-бий. Из проулков с ружьями наперевес выехали басмачи.
Кудрат-бий медленно сошел с коня и сделал два шага к застывшему на месте «Эх, ты луна». Неторопливо вынув из-за пояса парабеллум, курбаши у всех на глазах пристрелил кишлачного весельчака и балагура.
Кровавая расправа началась. Запылали скирды хлеба, сложенные на плоских крышах домов. Всю ночь воины ислама бесчинствовали в кишлаке. Вопли и плач не стихали до утра...
Дряхлых стариков, могучих кряжистых мужчин, юных девушек, почтенных матерей семейств, плачущих, перепуганных ребят согнали на рассвете на площадь перед мечетью. Моросил дождик. Пахло дымом и мокрой глиной. Сарыкундинцы брезгливо поглядывали на неряшливые следы басмаческого пиршества, тянувшегося шумно и непристойно всю ночь. Забившись в темные углы своих каменных хижин, дехкане слышали заунывные песни бачей, звероподобные возгласы их поклонников, визг, беспорядочную, крикливую музыку, похожую на стоны жертв, и чьи-то подлинные стоны. В хаос звуков врывались выстрелы и одобрительный вой...
Мрачное, распухшее от бессонной ночи лицо Кудрат-бия не сулило непокорным дехканам ничего доброго. Его мучила икота, и он пил пиалу за пиалой остуженный чай.
У самых смелых сжались сердца, когда в сумраке наступавшего утра начала вырисовываться в дупле Большого Чинара непонятная, леденящая душу белая фигура.
— Что это? Кто?— шептали, чуть шевеля губами, люди, протискиваясь вперед, чтобы поглядеть, и, тут же, отпрянув назад, бормотали молитвы, проклятия.
В черном провале дупла виднелось голое тело. Человек был поставлен на голову, повешен за ноги, распят. Страшная, налитая синей кровью голова с выпученными, оста-
123
новившимися глазами смотрела на толпу. Когда стало светлее, все увидели, что тело распятого покрыто ранами и кровоподтеками — следами бесчеловечной пытки. Сдавленный, хриплый голос прозвучал в толпе:
— Мустафа! Это Мустафа...
Ропот, заглушённые рыдания наполнили площадь.
— Молчать!— заревел огромный, толстый ясаул-баши с плоским носом и рыжей бородой.— Молчать! Бек будет говорить.
Не вставая, не повышая голоса, Кудрат-бий сказал:
— Мустафа ваш односельчанин. Мустафа перешагнул закон мусульман, захотел помогать красным. Теперь Мустафа подох, как подохнете и все вы... Смотрите и трепещите. Пусть каждый из вас десять раз умрет от страха, прежде чем ему перережут горло. И пусть каждый из вас знает, что я, Кудрат-бий, отменил советскую власть и что ваши глупые усилия в борьбе против нас, Кудрат-бия, были усилиями муравьев, борющихся, со слоном. Все. Эй, вы, приступайте!
В руках басмачей блеснули ножи. Толпа шарахнулась назад. Но и сзади напирали палачи. Отчаянный женский вопль прорезал воздух...
— Постойте! Именем бога всемогущего, всемилостивого, остановитесь,— громко прозвучал чей-то голос.
С террасы мечети, опираясь на высокий посох, спустился благообразный человек в ослепительно-белой чалме и в белом, безукоризненной чистоты, халате.
По толпе пронесся ропот:
— Ишан-Азиз! Святой хазрет! Пайгамбар! Старец горы!
Кто-то робко крикнул:
— Святой отец, вступись за нас...
Старец горы — Ишан-Азиз был известен далеко за пределами долины своей благочестивой, подвижнической жизнью и глубоким знанием корана — мусульманской премудрости. Сотни лет пещера на Красной горе служила прибежищем ишанам — Старцам горы, звание которых переходило от отца к сыну. Сарыкундинцы кормили, поили, одевали святых хранителей пещерного мазара. Сотни лет старец горы был высшим старейшиной жителей кишлака Сары-Кунда и заступником их перед богом.
И сейчас, в минуту смертельной опасности, сердца даже самих вольномыслящих устремились к этому, воздев-
124
шему очи к небесам, святому человеку. Многие упали на колени: руки тянулись к старцу.
Кудрат-бий поднялся на ноги и сделал несколько шагов навстречу старцу.
— Пожалуйте, пожалуйте, великий.
Ишан неторопливо уселся на ковер. Он обвел взглядом толпу; на секунду взор его остановился на теле распятого.
Лицо старца горы оставалось непроницаемым.
Но вот он повернулся к Кудрат-бию.
— Добрый мой бек, что соизволили вы решить в отношении этих многогрешных?
Курбаши тревожно заглянул в глаза старца.
— Мы решили,— неуверенно ответил он,— мы решили пресечь их жизненный путь. А? Что вы сказали?
Разгладив бороду, старец горы коротко бросил:
— Чилим!
Юноша, сопровождавший его, вырвал из рук приближенного курбаши чилим и бросился к ишану. Сделав три положенных затяжки и выпустив густую струю дыма из отверстия чилима, старец горы задумчиво покачал головой.
— Я думаю,— начал он,— пролитие крови мусульман мусульманами есть вещь недозволенная, и вы, великий курбаши, как мусульманин и правоверный последователь великого пророка, не найдете возможным сойти с предначертанного пути. Кровь мусульман да не прольется здесь...
Радостно зашумела толпа.
— Великий ишан,— забормотал в смущении Кудрат-бий,— они отступники. Смертную кару они заслужили. Они не мусульмане больше.
— Кровь мусульман не прольется здесь,— веско сказал ишан и многозначительно добавил:— Отпусти их. Но, прежде чем они уйдут, пусть каждый из виновных — и мужчина, и женщина возьмет тяжелый, самый тяжелый камень и в искупление вины повяжет тяжесть эту себе на шею.
Курбаши дал знак. Басмачи расступились, Сарыкундинцы, радостные и благодарные, поспешно бросились к оградам, окружавшим дворики. Они тащили тряпки, веревки, помогали друг другу надевать камни на шею. Местами уже слышались шутки, смех.
125
Когда суматоха утихла и дехкане собрались снова на площади, ишан громко, во всеуслышание, сказал Кудрат-бию:
— Отступничество — великое прегрешение, прегрешение, тяжестью своей тяжелее самого тяжелого камня. Камень же, брошенный в воду; не всплывает. Так и прегрешение, брошенное в пучину, не всплывет...
Он встал, медлительный и важный, и удалился, пройдя мимо застывшей, недоумевающей толпы...
Кудрат-бий отлично понял святого ишана. Отрывисто пролаял он приказание. Десятки басмачей бросились вязать руки ошеломленным, гнущим шеи под тяжестью камней беднякам и батракам.
В углу двора и на террасе мечети среди резных колонн толпились богатеи — баи, торговцы, зажиточные дехкане. Одни со злорадством, другие с ужасом и жалостью взирали на дикую расправу, но никто ни слова не сказал в защиту сарыкуидинцев.
Покрикивая, как на мирном базаре,— «пошт, пошт!» — «пошел, пошел!» всадники погнали сарыкундинцев к бурной горной реке топить прегрешения против аллаха, эмира, беков...
IV
Всю ночь отряд бойцов шел через Санг-Гардакское ущелье по скалистым тропам, карабкался по кручам перевалов, пробирался по зыбким карнизам над пропастями.
Камни скатывались с грохотом вниз, в черные, зияющие провалы, увлекая за собой щебень, гальку. Лавины обрушивались в тучах песка и пыли в ложе горного потока.
Отряд спешил, и поэтому сразу же была отброшена мысль идти по хорошей кружной дороге. Двигались по заброшенным, давно неезженным тропам. Копыта лошадей срывались, со скрежетом скользили по щебню, выбивали искры. Местами люди спешивались и, ведя лошадей в поводу, карабкались среди камней, больно ударяясь о невидимые в темноте острые выступы.
Нужно было спешить. Горы взывали о помощи.
— Скорее, скорее,— бормотал гонец из Сары-Кунда. — Торопитесь. Они уже пришли в кишлак. Смерть пришла уже.
126
И он неутомимо шагал впереди коня Кошубы, увлекая за собой весь отряд.
Сколько времени шел отряд? Который был час? Никто не знал — строжайше было запрещено зажигать огонь. Куда идет отряд? Куда сейчас поставит ногу конь? Одно неловкое движение — и конь может оступиться, чтобы исчезнуть со своим всадником навеки. Как искать его на дне тысячеметровой пропасти, в кромешной тьме? Было так темно, что глаза наполнялись слезами от напряжения при попытке что-нибудь разглядеть перед собой... Справа в темноте проплывали поблескивающие выступы обрыва. Если зазеваешься — скала зацепит, вырвет из седла и безжалостно сбросит с тропинки. А слева бездна, глубину которой сознание воспринимает только по далекому ворчанию горного потока...
— Торопитесь,— говорил Курбан.
Он охрип и дышал тяжело, со свистом. Всю ночь Курбан помогал непривычным к горам путешественникам перебираться через рытвины, осыпи, потоки.
Куда девалась его медлительность и простоватость? Когда рассвело, стало видно, что он оставил где-то свои живописные лохмотья и оделся в щегольскую красноармейскую форму. В ней Курбан поражал своей ловкой выправкой и подобранностью. Сразу видно было, что он не новичок в армии и что свою службу в качестве разведчика в рядах красной конницы он почитает за великую честь.
Перемена произошла почти незаметно. Обрыв справа, за который часто с неприятным шуршанием задевало плечо, вдруг стал различаться отчетливее. За пропастью, сквозь космы желтовато-молочного тумана, вырисовывались ребристые громады гранитного хребта. Впереди, в провале между двух гор, показался кишлак.
Деревья, плоские крыши домиков, башенки минарета, казалось, парили в трепещущем сиянии, изливающемся откуда-то сверху и сбоку. Розовый поток мчал бешеные воды у подножия холма. Легчайший мостик, чудом переброшенный с одного берега на другой, паутинкой повис над быстрой рекой.
— Чудесное утро,— задумчиво сказал Кошуба.— Красиво, черт возьми!
Он стоял на перевале перед каменистым спуском к мосту и любовался открывавшейся перед глазами картиной.
127
— Скорее! Поспешим,— робко пробормотал горец, осторожно касаясь рукой стремени Кошубы.
— Сары-Кунда?— спросил Кошуба.
— Да, мой кишлак. Скорее! Мы опоздаем.
Джалалов, только что добравшийся на своем незлобивом жеребчике до седловины перевала, мрачно огляделся:
— Так вот Сары-Кунда! Там, я вижу, все в порядке. Ой, нет!
На первый взгляд все было мирно в кишлаке: свежая зелень садов обрамляла веселые домики; поля с перемежающимися темными и яркоизумрудными прямоугольниками поднимались по склону величественной горы все выше к малиновым облачкам, ползущим по бокам острого пика...
— Ой, нет!— повторил Джалалов.
Возглас Джалалова заставил всех насторожиться.
— Что вы?— коротко бросил Кошуба. Но он замолк тут же, он тоже увидел.
На дорогу, неширокой белой полосой вившуюся по отлогому холму, выбежала из-за крайних домов маленькая девичья фигурка. В бинокль было видно, как быстро мелькают ноги в длинных шароварах и взлетают за спиной десятки косичек. Девушка бежала к мосту, ни разу не остановившись, не оглянувшись. Тонкий, звенящий звук, перекрывая мерный гудящий шум потока, разрезал воздух. То был вопль отчаяния. Так может кричать только человек, охваченный ужасом.
И в тот же момент стало понятно чего так испугалась девушка.
Из кишлака во весь опор выскочил всадник. Карьером мчался он вниз, пригнувшись к шее распластавшегося в стремительной скачке коня.
— Велик бог!— простонал горец и протянул вперед руки.
Конь огромными прыжками настигал беглянку. Почувствовав погоню, она заметалась.
Джалалов лихорадочно стаскивал через плечо карабин...
Но что можно было сделать? В одно мгновение всадник налетел на девушку, конь обрушился на нее, взметнув столб пыли. По инерции всадник промчался дальше, но сейчас же повернул обратно. Осадив коня прямо над лежавшей в пыли девушкой, он начал хлестать ее плетью.
128
Вздымаясь на дыбы, перебирая ногами, конь топтал девичье тело тяжелыми подковами.
Все произошло гораздо быстрее, чем здесь рассказано. Никто не успел опомниться.
Оглушительно грохнул выстрел, и почти в то же мгновение прозвучал злой окрик Кошубы.
— Что ты делаешь?
Подавшись всем телом в сторону, он вырвал карабин из рук смущенного Джалалова.
— Не умеешь стрелять, не берись! Только спугнешь. Но как, ни странно, всадник продолжал хладнокровно свое зверское дело. То ли ветер отнес в сторону звук выстрела, то ли шум реки заглушил его...
— А, так,— прохрипел Кошуба,— так получай!
 Командир
стрелял, как будто, не целясь. Всадник качнулся, соскользнул с седла и медленно
свалился на землю. Конь испуганно шарахнулся в сторону и поскакал галопом к
кишлаку. Нелепо болтались по сторонам стремена.
Командир
стрелял, как будто, не целясь. Всадник качнулся, соскользнул с седла и медленно
свалился на землю. Конь испуганно шарахнулся в сторону и поскакал галопом к
кишлаку. Нелепо болтались по сторонам стремена.
Горец с священным восторгом смотрел на Кошубу.
— Глядите!— крикнул командир.
Из кишлака Сары-Кунда на дорогу вышла странная процессия. Шли дехкане — женщины с младенцами на руках, дети, мужчины, старики. За ними в облаках пыли появились, верхом на лошадях, басмаческие нукеры. Они гнали толпу вниз к реке.
— Что это?— заволновался Джалалов.— Что они хотят с ними сделать?
Толпа направлялась к высокому обрыву, круто спадающему в бурный поток.
Утренняя заря розовым сиянием заливала небо над спокойной горной долиной. Нежный ветерок шевелил молодую траву, багрянцем были облиты близко нависшие над долиной холодные вершины, одетые вечными снегами. Монотонно ревела река... А к реке, к бешеной стремнине медленно спускались подгоняемые всадниками люди.
— Они идут на гибель!— закричал горец.— Их убивают, смотрите... горе нам!
И только теперь можно было разглядеть, что руки у людей связаны, а на груди у каждого висят завернутые в тряпки предметы, такие тяжелые, что от них гнулись спины, опускались головы, подгибались ноги... Дети падали под тяжестью ноши, но всадники ударами камчи поднимали их и гнали дальше.
129
— Камни, им привязали камни... Их утопят! Размахивая посохом, горец с воплями бросился вниз по тропинке. За ним поскакал Курбан.
Сарыкундинские дехкане толпились уже на берегу кипящего потока. Сзади на них напирали нукеры, подталкивали вперед.
Отчетливо видны были в бинокль плачущие, цепляющиеся за халаты матерей детишки, искаженные ужасом лица женщин.
Еще шаг — и край берега, подмытый вешним разливом, обваливается; падает в воду молодой парень. Не успев вскрикнуть, он исчезает в пене потока. Отчаянно упираясь, застывает над потоком старик. А толпа под напором всадника движется к обрыву.
Что делать? Стрелять нельзя. Между отрядом и басмаческими палачами дехкане, женщины, дети.
И Кошуба принимает решение.
— Стрелять вверх!
Залп сотрясает воздух. Еще залп.
Отсюда видно, что басмачи заметались. Всадники — один, другой — отделяются от толпы и тяжело скачут к кишлаку. Другая группа бандитов направляется к мосту. Цепь вокруг пленников редеет, в одном месте возникает свалка. Сквозь шум реки доносятся крики.
Решительным броском отряд занял мост. Резко тявкнул пулемет...
Начинался бой, широко известный, как «стычка у Висячего моста», сражение, вновь прославившее командира Красной Армии Кошубу и предотвратившее истребление дехкан селения Сары-Кунда.
Когда лучи солнца разогнали туман, остатки разгромленной шайки с гиканьем выскочили из Сары-Кунда и бросились к ущелью, в котором они накануне потерпели поражение. Сейчас горы были свободны.
Кошуба, проскакав по пятам бандитов через весь кишлак и «порубив лозу», как он выражался, сдержал своего коня на околице.
— Ушел, сукин сын...
За спиной раздался запыхавшийся голос.
— Почему мы не преследуем?
Командир обернулся:
— А, это вы, Джалалов! Разве наши измотанные кони после такой ночи куда-нибудь годятся?— И после се-
130
кундной паузы проворчал: — Вы сами в мыле, а ведь не лошадь на вас, а вы на лошади.
Джалалов был очень обидчив. Обижался он и за дело и без дела. Однако сейчас, взволнованный первым в своей жизни боем, он пропустил слова Кошубы мимо ушей.
— Как вы думаете,— начал он.
— Погодите!— командир стремительно повернул коня,— Васютин, труби сбор. Иванова и Курбана с пулеметом вот к тому дувалу. Быстро...
Кошуба казался встревоженным. И было отчего: из ущелья на встречу басмачам выскочили всадники.
— Голову прозакладывал бы,— сказал командир,— голову отдал бы на отсечение... Судя по беспорядку, с гор лезут еще басмачи. Так наши конники не ездят — кто в лес, кто по дрова.
Но тревога оказалась преждевременной.
Эхо разнесло дробь винтовочных выстрелов. Басмачи метнулись с дороги во все стороны. Вырвавшиеся из ущелья всадники развернулись и лавой пошли в атаку. Как искорки, заблистали в утренних лучах солнца клинки.
Басмачи рассыпались по холмам. В зеленой траве чернели тела зарубленных. Многие бандиты нашли гибель на дне потока, в который всего несколько минут назад они загоняли мирных дехкан.
Солнце медленно поднималось над мохнатой от арчевых зарослей горой. Червонное золото потоком вырвалось из-за перевала и разлилось по широким просторам котловины. Внизу, в глубоком логе, под порывами ветра засеребрились волны камыша.
День наступал, день победы над шайкой Кудрат-бия, день торжества, но в то же время траура и горя для жителей кишлака Сары-Кунда.
Всадники, так неожиданно пришедшие на помощь отряду Кошубы, быстро приближались. Лошади их были в пене.
— Санджар!— вдруг закричал Джалалов.
— Товарищ Кошуба! Салом!
— Салом! Как вы сюда попали? — довольно сухо приветствовал богатыря Кошуба.
— Долгий разговор.
Санджар на своем рыжем коне выглядел очень живописно. По одежде его легко можно было принять за бас-
131
маческого курбаши. Отличала только красноармейская звезда, прикрепленная к верху меховой шапки, и красная ленточка на халате. Лицо Санджара за последние дни посуровело, по бокам рта залегли резкие складки.
— Очень хорошо,— сказал Кошуба,— что вы подоспели, оказались тут в самый раз.
— Да,— утвердительно пробормотал Санджар.
— На этом спасибо. Но, товарищ Санджар, у вас есть приказ проводить операции в районе Сары-Кунда?
— У меня приказа нет.— И упрямо, уже начиная раздражаться, Санджар крикнул.— Нет! И он мне не нужен. Санджар не нуждается в приказах. Он знает сам, что делать.
И, так как Кошуба молчал, он добавил:
— Разве мы плохо сражались? Вот-вот самого Кудрата сейчас мои джигиты затравят. Слышите, стреляют в горах?
— А все-таки приказ нужен. Вместе со мной поедете в Тенги-Харам. Там разберемся.
— Нет, мой отряд пойдет в горы...
— В Тенги-Харам. Вы поняли?..
— Это приказ?
— Да.
Лицо Санджара делалась все более суровым.
На лужайке у подножия каменной гряды медленно собирались добровольцы Санджара. Кудрат-бия не поймали. Мало того, что курбаши успел уйти, он разрушил за собой овринг и вынудил Кошубу возвращаться в Тенги-Харам той же головоломной тропой, по которой был совершен ночной марш.
Неудача эта не помешала торжественному въезду отряда в кишлак Сары-Кунда, правда омраченному плачем и заунывными воплями женщин. Сарыкундинцы оплакивали своих близких, замученных басмачами.
В центре кишлака находилось подобие общественного сада — место отдохновения и пиршеств, Сад Прохлады, как называли его жители Сары-Кунда. Здесь, в двух шагах от поросшего травой купола полуразрушенного мазара, в чайхане собрались бойцы обоих отрядов; старейшины кишлака дрожащими руками обнимали красноармейцев и санджаровских джигитов.
Разговоров в первый момент не было. Слышались только тяжелые вздохи, причитания, заглушённые стоны. Мно-
132
гие дехкане еле держались на ногах от утомления и ран.
Староста Сираджеддин, непонятным образом сохранивший и сейчас свою благообразную внешность, поспешил усадить избавителей на кошмы и паласы у мирно журчащего ручья. Пахло дымом. Поодаль на очаге стоял огромный котел. Утром в нем начали готовить пищу басмачи. Угли еще тлели в очаге; приятный запах жареной баранины и сала щекотал ноздри.
Видимо, бандиты уже успели приступить к утреннему завтраку: на разбросанных в беспорядке блюдах и тарелках видны были остатки еды.
Сираджеддин хлопотливо распоряжался. Ему помогал кузнец Юсуп.
— Эй, Ахмед!— закричал Сираджеддин.
Из низенького здания вышел с двумя чайниками в руках и со стопкой лепешек, завернутых в платок, сухонький старичок. Быстро семеня ногами в калошах на босу ногу, он подбежал к старосте.
— Вы что же? Плов, можно сказать, томится сколько уже, перепрел совсем, а вы, Ахмед-ота, медлите. Дорогие гости проголодались. Скорее тащите миски, блюда!.. Скажите, чтобы вам помогли молодые. Давайте-ка сюда.
Он взял из рук старика чайники и лепешки и понес к сидевшим в отдалении бойцам. Старичок засеменил вслед.
— Господин,— почтительно бормотал он,— господин староста, вы изволили сказать — плов?
— Да. Что с вами, папаша Ахмед?
Чайханщик Ахмед быстро повернулся и побежал к гигантскому котлу. Вытянувшись на носках, он снял крышку.
— Плов!
Резким движением Ахмед вдруг накренил котел. С шипением и урчанием желтоватая масса риса обрушилась прямо в огонь, вздымая тучи пара и пепла. По всему саду разнесся запах горелого масла, мяса. Истерический смех сотрясал тщедушную фигурку Ахмеда.
— Плов? — бормотал старик.— Собачья пища. Плов! Обед свиньям готовился, грязным, вонючим свиньям.
Он быстро побежал в чайхану и сейчас же вернулся, кряхтя под тяжестью большой, недавно освежеванной бараньей туши.
— Красные воины, вот мой баран, сейчас я вам из него изготовлю такое — язык проглотите. Да как он мог по-
133
думать,— продолжал старик скороговоркой, кивая головой в сторону все еще не пришедшего в себя от удивления Сираджеддина,— да как он мог угощать вас басмаческой стряпней! Ведь, подумайте, руками, испачканными кровью невинных жертв, они мыли рис, ножом, которым они только что перерезали горло злосчастной Хосиат-ой, они резали морковь и лук... Нет, я семьдесят лет блюду гостеприимство кишлака Сары-Кунда. Я не допущу...
И он начал тщательно мыть котел, всем своим видом показывая, что он сделает все от него зависящее, чтобы даже и запаха басмаческого плова в котле не осталось.
V
Голубым хрусталем мерцали ледники Гиссарского хребта, когда отряд бойцов Кошубы с песней о тачанке покидал кишлак Сары-Кунда. Детвора восторженными криками провожала конников. Женщины, забыв о том, что греховно в присутствии посторонних мужчин ходить с открытыми лицами, вели под уздцы коней славных воинов. Сарыкундинские девушки, о которых народные сказители говорят: «Легкость, изящество походки у них от стремительных кииков, стройность стана от молоденькой арчи, округлость грудей от гранатов, свежесть щек и слепящий блеск глаз от снеговых вершин»,— вплетали в гривы лошадей пламенеющие тюльпаны.
Бойцы смущенно отводили в сторону глаза. До сих пор жительницы горных кишлаков упорно прятали от них свои лица за полой накинутого на голову халата. Чаще же всего они, при появлении на кишлачной улице вооруженного человека, стремглав убегали. Ведь для воинов эмира в отношении крестьянских женщин все было дозволено, а искать защиты у курбаши или бека — значило попасть на ложе господина, а затем в холодные стремнины горного потока или на острые скалы пропасти, потому что любая женщина или девушка, «потерявшая стыд» даже в результате грубого насилия, по велению Ишана-Азиза — старца горы, должна была умереть.
Сейчас, отбросив всякие запреты, жительницы кишлака провожали своих избавителей.
У моста отряд остановился. По узкой тропинке, ведущей к кладбищу, быстро, почти бегом, двигались суровые
134
горцы, сгибаясь под тяжестью грубо сколоченных носилок, в которых лежало тело покойницы, обернутое в тонкую белую материю.
Храня полное молчание, нахмурившись, дехкане шли, ритмично раскачиваясь на ходу.
Санджар, ехавший рядом с Кошубой, проведя руками по лицу, громко, хрипловьтнм голосом спросил:
— Люди, куда вы спешите?
Мерген, в числе прочих дехкан несший носилки, ответил:
— К месту успокоения всех.
— Что вы несете?
— То, что служило обиталищем души.
— Был ли то мусульманин или была то мусульманка?
— То была дочь гор, невинная и чистая дочь мусульманина.
— Имя ее и кто ее отец?
— Имя ее Шарафат, отец ее,— голос старика дрогнул,— отец ее человек, известный под именем Мергена...
Крупная слеза скатилась по щеке старика и исчезла в густой, совсем побелевшей за сегодняшнюю ночь бороде.
Джалалов не выдержал и, наклоняясь к Санджару, пробормотал:
— Оставь, не мучь старика.
Но Санджар пожал плечами, как бы желая сказать, что есть вещи, в которых он не волен, есть обычаи, преступить которые не в силах ни он, ни кто бы то ни было. Он продолжал, волнуясь все больше.
— Люди! Умерла ли девушка, или насильственно вырван стебелек из земли?
— Выродок, именуемый курбаши Останкулом, затоптал конем своим цветок моей жизни, Шарафат.
И Мерген заплакал открыто, не стесняясь своих слез, тяжело всхлипывая, вытирая глаза тыльной стороной ладони и повторяя монотонно, в безвыходном отчаянии:
— Цветок моей жизни, Шарафат.
— Слеза за слезу,— закричал Санджар,— стон за стон, смерть за смерть!
Он поднялся на стременах:
— Дехкане, люди! Взгляните: взрослый мужчина плачет, как слабая женщина. Вы,— обратился он к участникам похорон,— вы продолжайте свой путь. Пусть тело девушки будет засыпано землей. И пусть каждая горсть
135
земли взывает о мести. Месть! Беритесь за оружие, дехкане. Если вы не вооружитесь, вас ждет страшная участь. Басмачи придут снова в кишлак и перережут вас, как мясник режет овец, а ваших детей, как бедную Шарафат, затопчут железными подковами лошадей.
Кузнец Юсуп взобрался на большой валун.
— Нет! Довольно!— кричал он.— Мы были беспечны, мы стали осторожны. Мы были покорны, мы теперь расправили плечи. Мы не будем больше подставлять горло под нож. Советские красные воины освободили наши души, когда на нас пахнуло затхлостью могилы. Мы стали советскими людьми. С сегодняшнего дня каждый, кто может держать палку в руке, становится красным воином. В нашем кишлаке с сегодняшнего дня будет добровольный отряд. У нас есть винтовки, пули, сабли, у нас есть вилы, кетмени, у нас есть камни, на которые не скупятся наши горы...
Он демонстративно развязал и снова потуже завязал поясной платок.
— Подпояшемся же на битву! С сегодняшнего дня я больше не дехканин, я воин, я большевой.
Из толпы послышались возгласы.
— И я! Я тоже!
Так родился добровольный отряд сарыкундинских мстителей, ставший грозой басмачей на много верст вокруг.
По команде Кошубы красноармейцы спешились. Принесли захваченные у басмачей винтовки, и сарыкундинские юноши, тут же выслушивая указания красноармейцев, стали разбирать их, смазывать, собирать снова. Кто-то, распевая воинственную песню о легендарном Восе1, правил басмаческий клинок оселком для точки серпов.
— Пошт, пошт! Берегись!
К валуну, на котором устроил свой штаб кузнец Юсуп, верхом на смирном ушастом ослике пробирался человек.
Он был в белой чалме, в синем суконном халате, в ичигах и кожаных калошах. Холеная, аккуратно подстриженная бородка ниспадала на воротник белоснежной рубашки.
____________________
1 Восе — вождь дехканского восстания, происшедшего в Восточной Бухаре в конце XIX века.
136
Поравнявшись с высокой, подвижной девушкой, примерявшей украшенную серебром красноармейскую шашку, приезжий брезгливо бросил:
— Ты что же, русское евангелие чтишь, неверная?
Горянка не растерялась.
— Что мне евангелие — я и корана не видела,— шутливо ответила она.
Кровь бросилась в лицо незнакомца.
— А много ли у тебя поклонников твоих прелестей, ты, беспутная?— прохрипел он.
И столько было ярости в его словах, что смех, шутки, разговоры в толпе сразу смолкли.
На глазах девушки заблестели слезинки. Она резко вскрикнула:
— Пусть борода твоя вылезет по волоску!— и закрыла покрасневшее лицо рукавом.
Приезжий взмахнул короткой заостренной палкой, которой он погонял своего осла. Лицо его стало белым, как бумага, щека подергивалась.
Рядом с ним очутился староста Сираджеддин.
— Хош! В чем дело? Здравствуйте, уважаемый, кто вы и что вам надо!
Приезжий поднял веки и осмотрелся. Глаза его встретились с внимательным взглядом Кошубы. И сразу лицо приезжего изменилось, стало приторно-ласковым, любезным.
— Здравствуйте, здравствуйте, мир вам, доблестные воины и трудолюбивые дехкане. Кто здесь староста? У меня к нему дело.
И он извлек из поясного платка свернутую в трубочку бумагу.
Сираджеддин помог приехавшему слезть с осла и взобраться на валун. Там послание было вручено кузнецу Юсупу, ставшему признанным начальником сарыкундинского доброотряда. Письмо читал, вернее разбирал Курбан. Все слушали молча, с глубоким вниманием. Только изредка чтение прерывалось возмущенными возгласами.
Документ гласил:
«Бисмилля-и-рахман-и-рахим! Дехкане Сары-Кунда. Именем того, кто взирает на вас недремлющим оком, еще призываем вас: одумайтесь! Мы с неисчислимым войском ислама стоим на горе и взираем сверху на ваши
137
безумства. Опомнитесь! Предупреждаем в последний раз.
Великой милостью его высочества, в воздаяние неоценимых заслуг и доблестей, проявленных в делах беззаветной и верной службы и преданности трону в трудную годину священной войны, мне, воину ислама Кудрат-бию, дарована сиятельная степень — парваначи. Надлежит всем без исключения подданным священного бухарского эмирата воздавать нам уважение и почести, оказывать беспрекословное повиновение, дабы мы могли проявлять еще больше рвения в служении делу пророка и спасения государства от грязной руки неверных. А потому приказываю отказаться раз и навсегда от дружбы с большевиками, снабдить воинов ислама, входящих в состав нашего отряда, пищей и питьем, а лошадей кормом и всем необходимым для ведения священной войны, а также отдать все оружие, захваченное нечестно во время последней битвы с воинами ислама. Сказано в письме все. Так да будет. Неповинующиеся погибнут, повинующиеся да возрадуются.
Кудрат-бий парваначи.»
Волна негодования и гнева взметнулась вокруг приезжего, воздух зазвенел от яростных выкриков. Но приезжий стоял спокойно, перебирая четки и всем своим невозмутимым видом стараясь показать, что происходящее его не беспокоит нисколько и вообще мало касается.
Наконец Сираджеддин обратился к нему:
— Как вы посмели сюда явиться? Сейчас я и двух копеек не дам за вашу голову.
— Да,— добавил Санджар,— вы попали головой в раскаленную печь.
В голосе Санджара звучала угроза, и приезжий невольно съежился под его жестким взглядом.
— Выслушайте меня. Я совершал путь в Байсун к святым местам. Утром близ кишлака меня остановил всадник и попросил доставить в Сары-Кунда письмо.
— Кто вы?
— Мюрид ишана Хамдама, раб божий.
Наскоро устроенный допрос в известной мере рассеял подозрение. Кошуба махнул рукой: «Мало тут шляется, по дорогам, этих ханжей».
133
Впрочем, внимание сарыкундннцев было отвлечено более важным делом — обсуждением ответа Кудрат-бию.
Кузнец Юсуп вручил мюриду бумагу и калям. Когда тот заколебался, Сираджеддин не без ехидства заметил:
— Вы ведь мюрид святого ишана Хамдама, а не святого Кудрат-бия...
Приезжий почувствовал в словах старосты угрозу и забормотал:
— Что вы, что вы! Воля ваша. Мы повинуемся.
Он сел на камень, скрестив ноги, и положил на левое колено лист бумаги.
— Вы, я вижу, опытный писец,— сказал кузнец Юсуп,— пишите.
И он продиктовал следующее послание:
«Вам, бандиту с черным сердцем, Кудрат-бию, пишем мы, дехкане Сары-Кунда. Наши детишки побрезгуют испражняться на твою покрытую паршой и прочервивевшую голову, они найдут для этого дела местечко почище. Свет справедливости и храбрости сияет в наших сердцах. Благородная советская власть — наша мать. Большевики — наши руководители. Эмир — кровожадный тиран, а вы его палач, и судьба ваша имеет длину в два-три коротких зимних дня. На угрозы ваши мы плюем, как на падаль... Союз малоземельных дехкан Сары-Кунда: кузнец Юсуп, староста Сираджеддин, Мерген, Абдували и еще сто десять дехкан».
Курбан, взяв из рук приезжего письмо, громко прочитал его. Каждый из присутствующих подошел и приложил к бумаге медную печатку или большой палец, предварительно послюнявив и помазав его чернильным карандашом.
Затем письмо было вручено мюриду с приказом немедленно передать по назначению.
Прежде чем вернуться в Тенги-Харам, Кошуба предпринял совместно с Санджаром операцию в окрестных горах против кудратбиевской шайки. Но, несмотря на деятельную помощь сарыкундннцев и жителей соседних кишлаков, басмачей обнаружить не удалось. За двое суток горных маршей не было сделано ни одного выстрела. Кудрат-бий избегал столкновений. Впрочем, это была обычная басмаческая тактика: уклоняться от открытого боя, жалить исподтишка.
139
VI
По неезженным и нехоженным тропам, через безвестные перевалы отряд возвращался в Тенги-Харам, где была оставлена экспедиция.
Кроме постоянного проводника экспедиции, Ниязбека, который принял участие в сарыкундинском походе, путь по горным тропам указывали три горца-таджика, взятые из безымянного кишлачка, забравшегося к самой линии вечных снегов.
Перед тем как вступить в ущелье, каждый осмотрел сбрую, коня и в особенности подпруги. Проводники, пошептавшись, сказали:
— Места дальше пойдут серьезные. Дорога испортилась, нехорошая стала. Придется набраться терпенья, если хотим пройти.
Настроенный несколько легкомысленно, Санджар заметил:
— Из терпенья и халву можно сварить. Пройдем. И двинулся вперед.
Южный склон ущелья был совершенно гол и гладок. Скала почти отвесно обрывалась вниз. Кругом солнце и камни, а из черной щели, куда предстояло проникнуть, тянуло сыростью и прелью и доносился монотонный рев невидимого водопада.
Пока шел отлогий склон, лошади весело шагали, а всадники бодро посвистывали и покрикивали. Один из горцев даже затянул песню.
Но едва караван вошел в тень, падавшую от скалы, настроение у всех испортилось. Кое-кто с тревогой поглядывал на глыбы гранита, угрожающе нависшие над тропой. Раздался неуверенный возглас: «Где же тут дорога?»
Кто-то выразил общее настроение: «Да тут из-за камней в два счета перещелкают. И не увидешь, кто».
Внезапно заволновались и проводники. До сих пор они вели отряд добросовестно, сами торопили, помогали. А тут подошли к Кошубе, разговаривавшему с Санджаром, и поклонились чуть ли не до земли.
— Что вам?— недовольно спросил Кошуба, весьма подозрительно относившийся к чрезмерным знакам почтительности.
Старший из проводников вдруг начал вздыхать и жаловаться на горы, на горькую судьбу бедняков, на прокля-
140
тую погоду, которая портит дороги, на ломоту в костях. Командир терпеливо слушал и, только дождавшись паузы, резко спросил:
— Чего, я спрашиваю, вы хотите? Есть дальше дорога или нет дороги?
Тут горец окончательно разохался. Он начал уверять, что вообще дальше начинается джинхона — жилище злых духов. С неба там сыплются камни величиной с дом, бесы хохочут в пещерах и пугают лошадей. Дороги же вообще нет, правда, она, может быть, и есть, но обрушилась. Мост через речку был прежде, а теперь его снесло паводком. Речку вброд перейти нельзя. Самое же главное — овринг. Пусть подохнут эти эмирские чиновники да басмачи. Уже два года никто не чинит овринг и ни одной новой палки не воткнули...
Санджар рассвирепел.
— Зачем вы сюда нас затащили? Сколько мы потеряли времени!
— Пройти невозможно,— невозмутимо твердил проводник.
В добродушном лице горца было столько тупого упрямства, что, казалось, его ничем нельзя было преодолеть.
Забитое население горной страны, входившей в состав владений эмира бухарского, боясь всяких налоговых сборщиков и чиновников, старалось отгородиться от их разорительных визитов стеной бездорожья. Горцы нарочно строили свои кишлаки в малодоступных местах; бывали случаи, когда жители горных ущелий портили овринги и делали горные тропы временно непроезжими. В качестве проводников кишлаки выделяли обычно людей ловких и умных, умевших запугать знатного и изнеженного представителя власти рассказами об опасностях пути.
Трудно было допустить, что сейчас горцами движут те же соображения — все население Кок-Камарского нагорья уже знало о том, что красные войска спасли сарыкундинцев от гибели.
Был единственный способ сломить упрямство проводников.
И Санджар этот способ избрал.
Он резко бросил:
— Ну, вы неженки и лежебоки, боящиеся натереть мозоли на своих ножках,— и, щелкнув в воздухе камчой, тронул коня.
141
Не оборачиваясь, Санджар ехал по ущелью и напевал вполголоса песенку, слов которой нельзя было разобрать. Ниязбек последовал за командиром.
Проводники потоптались на месте, пошептались и побежали вслед за отрядом. Через минуту порядок восстановился. И когда всадники подошли к оврингу, впереди, как и раньше, шли проводники-таджики, посохами ощупывая опасные места; за ними шел, ведя под уздцы свою лошадь, Ниязбек, дальше ехал верхом не пожелавший спешиться Санджар.
Не спешился он и на самом овринге. Степняк, привыкший к равнинам, где дорога была широка, как степь, Санджар не любил гор и на опасных узких тропах больше доверял своему испытанному коню Тулпару, чем себе. Командир ехал, сжав губы и смотря прямо перед собой, боясь бросить взгляд вниз, в неумолимо тянувшую к себе бездну. Санджар всегда говорил, не стесняясь, что боится этих шатких и неверных оврингов и что у него на краю обрыва просто голова кружится.
Здесь же надо было пройти овринг длиной с версту.
Трудно, не побывав в горах, представить себе эти скалистые «дороги» Кухистана. Издревле горцы строят на обрывистых склонах ущелий овринги. Пользуясь малейшими выступами, устанавливают по возможности прочно дреколья, укрепляя их концы, там где это необходимо и возможно, глыбами камня. Как трудно установить такую основу у карниза, можно судить хотя бы по тому, что иной раз работа ведется на высоте пятисот-шестисот метров над пропастью, а то и выше. На дреколья укладываются бревна или жерди, концы которых закрепляют в щелях и расселинах каменной стены. На эту основу овринга набрасывается хворостяная настилка, мелкая галька, песок.
Жидкий, трясущийся помост часто идет зигзагами, иногда ступеньками в виде лестницы. Когда движется вьючный караван — группа всадников, угольщики со своими ишаками, — все это зыбкое сооружение угрожающе трещит, колышется и, кажется, вот-вот обрушится в бездну.
Осторожно, в полном молчании, двигался по оврингу отряд бойцов. Тулпар легко притрагивался копытом к настилу и, только уверившись в прочности его, твердо ступал ногой. От непрестанного напряжения конь дрожал мелкой дрожью, и дрожь эта передавалась Санджару.
142
Слегка прищурив глаза, командир поглядывал на тяжело шагавшего коня Ниязбека, на самого Ниязбека, идущего пешком впереди, и на горцев, шедших беспечным шагом, заложивши руки с посохами за спину под вздернутые халаты. Все это видно было хорошо, так как карниз поднимался круто вверх и проводники, Ниязбек и его конь были выше Санджара.
Несчастье произошло неожиданно. Показалось или нет Санджару, но Ниязбек вдруг остановился и резко обернулся. На минуту командир увидел болезненно искривившееся его лицо. Что-то резко щелкнуло. Конь Ниязбека с диким ржаньем встал на дыбы, заслонив черной тенью тропу и людей. Испуганно храпя, Тулпар попятился и начал оседать на задние ноги. Под ним затрещал хворостяной настил, посыпались камни. А конь Ниязбека все еще стоял прямо, как бы танцуя, и раскачивался над бездной на задних ногах. Жалобное ржание его перешло в пронзительный визг. Санджар холодеющими руками рванул повод и заставил Тулпара тоже встать на дыбы. И во-время... Конь Ниязбека, сделав последнее усилие удержаться на овринге, повернулся на задних ногах вокруг своей оси, с грохотом упал на самый край овринга и, увлекая за собой камни, песок, колья, повалился вниз, в ущелье. Не подними Тулпара Санджар, конь Ниязбека сбил бы его с ног и увлек за собой в пропасть с высоты по меньшей мере в полкилометра.
Но и сейчас Санджар с ужасом чувствовал, что Тулпар балансирует на задних ногах, как на натянутом канате, почти потеряв равновесие. Запомнился противный скрип от трения тела о каменный выступ. Командир все пытался лечь на шею коня, а конь запрокидывался назад, переступая копытами по неровному, предательски колеблющемуся настилу овринга. Из-за спины доносились дрожащие голоса Курбана и Медведя, старавшихся успокоить коня.
Каждый понимал, что, оступись Тулпар, подломись какая-нибудь жердочка — и командир погиб. Для самого Санджара эти минуты тянулись как вечность. Шепотом он молил:
— Над бездной гибели ты, Тулпар, один мой друг и хранитель. Друг, держись... Я — как младенец в руках матери... Донеси меня. Не брось мое тело в пучину могилы.
Вздох облегчения вырвался из груди Санджара, когда, наконец, передние ноги Тулпара медленно опустились на
143
карниз. И конь и всадник дышали тяжело, со свистом. Бока Тулпара покрылись клочьями пены.
Только теперь до слуха Санджара дошли свирепые выкрики Ниязбека. Размахивая тяжелым револьвером, он наступал, отчаянно жестикулируя, насколько это было возможно на узком пространстве овринга, на проводников, и проклинал их, на чем свет стоит. Горцы, с ужасом поглядывая то на беснующегося человека, то далеко вниз, в ущелье, где на камнях, заливаемых вспененной водой, лежало изуродованное тело великолепного коня, победителя многих состязаний, твердили:
— Ох, господин! Виноваты, господин!
Отмахиваясь от назойливых звуков голоса Ниязбека, Санджар пытался привести в порядок мысли. И только одно он мог вспомнить: где-то и кем-то сказанные слова об овринге в горах Зеравшана. Будто там, на скале, над пропастью высечено:
Будь осторожен, как слезинка на реснице,
От тебя до смерти только шаг.
Наконец Санджар пришел в себя. Потрепав Тулпара по взмокшей шее, он сказал:
— Ну друг! Поехали.
Тулпар шагнул вперед. Тогда Ниязбек, обернувшись, закричал:
— Надо наказать этих мерзавцев!
Слабым жестом руки Санджар махнул вперед.
— Они нарочно покатили камень, чтоб напугать моего Серого,— кричал Ниязбек.— Требую наказания, не то я сам пристрелю их.
Нехотя разжав зубы, Санджар все еще нетвердым голосом сказал:
— Потом поговорим... Пошли.
— Мы не бросили камня,— крикнул пожилой проводник,— мы ничего не делали. Мы шли и шли.
Санджар прервал его.
— Идем! Будем говорить потом!
Караван тронулся. Каждый, проходя над местом, где произошел несчастный случай, с замиранием сердца поглядывал на распластавшийся далеко внизу труп коня.
Вдруг на лицо Санджара упала тень. Он невольно посмотрел вверх. Тяжело взмахивая черным с белыми крыльями, над ущельем кружились громадные птицы. Одна
144
другая... Они спускались все ниже. Не прошло и десяти минут, как множество их уже летало над рекой, над погибшей лошадью. Это были стервятники. Когда отряд заворачивал на скалу, зловещие птицы сидели на горных выступах, все еще не решаясь опуститься вниз и приступить к пиршеству.
— Огонь опалил наши души, когда мы увидели, что смерть подбирается к вам, хозяин,— заговорил проводник, когда отряд выбрался на широкую зеленую поляну.
Держась за стремя, он смотрел на Санджара, и в лице, в глазах его было столько искреннего беспокойства, что сомнения, мелькнувшие на мгновение в голове командира, совершенно исчезли. Санджар с улыбкой слушал взволнованные слова сочувствия и упрека.
— Зачем вы не сошли с коня, таксыр. Часто путь на перевал кончается в раю. А еще у нас в горах говорят: за сотню лучших скакунов не отдавай своих двух ног.
В сжатых губах Санджара почувствовалось нетерпение. Он отвык уже от наставлений.
— Хорошо, братец. Где бы здесь отдохнуть?— прервал горца Кошуба.
Проводник повернулся и сказал:
— Здесь близко.
Крутая тропинка привела к зыбкому мостику, качающемуся над бездонным, сузившимся здесь до нескольких метров, ущельем. Даже Санджар вынужден был слезть с коня и перейти на другую сторону пешком, ведя под уздцы косящего безумными глазами и стригущего ушами Тулпара.
У скалистого обрыва в тени большого карагача пряталось жилище угольщика — благообразного, крепкого горца с длинной седой бородой. Вся усадьба состояла из бедной, но очень опрятной хижины, на крыше которой стояли аккуратно сложенные башенки кизяка, и овчарни, прилепившейся к огромному, величиной с двухэтажный дом, валуну. Выше, на склоне горы, стоял каменный скелет полуразрушенного мазара.
Пока Кошуба, Санджар и Ниязбек беседовали с угольщиком, Медведь и Джалалов с наслаждением умывались ледяной водой ручья, пахнущей мятой и неуловимой горной свежестью. Медведь намылил голову и лицо и, плюясь розовой пеной, ворчал:
— Нет, тут нечистое дело.
145
— Думаете, эти горцы?
— Какое там!.. Они нас уважают.
— А камень?
— Я камня не видел.
— Я тоже...
Сложив в мешок мыло, зубную щетку и полотенце, Медведь вручил все это Джалалову и кратко заявил:
— Ну, я пойду. Спросят — скажи, пошел пройтись! проветриться.
Если бы внимание Медведя не было целиком отвлечено крутым и опасным спуском по каменистым осыпям, он заметил бы пробиравшегося вслед за ним среди камней и кустов фисташки, барбариса и горной ольхи одетого во все темное человека. С величайшим интересом человек следил за каждым движением Медведя, чмокая от удивления губами, когда старик ловко и легко пробирался по опасным крутизнам. Сам преследователь не отставал от него ни на шаг, скользя, как тень, и не производя ни малейшего шума. Вскоре эта предосторожность стала излишней, так как внизу, на дне сырого и мрачного ущелья шум бешеного голубого потока полностью заглушал все звуки.
Теперь стало ясно, куда шел Медведь. Очень высоко, чуть заметной чертой на красноватой, вертикально падающей груди горы тянулся овринг, по которому недавно прошел отряд. Прыгая и скользя по захлестываемым водой скользким глыбам, пробираясь местами на четвереньках Медведь, наконец, добрался до цели. Неслышно взмахивая гигантскими крыльями, от туши лошади оторвались безобразные птицы. Массивные, крючковатые клювы и огромные, похожие на железные крючья когти их были запятнаны липкой кровью. Медленно и угрожающе кружились они над человеком, осмелившимся помешать их трапезе, но так и не решились напасть на непрошенного гостя.
Холодок пробежал по спине Медведя и тошнотворное чувство поднялось к горлу, когда он увидел распоротое брюхо недавно еще красивого, горячего, как ветер, коня Ниязбека. Медведь присел на корточки около истерзанной туши животного и начал тщательно осматривать его грудь и шею. К счастью, он поспел во-время, стервятники успели распотрошить только брюхо лошади.
Через минуту Медведь крикнул:
— Я так и знал!
146
Ни он, и никто другой, конечно, крика этого из-за шума реки не смог услышать, но в то же мгновение Медведь инстинктивно обернулся. Рядом с ним стоял проводник и с любопытством следил за его движениями. Горец улыбнулся, показав в густой заросли бороды ряд ослепительно белых зубов, и, успокоительно закивав головой, наклонился к лошадиной туше. Одним ударом ножа он вспорол кожу мышцы на груди лошади и протянул Медведю небольшой кусочек металла.
— Пуля!— закричал Медведь.
Хотя таджик ничего не услышал, но по выражению лица Медведя он, очевидно, сообразил, в чем дело, и понимающе закивал головой. Он поднял кулак и потряс им по направлению висящего высоко над их головами овринга, а затем в сторону хижины угольщика, где расположился на отдых отряд.
По дороге проводник молчал. Уже на самом верху тропинки он проговорил:
— Шакал крадется по следу льва.
— А? Что вы сказали?— удивился Медведь, но горец снова замолк.
Только часа через два Медведь и проводник выбрались на дорогу. Шатаясь от усталости, они дошли до усадьбы угольщика. Кошуба, стоявший у ворот, издали кричал:
— Эгей, Медведь, вы опаздываете к плову! Поторапливайтесь.
— Смотрите,— показал старик пулю.
Командир покачал головой и окликнул Санджара. Тот ничего не сказал, но лицо его потемнело.
Подошел встревоженный Ниязбек. Он посмотрел на пулю, взял ее и повертел между пальцев.
— Так и знал,— заметил он,— так я и думал... Иначе почему бы ни с того, ни с сего мой Серый стал на дыбы?
— А зачем вы стреляли?— вырвалось у Медведя.
— Ох, вы напрасно трудились, уважаемый,— сказал Ниязбек, улыбнувшись.— Когда эти проклятые таджики потревожили камни, и они посыпались на нас, я испугался. Я подумал, что они злоумышляют плохое, ну и вытащил револьвер... Когда я взмахнул им, он сам собой выстрелил. Я не знал только, что попал в Серого. Бедный Серый.
С минуту Санджар испытующе смотрел в лицо Ниязбека.
147
— Ну, мы тут заболтались,— медленно проговорил Кошуба,— там ужин перепарится...
Вечером к костру, где сидели Джалалов, Медведь и несколько красноармейцев, подошел Кошуба. Закурив свою люльку, он вдруг со злостью сказал:
— Память у меня отшибло что ли в этих горах...
Медведь хмыкнул что-то под нос. Остальные с любопытством повернули головы к командиру.
— Этот святоша на ишаке, письмоносец Кудрат-бия. знаете, кто он? Он нас в Янги-Кенте угощал. Как его... Смотритель вакуфа Гияс-ходжа.
Все теперь припомнили, что, действительно, это был тот самый мутавалли.
Сердито кашлянув, Кошуба добавил:
— Странно... Что ему тут нужно? Под ногами крутится. Следовало бы...— Что хотел сказать командир, так и осталось непонятным.
VII
Санджар был мрачен. Нервничал.
Даже его конь Тулпар потерял свой гордый, независимый вид и то, косясь и фыркая, ошалело рвался вперед, напирая на соседних всадников, то пугался кустиков на обочинах дороги. Настроение всадника передавалось коню...
Нервозность Санджара была вызвана приказом оставить экспедицию и вернуться в район Гузара, где добровольческий отряд должен был патрулировать большой Термезский тракт.
Кошуба недвусмысленно пояснил Санджару, что нарушение дисциплины может вызвать большие неприятности. Самовольное выступление в районе Сары-Кунда также грозило командиру доброотряда серьезными последствиями. Об этом говорили все в экспедиции.
Санджар все понимал. Не раз он натягивал решительно поводья, не раз с уст его готов был сорваться приказ отряду повернуть обратно... И все же он продолжал ехать вперед.
Он гарцевал около самого колеса скрипучей арбы. Под полукруглым нарядным навесом ее, расписанным затейливым орнаментом, ехала, вместе с другими женщинами, Саодат.
Санджар говорил что-то горячо, убеждающе. Саодат, умудрявшаяся на тряской арбе вышивать шелками на
148
платке яркий узор, слушала, изредка пожимая плечами. Вдруг она подняла голову. Медведь, ехавший позади арбы, услышал голос Санджара:
— Все равно я не откажусь от вас...
— Вот что, товарищ командир,— спокойно перебила его Саодат,— нам очень надоедает визг и стоны колес нашей арбы. Вы попросили бы нашего сердитого возчика Мумина смазать их. Из уважения к вам, он, несомненно, сделает.
Ошеломленный Санджар даже остановил лошадь. Какого угодно мог ждать он ответа, только не такого. Глаза его жалобно заморгали, губы искривились.
Медведь сочувственно поглядел на Санджара и, протянув ему папиросу, добродушно заметил:
— Что, джигит, с женщинами-то потяжелее, чем с Кудратом, воевать?
— Посмотрим...— И, хлестнув злобно коня, Санджар умчался вперед.
— Ей-богу,— прошептал Медведь,— честное слово, он ее украдет.
Санджар в сопровождении Джалалова, Курбана и трех бойцов подъезжал к Дербенту.
Караван остался позади, у Железных ворот.
Несколько раз за последний день Курбан замечал на боковых тропах, лепившихся по склонам крутых невысоких гор, поросших мелколесьем, кудратовских головорезов. Боясь нападения в самом ущелье, на узкой дороге, сдавленной с обеих сторон грозными, почти черными скалами, Кошуба выслал вперед Санджара разведать — свободен ли путь впереди.
В Дербенте был базарный день. Большая чайхана на площади перед базаром была полна народа. Пастухи и крестьяне, спустившиеся из окрестных долин в кишлак не столько ради торговых дед, сколько ради того, чтобы послушать новости, заполняли большой помост около чайханы.
Поодаль, на земляном возвышении, покрытом красным паласом, чинно восседала местная знать — дербентский казий, имам, несколько баев и богатых скотоводов.
Сегодня, кроме обычных базарных дел, их привлекала сюда весть о предстоящем приезде экспедиции.
149
С помоста, на котором разместились дехкане, доносился голос:
— Огонь высекала молния его меча, конь его летел быстро, как горный поток, куда бы он ни устремлялся, он был подобен буре, и враги падали перед ним, видя за его спиной крылья ангела смерти...
Кто-то спросил:
— И давно он так воюет, Касым-домулла?
— Не перебивай...— Молодой человек в одежде городского покроя, читавший рукописную книгу, досадливо посмотрел на спрашивавшего и продолжал: — На своем быстром, как стрела, коне он устремился на дива, а ростом тот был с вабкентский минарет, а усы его тянулись вверх как чинары, уши же были, как одеяла: одно он клал под себя, другим покрывался. Увидел див батыра, да как заревет: «Человечиной пахнет! Вот на обед будет у меня шашлык из человечины!» Но батыр взмахнул мечом, и див остался без головы.
Тут чтеца перебили: дербентский казий, известный в народе как Сутхур-кази, то есть судья-ростовщик, вдруг поднялся, не торопясь одел кауши и, подойдя к помосту, спросил чтеца:
— Скажите, домулла, в вашем великолепном дастане, царе всех дастанов, кто этот богатырь? Ведь без иносказания песня пресна.
Читавший посмотрел на длинную фигуру казия и почтительно ответил:
— Так написано в книге. Я не знаю никаких иносказаний.
Женоподобный юноша Маннон, как всегда, следовавший за казием, вмешался в разговор:
— Господин казий! Этот человек читает повсюду свою писанину о богоотступнике Санджаре, а див — это, да не прогневаются на меня, сам Кудрат-бий.
Лицо казия медленно багровело. Он так посмотрел на чтеца, что тот вскочил на ноги и, пряча за спиной книгу, отступил к окружавшей его группе слушателей. Тогда с неожиданным проворством казий наклонился, сорвал с ноги кауш и ударил им чтеца по лицу.
Ошеломленный юноша мял в руках книгу и жалобно повторял:
— Не бей, не бей, за что бьешь?
150
— Убирайся отсюда!— заорал казий. Лицо его посинело, надулось и, казалось, вот-вот лопнет.— Убирайся!
Баи, сидевшие на возвышении, одобрительно кивали головами. Дехкане, поднявшиеся со своих мест, мрачно топтались вокруг чтеца, не зная, что предпринять. Тихо, но явственно послышались слова: «Ростовщик!» «Мздоимец!»
 Трудно сказать,
чем кончилась бы разыгравшаяся в чайхане сцена, если бы внимание спорящих не
было отвлечено восторженными криками мальчишек: из узкой улочки на площадь
въезжал небольшой отряд Санджара.
Трудно сказать,
чем кончилась бы разыгравшаяся в чайхане сцена, если бы внимание спорящих не
было отвлечено восторженными криками мальчишек: из узкой улочки на площадь
въезжал небольшой отряд Санджара.
Чайханщик, несколько одетых побогаче дехкан, местный имам, сам казий столпились у входа в чайхану. Послышались приветственные возгласы, добрые пожелания, расспросы о здоровье, о делах. Каждый спешил чем-нибудь проявить свое внимание.
После долгих приветствий все уселись на паласе, постеленном прямо на берегу хлопотливого ручейка, выбегавшего из-под корней векового вяза.
Санджар оглядел собравшихся. Перед ним сидели люди почтенные, благообразные. Вот, пощелкивая ногтем по краю пиалы, чтобы привлечь внимание, ему протягивает кок-чай сам дербентский казий, неоднократно и громогласно декларировавший свою преданность советской власти и нагло ожидающий за это всяческих милостей. Его одутловатое, желтое лицо растянулось в напряженной улыбке, но в маленьких свиных глазках судьи-ростовщика тлеют искорки откровенной ненависти. Санджару известно, что казий и до сих пор держит в своей паутине сотни дехкан окрестных кишлаков. Рядом с казием сидит ишан Нурулла-ходжа. Его совсем молодое, оттененное вьющейся бородкой лицо, ласковая усмешка скрывают властный, непреклонный характер одного из главных ишанов гиссарской святыни Хызра-Пайгамбара. Ишан Нурулла-ходжа несметно богат. Его земельные владения исчисляются многими сотнями, а может быть, и тысячами запряжек волов. На его землях работают тысячи издольщиков и батраков. Сюда, в Дербент, он приехал, очевидно, собирать доходы с вакуфных земель. Но Нурулла-ходжа тоже выступает против эмира. Он даже называет себя «большевиком». В первый же год после революции в Бухаре он пошел навстречу желаниям издольщиков и батраков, роздал им часть земли и тем заслужил самую широкую их признательность. Своим авторитетом, как он всегда во всеуслы-
151
шание подчеркивает, ишан запретил своим людям вступать в басмаческие отряды. «Но почему же тебя, бедную лису, не трогают курбаши?» — думает Санджар, испытующе вглядываясь в лицо Нуруллы-ходжи. Санджар переводит глаза на толстую, жирную физиономию пожилого человека с маленькими хитрыми глазами. Как его зовут по-настоящему, мало кто знает, да это никого и не интересует. Известен он всем в Гиссаре, и в Кухистане, и в Самарканде, и на Аму-Дарье под прозвищем Чунтак, то есть «карман». Он незаменим как поставщик фуража частям Красной Армии. Доставляет он ячмень и клевер по удивительно дешевым ценам, но никакого основания верить в его бескорыстие, конечно, нет. Ходит он всегда в потертом халате верблюжьего сукна, появляется словно из-под земли, когда бывает нужен, и исчезает, по миновании надобности, столь же внезапно и таинственно. Кошуба говорит о Чунтаке: «Не иначе, он и кудратбиевских лошадок кормит, но... не пойман — не вор».
В кого ни вглядывался сейчас Санджар,— все это были люди известные, родовитые, байская белая кость. Был тут помещик из Варзоба, торговец скотом из Кабадиана, скотовод с низовьев Сурхана, крупный поставщик зерна из Янги-Базара.
А когда беседа стала оживленной и от новостей перешли к анекдотам и острословию, неожиданно появился вездесущий Гияс-ходжа.
«Чего они от меня хотят?— думал Санджар.— Зачем они собрались?»
Он молча слушал разговоры, молча ел.
— Вас заботят какие-то печали,— заметил Бутабай, один из старейшин племени локайцев, жителей сурового Бабатага.
Бутабай был очень богат, пожалуй, богаче всех присутствующих, и известен, как непримиримый и кровный враг локайца же, басмаческого курбаши Ибрагим-бека. Только это и избавляло до поры до времени Бутабая от ответа, так как отлично было известно, что он беспощадно эксплуатирует многочисленных крестьян-бедняков в своих поместьях.
— Да, дела,— уклончиво ответил Санджар.
Он едва терпел этого Бутабая, напоминавшего ему те, совсем недавние времена, когда он, Санджар, будучи пастухом, пас стада вот такого же богатея в своей родной степи. Помнил Санджар и черствую лепешку, и рваный халат,
152
нисколько не защищавший тело от пронизывающего дождя и от свирепых ветров.
Разговор не клеился. Но вот прибежал женоподобный спутник казия с запиской от секретаря исполкома: Джалалова вызывали по какому-то вопросу в исполком.
После ухода Джалалова Бутабай подмигнул казию и добродушно заметил:
— Плохо, когда мусульманин не имеет сына.
Все посочувствовали.
— Плохо мне. Четырех жен имею по закону сейчас. Трем женам дал развод за бесплодие, и все нет мне благословения и милости.
— Есть весьма одобряемый нашим шариатом обычай,— важно заговорил казий. Усыновите достойного юношу и сделайте его своим кровным сыном.
— Да, но где найдешь такого джигита, который стал бы опорой нашей старости?
Занятый своими мыслями, Санджар невнимательно слушал разговор, никак не относя его на свой счет. Поэтому он был поражен, когда вдруг казий со сладчайшей улыбкой протянув обе руки к Санджару, проговорил:
— Да вот! Вот вам, Бутабай, долго и искать не нужно. Санджар-батыр! Известный воин! Ни отца, ни матери у него нет! Он сирота.
Бутабай, весь просветлев, обратился к Санджару:
— Сынок Санджар, ведь у тебя нет отца. Негде тебе, бедному, преклонить усталую голову. Будь моим сыном. Мы одного рода с тобой. Будешь жить у меня, будешь богат, будут у тебя кони, равных которым нет ни у кого! Соберем тебе от наших небольших достатков калым для выкупа красивой белогрудой жены...
Теперь Санджар начал понимать, что весь разговор был заранее подстроен. Но как поступить? Что ответить? Ведь отказаться от усыновления,— значит нанести жестокую, кровную обиду; это значит приобрести смертельного врага в лице обиженного. Наконец, отказ мог произвести неблагоприятное впечатление и на сидевших в чайхане горцев, еще полностью преданных обрядам дедов. Мысль Санджара усиленно работала. Тут вмешался казий.
— О, я вижу уже перед глазами великолепный той по случаю такой радости. Скорее же, Санджар-ака, произнесите установленные обычаем слова: «Я сирота...». Повторяйте за мной: «Я сирота, лишенный отца и матери. У вас
153
нет сына, я буду вашим сыном, у вас нет дочери, я буду вашей дочерью...» Что же вы молчите?
— Послушай нашего совета, Санджар-друг,— сказал ишан Насрулла-ходжа.— Лишенный отцовских наставлений, ты не всегда избираешь правильный путь. Свою богатырскую силу ты тратишь не на пользу народа. Такой отец, как Бутабай-ака, прославленный хозяин, серьезный, уважаемый, имеющий жизненный опыт, сумеет тебе дать направление.
«Отказ мой им нужен, чтобы опозорить меня в народе, — напряженно думал Санджар. — Они скажут всем: «Вот этот большевик Санджар, собака Санджар топчет ногами мусульманский обычай, он наплевал в бороду такому уважаемому человеку, как Бутабай».
— Ничего, господа баи, не выйдет,— прозвучал вдруг спокойный голос Курбана. Он сидел неподалеку от Санджара и, целиком занятый кабобом из курицы, до сих пор не произнес ни одного слова.
— Ничего не выйдет из вашего уважаемого предложения,— повторил он, вытирая масляные руки о голенища сапог.— Да будет благословение пророка над вашими благоухающими словами, но не может же юноша стать сыном одновременно двух отцов.
— Как двух отцов?— подозрительно спросил казий.— У Санджара-батыра нет отца.
— Прошу извинения, мудрейший казий,— в голосе Курбана зазвучали почтительные нотки, прошу, прошу извинения. Скажите, если мать выходит замуж, то кем является, на основе исламских установлений, новый муж для детей той матери?
— Э... отчимом, конечно!
— Вот именно, а кто такой отчим, как не отец... по закону, конечно.
— Да, но Санджар...
— Да будет известно, что почтенная мамаша нашего друга Санджара вышла в свое время замуж и пребывает в законном браке с беком Денауским, находящимся в добром здравии и поныне.
Мельком взглянув на удивленное лицо Санджара, он прибавил:
— Не важно, что наш Санджар-бек не ищет встреч со своим отчимом и не знает его, но отчим-то у него есть, отец у него есть.
154
Обведя прищуренными глазами растерянные лица баев, Курбан произнес:
— Кажется, все покушали...— Протянув руки, он прочитал послеобеденную молитву. «Хейли баррака, таани саалык...», закончил ее протяжным «О-мин» и, подхватив под руку Санджара, увлек его к выходу из чайханы, где стояли их кони и где их ждал уже Джалалов.
— Не знаю, зачем посылали за мной из исполкома,— сказал он.— Секретарь плел, плел какую-то чепуху. Ничего не понял.
— Наверняка подстроил тот женоподобный юноша,— прошептал Курбан Джалалову,— вы им мешали.
Санджара и его спутников провожали только плохо одетые дехкане.
Молодой горожанин, читавший книжку про богатыря, с горечью говорил вполголоса:
— Санджар-ака! У них только на губах мед, в глазах— сахар, они только по виду друзья Советов, а мысли их черные, морды их распирает от жира, который они высасывают из наших костей. Подождите, бедняки вцепятся в их глотки. О, мы быстро заберем себе все — и землю, и скот, хочется это или не хочется этой черной силе... сидящему на нашей шее лиху...
Санджар смотрел на черные огрубевшие под ветрами горных вершин лица дехкан, на мозолистые руки, сжимавшие отполированные ладонями многих поколений пастушеские дубины.
— Товарищи, вы слышали о Ленине?
— Да,— сказал один горец,— он был выше и здоровее других. Да, мы у себя, среди камней и льдов, слышали это священное имя. Увидев страдания всех, кто собственными руками добывает себе хлеб, Ленин сказал: «Доколе будут течь слезы по земле?» Он уничтожил баев и помещиков. По слову Ленина, русские рабочие и дехкане сбросили с золотого трона белого царя.
Тогда заговорил Касым:
— Красные воины оседлали молниеподобных коней и бурей ворвались в город великолепия, где домов столько же, как у нас камней... Ленин из этого города написал огненное слово всему народу. На призыв Ленина единодушно откликнулись все несчастные, угнетенные. Воспрянув, как гордый сокол, Сталин воскликнул: «Мы готовы!» и повел гневный народ в бой.
155
Высокий горец добавил:
— Бухарские баи спрятали письмо Ленина... Пользуясь нашей неграмотностью, они сказали, что, прогнав и низринув в прах царей, Ленин отдал власть богатым людям, потому-де, что они уважаемы и мудры. Баи приказали нам, простодушным, воевать против большевиков. «Так,— они говорят,— сказал Ленин...». Но мы знаем теперь, что нас бессовестно, коварно обманули. Мудрый Ленин так не говорил, ибо он ненавидел богачей и любил простой народ.
— Ты прав, друг,— сказал Санджар.— Не верьте баям и помещикам. Верьте Советам, избранным самими рабочими и крестьянами. И от эмирских и байских порядков не останется ни пылинки. Это зависит от вас, друзья. Выполняйте заветы Ленина, помогайте Красной Армии, громите поганые гнезда басмачей. Помните — с первых дней революции Красная Армия была вместе с рабочими и дехканами в горе и веселье, в битве и на празднике ликования.
Высокий горец ответил за всех:
— Мы знаем. Благодаря большевикам мы стали людьми.
Санджар и его спутники ускакали.
... Уже проехав мост через бурную, изжелта-мутную Ширабад-Дарью, Санджар обернулся к Джалалову:
— Слышали? Никогда, никогда народ не позволит, чтобы на эту землю легла леденящая душу тень эмира.
Выслушав рассказ о посещении разведчиками Дербента, Кошуба долго молчал, время от времени искоса поглядывая на едущего рядом с ним Санджара. Потом повернулся к нему и резко сказал:
— Не думаете ли вы, Санджар, что баи посмели обратиться к вам с таким предложением только потому, что вы сами дали им повод своим поведением?
— У нас говорят,— прервал командира Санджар,— сколько ни хвали меня, сколько ни ругай меня, а цвет глаз моих не изменится. А вы, товарищ Кошуба, хотите, чтобы я изменился.
— Да, я хочу, чтобы вы поняли.
— Что же я должен понять?— Санджар уже не скрывал своего раздражения.
156
— А то, что добровольческие отряды приносят пользу лишь до тех пор, пока они принимают руководство командования Красной Армии, пока соблюдают дисциплину. Если нет,— они опаснее басмачей.
— Я... Мой отряд — басмачи?
— Вот вы ушли с Термезской дороги. А ведь командование рассчитывало на вас, не послало туда другого отряда. И теперь весь тракт, быть может, в руках бандитов. Вы же находитесь здесь. Зачем?
— Когда идешь по следам волка, правил нет. А я иду по следам Кудрат-бия...
— Выслушай меня внимательно, Санджар. Я уже давно смотрю на твой отряд как на часть Красной Армии, боевую, отличную часть. Ты слышал о товарище Куйбышеве?
— Да. Он ученик и друг великого Ленина.
— Товарищ Куйбышев приехал в Ташкент посланцем партии, посланцем Ленина и Сталина, помочь узбекскому народу, таджикскому народу, туркменскому народу установить советскую власть. Ты знаешь это?
— Да. И я знаю: он говорил — Красная Армия не только защитница интересов трудящихся, но и строитель новой жизни для их счастья и блага...
— Правильно, Санджар, правильно. И он же говорил, что Красная Армия стала мощной, организующей, дисциплинирующей и просвещающей силой. И каждый узбек, каждый таджик, служащий в ней и вернувшийся домой (не всегда же будут басмачи и война) станет руководителем своих братьев в труде и создании нового, счастливого отечества.
— Но... я сражаюсь, кажется, так, как нужно...— пробормотал Санджар. Он отвернулся и смотрел на гору чересчур внимательно, хотя в голых и каменистых боках ее ничего примечательного не было.
— Как ты сражаешься, все видят и все знают. Но помни: Красная Армия сильна своей сознательной дисциплиной. Без дисциплины, революционной дисциплины мы — ничто. И твой путь в Красную Армию — через дисциплину.— Зачем ты здесь?— сурово продолжал Кошуба.— Экспедиции твой отряд не нужен. Значит, разговор о чьих-то глазах — не пустой разговор, значит, я был прав, когда говорил в Гузаре, что из-за чьих-то глаз ты забыл о народном деле.
157
Лицо Санджара медленно наливалось кровью, темнело; взгляд его — тяжелый, неприязненный, остановился на Кошубе.
— Насчет черных глаз... Не надо говорить об этом...
— За что ты борешься, Санджар?
Наморщив лоб, нахмурившись, батыр думал; рука его нетерпеливо играла ремнем винтовки, перекинутой через плечо. Наконец он не без раздражения ответил:
— Я хочу чтобы не было людоеда эмира, я хочу вернуть народу то, что у него отняли силой беки и помещики, я хочу... О, я хочу найти такие сокровища, такие богатства, что, если я раздам их народу, то их хватит для всех вдов и сирот, нищих и калек, несчастных и обиженных. И они тогда будут жить припеваючи и не знать горя и славить советскую власть.
Кошуба чуть улыбнулся, слушая Санджара, который сейчас произнес, быть может, самую длинную речь со времени своего появления на свет.
— Брат, ты прав, но не во всем. Можно и нужно отобрать у эксплуататоров все награбленное и отдать народу, трудящимся. Можно и нужно, но не только это надо сделать. Даже если ты соберешь все, что наворовали баи и помещики, купцы, ростовщики и вся прочая мразь, ты не сделаешь трудящихся навсегда сытыми и зажиточными. Советская власть никого не хочет облагодетельствовать... Мы не благодетели...
— Но я знаю, что эмирский вельможа два, нет, почти три года назад похитил у народа целое сокровище и воровски укрыл его в тайном месте. Я найду его, я верну его тем, кому оно принадлежит по праву. Я сделаю народ счастливым. Там каждый камешек, а их много там, сделает целую дехканскую семью сытой и зажиточной на три поколения...
И Санджар рассказал Кошубе о руднике Сияния и об эмирском министре Али-Мардане.
— Я найду его, я из него вытяну все жилы, но заставлю сказать, где сокровища.
Лицо комбрига стало серьезным.
— Все, что ты рассказал, похоже на сказку. Но даже если он действительно спрятал где-то и что-то, ведь это все равно, что искать иголку в стоге сена. И, наконец, ты будешь гоняться за призрачной птицей счастья детских сказок, мечтать осчастливить народ спрятанными в пеще-
158
pax драгоценностями в то время, когда у меня и у тебя одна ясная цель — истребить, уничтожить всех тех, кто сам не работает, а плетью и страхом казни заставляет работать на себя всех тех, кто живет пóтом и кровью трудящихся. Наша цель — дать возможность людям работать на себя и на своих братьев и товарищей, дать возможность строить счастливую, свободную жизнь, жизнь без капиталистов, без баев, без помещиков, без беков, без эмира, без белого царя Николая-кровавого...
Опустив голову, Санджар обиженно проворчал:
— А я? Что, я не сражаюсь с бандитами — врагами народа? Я не уничтожаю, что ли, бекских и эмирских прихвостней? Наши дела разве неизвестны?.. Но я буду искать и найду... Если бы не война, если бы не воинские дела, давно бы нашел. Воевать надо. Сейчас некогда искать. А найду... себе ничего не оставлю, все раздам, мне ничего не надо...
Издав резкий гортанный звук, Санджар с места взял своего Тулпара в карьер и помчался по крутому зеленому склону вверх в гору. Он выхватил клинок и на полном скаку ожесточенно рубил попадавшиеся ему на пути кусты и низенькие деревца боярышника, продолжая издавать воинственные крики.
...Ночью Санджар со своим отрядом ушел в горы.
Говорили, что он окончательно рассорился с Кошубой и увел отряд в неизвестном направлении.
VIII
Два часа назад дорога вилась среди цветущих персиковых садов, одетых в нежнорозовый наряд. С веселым шумом плескались коричневые воды Ширабад-Дарьи, обдавая лица прохладой и ледяными брызгами. Животворящий ветер освежал, бодрил...
Но достаточно было дороге сделать резкий поворот влево, перевалить через небольшой холм,— и перед путешественниками предстала безжизненная, раскаленная степь, и трудно было поверить, что сейчас только май, что еще накануне в Дербентском ущелье шел холодный дождь, промочивший всех до последней нитки.
Духота, зной давили, стягивали отяжелевшую голову горячими обручами.
Караван полз к перевалу. Все жалобнее визжали колеса арб, все медленнее становилось движение. А солн-
159
це — палящее, непреклонное, обливало горячими волнами землю.
Подъем на бесконечный байсунский перевал по бесплодному каменистому плато был мучительно тяжелым. Арбы застревали, лошади, обессиленные, падали. Путники брели, еле переставляя ноги. Верблюды упрямо ложились среди дороги. Погонщик безжалостно дергал за веревку, продетую в носовой хрящ животного; верблюд жалобно ревел, но не вставал. Приходилось перегружать поклажу на другого, более крепкого верблюда.
В караване, растянувшемся более чем на два километра, царил беспорядок. Слышались брань, крики, ржание надрывающихся лошадей. Серое облако пыли стояло над дорогой и заволакивало обоз. Ни дуновения ветерка. Знойный воздух, казалось, застыл,— густой тягучий. Хрустел на зубах песок, мельчайшие пылинки въедались в кожу. На губах выступала соль, глаза слезились.
Настороженные и злые ехали бойцы.
Они понимали, что сейчас самый подходящий момент для нападения басмачей, и двигались по бокам каравана, зорко вглядываясь в далекие холмы и лощины, держа винтовки в руках.
Кошуба ни минуты не оставался без дела. Он то проезжал далеко вперед, то направлялся в самый хвост колонны, отдавая приказания, подстегивая острым словом отстающих. На крутом подъеме он подталкивал плечом, вместе с оглушительно вопившими возчиками арбу, а через минуту скакал с двумя-тремя бойцами в сторону, чтобы «посмотреть местность» с невысокого кургана.
Неожиданно к командиру подъехал Курбан.
— Вправо от дороги народ.
— Где, где?
Кошуба поспешно ускакал.
Как ни медленно тащился караван, все же он нагнал двигающуюся по боковой тропинке толпу мужчин, женщин, ребятишек. Шли они в полном молчании, опустив головы, не поднимая глаз. Потрясающей была нищета этих людей. Сквозь лохмотья просвечивали исхудалые, истощенные тела. Дети шли голые, и страшно было смотреть на их торчащие лопатки и ребра, вздутые животы, лихорадочно бегающие глаза...
Люди медленно плелись по степи, соленая белая пыль оседала на просаленные тюбетейки, на потную коросту
160
одежды, на обтянутые пергаментом скулы. Солнце палило и палило. А кругом ни капли воды...
— Куда идете? — окликнул Джалалов согбенного старика, которого вели под руки два человека помоложе.
— Прямо...
— Куда же? В какой город?
— Идем искать могилы для себя и своих детей.
— Откуда вы?
Тогда старик вдруг оттолкнул поддерживавших его людей и, пошатываясь, подошел к Джалалову.
— А! — закричал он.— И что ты спрашиваешь, таксыр, и спрашиваешь, чего тебе от нас нужно? Хлеба дай детям. Они не ели три дня...
Старик опустился на землю и, раскачиваясь, горько запричитал.
— Он еще спрашивает, таксыр!
Около старца почтительно засуетились его спутники, сами едва державшиеся на ногах.
По приказу Кошубы путникам раздали хлеба и муки.
Тот же старик, в сопровождении десятка изможденных, оборванных мужчин, приблизился к командиру.
— Великий господин, — загнусавил старик, — благословение всеблагого и всемогущего падет на тебя за то, что ты накормил нас. Но лучше ты не кормил бы нас.
— Почему же? — спросил Кошуба.
— Потому что мы твои враги, и ты враг наш, враг мужчин и женщин, стариков и детей рода Джалаир.
Кошуба подошел к старику вплотную.
— Вот что я скажу, ишан. Ты говори за себя, а народ пусть скажет свое слово сам за себя.
Ишан заговорил громко; он хотел, чтобы его слова были услышаны всеми.
— Бог пусть узрит правду, таксыр! Эти люди не стали бы нищими из нищих, не ходили бы в жалких лохмотьях, не походили бы на тени, если бы они довольствовались своим уделом и не подняли бы руку против господ и эмиров. Но они не послушались увещевания мудрых и пошли против сильных. Воины ислама пришли в их кишлак. В наказание за самовольство они поубивали многих мужчин и женщин и заставили разрушить жилища, а то место, где был кишлак, вспахать и засеять ячменем. Своими руками дехкане разрушили родные гнезда, своими руками запахали пепел священных очагов своих предков.
161
Вы, большевики, пришли и соблазнительными словами совратили дехкан с путей пророка и навлекли на них кару великого курбаши. Если бы вас не было, они жили бы спокойно и...
— И гнули бы шею под палками эмирских собак, — не выдержал Джалалов. — Старик, опомнись! Что ты говоришь? Будь справедлив, проклинай истинных виновников ваших бед, проклинай басмаческих курбашей!
— Проклинать курбашей!— вдруг оживился старец.— Нет. Велика вера истинная и единственно правильная. Даже большевики, такие как Санджар, склонившись к истине, вступили на путь джихада и объявили священную войну нечестивым Советам.
Старик тщательно отряхнул полы халата и отошел, всем своим видом показывая, что его вынужденная беседа с «неверными» закончена и что даже пылинка, которую мог перенести с их одежды на его рубище ветер, грозит осквернением.
Он обвел взглядом бойцов и участников экспедиции и костлявым, мертвенно-желтым пальцем поманил к себе Джалалова.
— Сынок, я вижу по твоему обличью, что ты из мусульман. Оставь этих людей, пока не поздно, обратись к вере отцов. Час неверных близок.
— Откуда ты знаешь про Санджара, старик? — сдавленным голосом спросил Джалалов.
— Вестника я встретил на дороге. Он знает все. Имя его Гияс-ходжа мутавалли из Янги-Кента.
Ишан медленно зашагал по дороге, опираясь на посох. К старику подбежали его спутники и осторожно взяли под руки. Толпа поползла вслед за своим вожаком — безмолвная, безропотная.
Ишан вел их в изгнание.
IX
Дорога все так же тянулась в гору, лошади выбивались из сил. Во всем огромном караване, растянувшемся на километры, не оставалось ни капли воды. Фляги, бутылки, чайники — все было опустошено. Большое беспокойство вызывали двое членов экспедиции, по-видимому, получившие тепловой удар. Одного из них подобрали на обочине дороги в бессознательном состоянии, другой свалился с лошади, как сраженный молнией.
162
Кошуба послал несколько верховых к высоким холмам, расположенным к северу от дороги: там должны были быть источники и арыки.
Кроме бочонка, который везла с собой экспедиция, захватили все ведра, фляжки, бутылки.
В арбе Саодат оказалась пара кожаных мешков — турсуков.
— Недаром я дочь водоноса, — пошутила Саодат.
Гремя чайниками и ведрами, водная экспедиция удалилась. Вернулась она через полтора часа.
Расчеты на воду не оправдались. Источники оказались сухими, арыки тоже. Жители небольшого кишлака куда-то ушли, засыпав колодцы. Уже на обратном пути посланцы наткнулись на большую лужу. Здесь они напились сами, напоили лошадей и набрали сколько можно было воды в ведра и турсуки.
Вода была желто-бурого цвета; в ней плавали головастики, какие-то жучки, кусочки соломы; она пахла конским навозом и плесенью.
Один из арбакешей взял свой поясной платок, сделал на краю ведра подобие примитивного фильтра и с наслаждением напился... Любезно улыбаясь, он поднес ведро Саодат.
Воду выпили моментально. Только немногие побрезговали.
Усталость свалила всех там, где остановился на дневку караван. В тени длинного дувала вытянулись прямо на жесткой траве десятки людей, сморенных тяжелым дневным сном. Тут же, понурив головы, покачиваясь на дрожащих, ослабевших ногах, дремали кони, лениво и обессилено, едва шевелящимися хвостами отгоняя назойливых, невесть откуда налетевших мух.
Кто-то, шумно топая сапогами, прошел по дороге, Николай Николаевич, не подымая смеженных горячечным сном век, проворчал:
— Потише, эй вы там! Тут изволят почивать великие путешественники.
— Вы здесь, Николай Николаевич? Вы не спите?
— Сплю, как бог... А вы мешаете. Сплю на роскошной перине и около меня сифон с сельтерской на льду...
— Пойдем.
— С ума вы сошли...
— Пойдем... Покажу кое-что интересное.
163
— Ну, если это бочка с нарзаном, то пожалуй...
Николай
Николаевич открыл глаза только тогда, когда Джалалов начал довольно невежливо
трясти его за плечо. Лицо комсомольца было все в грязных подтеках, глаза
покраснели, губы растрескались и кровоточили,  волосы стали
пегие от пыли. Еле двигая пересохшим языком, Николай Николаевич проговорил:
волосы стали
пегие от пыли. Еле двигая пересохшим языком, Николай Николаевич проговорил:
— Ох, до чего доводит страсть к романтическим путешествиям! Еще два таких дня, и молодой, талантливый воспитанник столичного, первого в мире университета превратится в сушеную воблу... Ох, пить!
— Ну, если вы шутить еще можете, значит, все в порядке. Поднимайтесь, пошли...
— Куда? — кряхтя, Николай Николаевич поднялся и, мигая белесыми ресницами, тупо уставился на Джалалова.
Схватив друга за руку, тот потащил его по солнцепеку вдоль сраженного сном каравана, приговаривая:
— Вот что значит изнеженное городское воспитание: малейшая трудность, и все раскисли. Неженки... Смотрите!
Они подошли к большому пролому в дувале.
— Ох!
Николай Николаевич опустился на большую, отколовшуюся от забора глиняную глыбу, пораженный представшим перед его глазами зрелищем.
Шагах в двадцати, на паре тощих дехканских волов пахал землю комбриг Кошуба.
Дело шло туго. Поле пересохло, плуг вел себя непослушно в руках командира. Хозяин волов — худой высокий узбек, напротив, судя по восторженным возгласам, был очень доволен ходом работы. Он то вел волов по борозде, отчаянно вопя на них, то, передав палку мальчишке, бежал, заправляй на ходу за пояс полы рваного халата, к Кошубе и, отняв у него рукоятку плуга, начинал пахать сам. Но у него дело шло совсем плохо, и Кошуба, поспешно вытерев пот с лица, снова брался за плуг.
— Командир... товарищ Кошуба, — слабым голосом позвал Николай Николаевич, — товарищ...
— А, это вы... Давайте сюда! Помогать, товарищ доктор, идите.
— Вот, как врач, я требую, чтобы вы прекратили. Вас «кондрашка» хватит на таком проклятом солнце. Солнечный удар или тепловой...
164
— Пустяки!
— И я лишен возможности вас спасти. У нас даже воды нет.
Но Кошуба только засмеялся в ответ и вдруг, прикрикнув на быков, сильнее нажал на рукоятки; плуг пошел быстро и гладко, вздымая целые пласты земли.
Только минут через десять он передал плуг дехканину и подошел, тяжело дыша, к дувалу, где, прячась в кусочке спасительной тени, сидели Джалалов с доктором.
— Разве так можно, товарищ комбриг,— заметил Николай Николаевич, — смотрите, у вас вся гимнастерка взмокла. После бессонной ночи, да еще после труднейшего пути, в адскую жару, вместо того, чтобы отдохнуть...
Но Кошуба, не слушая Николая Николаевича, вдруг бросился снова к пахарю с криком:
— Черт тебя подрал, что ты наделал, бездельник!.. Вернувшись в тень, он сказал:
— Беда прямо.
— А что?
— Мы сейчас тут проезжали и обнаружили этого голодающего «индуса». Он на своих тощих животинах да со своим допотопным деревянным омачом кое-как ковырял иссушенную солнцем землю. Я смотрел-смотрел, и жалость меня взяла. Несчастный за полчаса два аршина борозды прошел. И какая это пахота! Суслик лучше пашет. Взял я из нашего груза сельхозмашин один плуг, говорю: «Бери, паши!» А он только глазами хлопает да руками разводит. Никогда такого плуга не видел. Ну, пришлось помочь, в порядке инструктажа, что ли.
Присев рядом с доктором, Кошуба закурил.
— Смотрите, вот как мы далеки от жизни, — заговорил он снова. — Плуги мы везем, хорошие, со стальными лемехами, совершенство, красота, а про мелочь-то и забыли. Ведь плуг рассчитан на лошадей, а наши дехкане пашут на быках. Вот и будут возиться, не зная как прицепить плуг к омачевому дышлу... Не так, не так!.. — крикнул он вдруг, и, бросив недокуренную папиросу, побежал к дехканину.
Когда командир вернулся к дувалу, Джалалов тревожно шепнул ему: — Боюсь, не басмач ли ваш пахарь?
— А что?
165
— Пока вы там пахали, я осмотрел его тряпье вон там у забора и нашел саблю...
— Старую?
— Да, дедовскую, но отточенную, как бритва.
— Жаль мне узбекских дехкан. Три года прошло со времени бухарской революции, а все еще несчастным приходится одной рукой пахать, а другой оборонять свою жизнь и близких. Плохо, значит, мы воюем с кудратбиями, что не можем дать мир и покой трудовому народу...
— А все-таки подозрителен мне он. Да и вон смотрите, — Джалалов указал на далекий край поля,— кто там?
Комбриг схватился за бинокль.
— А, так я и знал!— через секунду воскликнул он.— Что вы думаете, экспедиция дрыхнет, а я ее дам голыми руками взять? У меня кругом заставы... Эй, эй, давайте, друзья, сюда...
Последний возглас Кошубы относился к прятавшимся в бурьяне дехканам, смотревшим с любопытством на то, что происходит в поле.
Из бурьяна поднялось несколько странных фигур. Медленно, уставившись в землю, дехкане побрели к пахарю. Донельзя оборванные, худые, босые они подошли и упали перед красным командиром на колени, униженно прося прощения за то, что осмелились без разрешения смотреть, как великий господин начальник пахал поле Нурутдина-чайрикера.
— Товарищи! Довольно кланяться и пресмыкаться. Вы люди, а не бессловесные рабы. Смотрите и учитесь. — Командир снова повел плуг, а затем заставил каждого дехканина попробовать пахать.
— Ну как?
— Хорошо, хорошо,— закричали наперебой дехкане.
— Ну, какой лучше пашет? Ваш, эмирский или наш, советский, а?
— Ваш лучше,— сказал за всех Нурутдин и заплакал.
Переглянувшись с Джалаловым, Кошуба спросил:
— Что с тобой? Почему слезы у мужчины?
— Господин начальник, после сладкого не хочется горького. Вы уедете сейчас и увезете с собой это чудо мира, а я опять останусь со своей палкой ковырять пашню.
166
Кошуба, обращаясь к собравшимся дехканам, сказал:
— Плуг отдаем вам. Только будете владеть им сообща. Понятно? Пахать будете вместе, хошаром, товариществом обрабатывать землю,— и, обведя всех взглядом, поманил пальцем приземистого бородача: — Ты кто?
— Саметдин я.
— Богат?
В толпе хихикнули.
— Ну?
За Саметдина ответили:
— У него всего и скотины — старый кобель, да и тот запаршивел. Батрак наш Саметдин.
— А земля есть?
— Немного есть.
— Будешь распоряжаться плугом. Дает его вам, дехкане, Советская власть, под ответственность Саметдина. Владейте им сообща.
Кошуба уже повернулся, чтобы уйти, когда к нему под ноги метнулся Нурулла и завопил:
— Благодарите благодетеля! Кланяйтесь, целуйте прах его следов.
Выражение жалости и досады в то же время появилось на лице Кошубы. Он решительно поднял дехканина и потряс его энергично:
— Хватит пресмыкаться, дорогой! Мы, большевики, не благодетели. И потому не допустим, чтобы дехкане перед нами ползали в пыли. Встань, друг, расправь шире плечи, подними выше голову. Ты не раб, ты человек! Мы хотим, чтобы народ своими руками, своими усилиями сбросил со своей шеи всех паразитов и, выбравшись из нищеты и бесправия, построил по слову Ленина свое счастье и счастье своих детей.
Он резко отстранил восторженно шумевших дехкан и направился к арбам.
— По коням!— гремел через минуту его голос над сонным станом.
Двинулись дальше.
И вдруг по всему каравану разнеслась весть, что на юго-западе появился огромный столб пыли.
Вдоль обоза деловито засновали на своих мохнатых лошадях красноармейцы; лица их были серьезны и озабочены.
167
Кто-то утверждал, что столб пыли — это басмаческая шайка, которая сейчас нападет на караван; говорили, что за экспедицией гонится сам Кудрат-бий с тысячным отрядом. Произносилось также имя Санджара с самыми нелестными эпитетами.
Все взоры были обращены на юго-запад.
Кошуба выехал на холм и долго смотрел в бинокль.
Столб пыли приближался. По-видимому, большой отряд всадников настигал караван.
Кавалеристы постепенно стягивались к концу обоза. Туда же провезли пулемет.
Сквозь скрип колес донесся топот копыт и властный голос Кошубы:
— Байсун! Приготовиться к спуску.
Караван добрался до высшей точки перевала.
Внизу, в манящей долине, под гигантским кирпично-красным обрывом, лежал оазис, изобилующий водой и цветущими садами — Байсун. Доносилось мычание коров, блеяние овец. Пастухи гнали по склонам гор и кишлачным дорогам мирные стада; над глиняными домиками, казавшимися такими близкими, а в действительности отрезанными от каравана глубочайшим провалом, вились голубые дымки. Горожане готовились к вечернему отдыху. Над мирным городом высилась колоссальной громадой вершина Байсунтау, покрытая подрумяненной вечерним солнцем шапкой снегов.
Экспедиция была у цели. Тягостный путь через бесплодный перевал закончился. Но ошибались те, кто думал, что караван уже прибыл в Байсун. Спуск с обрыва продолжался более трех часов. А лошади еще днем выбились из сил, и люди едва держались на ногах от жажды и усталости.
Местами дорога делала головоломные петли над пропастью. У лошадей дрожали ноги, спины покрывались испариной.
Красная пыль оседала толстым слоем на руках, одежде, набивалась в рот, ноздри, слепила глаза арбакешей, спускавших на своих плечах шаг за шагом арбы, тормозивших колеса своими руками.
Промелькнули короткие сумерки; горы, долины, дорога почти мгновенно погрузились в полную темноту. На взрытых, угловатых стенах обрыва заплясали пятна малинового света. То по приказу Кошубы на особо опасных
168
поворотах и в местах, где дорога была размыта весенними ливнями, зажгли костры из сухой колючки. Сам Ко-шуба со своими бойцами остался наверху, прикрывать спуск.
Проходя мимо одного из костров, Джалалов не удержался и толкнул в бок Медведя, сгибавшегося под тяжестью фотографического аппарата.
— Чего тебе?
— Смотрите,— вполголоса сказал Джалалов.
Около костра сидели двое — мужчина и женщина.
Мужчина ломал валежник и подбрасывал в огонь. Женщина, зябко кутаясь в шаль, близко наклонилась к мужчине и что-то негромко говорила. Из-за дыма костра певучий голос спросил:
— Много еще арб осталось? Голос принадлежал Саодат.
Когда огонь костра скрылся за поворотом, Медведь язвительно спросил:
— Неужто надо человеку дыры в боку делать? Ты чего дерешься? Вот разбил бы аппарат.
— А вы видели, кто был с ней?
— Меня это не интересует.
— Она разжигала костер вместе... с Санджаром.
Внизу, у переправы через ручей, сидел Николай Николаевич. С величайшей добросовестностью выполняя приказ Кошубы, он развел гигантский костер.
— Друзья, ко мне, греться! Вода — что нарзан, еще лучше.
Джалалов и Медведь с удовольствием приняли гостеприимное предложение. К ночи стало так холодно, что зуб на зуб не попадал, а сегодняшний дневной зной вспоминался, как нечто очень приятное.
— Чертовски устал,— проговорил Медведь,— ну и дорожка!..
— Да, пути-дороженьки...— лениво проворчал Николай Николаевич.— Сколько эта дорога существует?
— Наверное, тысяч пять лет уже. Недаром ее называют Дорогой царей1. А все, как и при царе Горохе, через пень-колоду тащутся по ней путники, ломают ноги кони,
______________________
1Дорога царей — так назывался древний торговый путь из Ирана через Северный Афганистан — Гузар — Байсун — Гиссар— Каратегин в Кашгар и далее в Китай.
169
разваливаются арбы... Представляю себе эту дорогу в будущем. Вместо дымных наших костров сияющие электрические фонари, прожекторы, вместо колдобин и ухабов — гладкое, как стекло, полотно гудрона, асфальт, вместо колченогих арб — автомобили...
— Дорогой мой,— наставительно заметил Николай Николаевич.— Все это мечты. Асфальт и электричество, в Азии, в дебрях Памира и Гиссара? Что с вами, у вас температура?
— Не сегодня, конечно, все это будет. Но это будет.
— И это сделаем мы! — подхватил Джалалов.— Мы, советские люди. Мы проложим сюда, в дикие горы, дороги, мы, выполняя веления Ленина, принесем сюда культуру...
— Может быть, будут здесь и дороги, и культура, и электричество, но когда? Я, во всяком случае, не надеюсь увидеть...
Седые усы Медведя забавно встопорщились.
— Что вы, молодой человек, говорите? Даже я надеюсь увидеть край, преображенный вот этими руками.— Он протянул к костру свой, покрытые набухшими венами, руки.— Своими руками... Ну, а если... если я сам не увижу... Так что ж из того? Подлец и ничтожество тот, кто не желает совершенствовать мир только потому, видите ли, что он боится помереть, не успев пожить в этом будущем счастливом мире... Только заплесневевший эгоист не захочет сажать молодые деревья потому, что не он сам, а молодое радостное поколение воспользуется плодами этих деревьев. Глупости все это!
— Скоро, что ли, все проедут?— поспешил перевести разговор на другую тему смущенный Николай Николаевич.— Покушать не мешало бы. Я слышал, что в байсунских ресторациях, даже в нашу, не такую уж мирную эпоху, шашлык — пальчики оближешь.
Занятый своими мыслями, Медведь не ответил.
По дороге, скрипя и грохоча по камням, медленно катились одна за другой арбы, освещенные багровым отсветом костра. Из тьмы возникала сначала лохматая голова лошади с испуганно поблескивающими глазами, затем мокрое, покрытое клочьями пены туловище, и, наконец, круг колеса с напряженно уцепившимся за спицы человеком.
170
Неизменно Николай Николаевич кричал проезжающим:
— Хармайн, уртак! Не уставайте, товарищ! В ответ раздавалось усталое, но уверенное:
— Хош, уртак.
Арбы с шумом и плеском въезжали в ручей, и рубиновые брызги взлетали выше спины лошади. Слышно было в темноте как и возница и его конь с жадностью пьют воду. Потом раздавалось фырканье, пронзительный скрежет гальки под железными ободьями колес и громкие выкрики: «пошт», «пошт»,— арбы выезжали на высокий берег и исчезали во мраке.
Бесшумно через полосу света проплывали, словно сказочные чудовища, верблюды; безмолвно проходили верблюжатники, опираясь на длинные посохи. Не задерживаясь для водопоя животных, не притронувшись сами к воде, они переправлялись через ручей и уходили наверх. Маленькие камешки, блестящие, мокрые сыпались вниз со стеклянным звоном... И все новые и новые косматые губастые звери выползали из бархатистой тьмы, окунались в кровавое, пляшущее пятно света и тонули в ночи.
— А вот и Кошуба!
Кошуба решительно осадил коня у костра.
— Дайте-ка огоньку, курить хочется, — проговорил он. — В звуках его бодрого голоса не чувствовалось и признаков усталости. И всадник и конь были свежи, как будто только что двинулись в поход. — Ну, ребята, по коням. А знаете, эти самые басмачи... облако пыли, что за нами гналось весь день? Бараны, стадо баранов.
— Да ну?— удивился Джалалов.— Правду говорят узбеки: «Укушенный змеей — полосатой веревки боится».
— Поехали, а то сейчас отара на нас навалится.
Действительно, где-то в вышине, из-за поворота, послышалось блеяние и дробный топот тысяч копытцев.
Когда перебрались через ручей, Джалалов спросил у Кошубы:
— А вы нашу Саодат не видели там, у верхнего костра?
— Как же, видел.
— С ней был Санджар?
171
— Не заметил.— Судя по равнодушному тону, Кошуба не проявил к новости ни малейшего интереса.— Что же, она там осталась?
— Зачем? Она в последнюю арбу забралась.
— Вот что, ребята,— вдруг сказал Кошуба строго.— Вы о Санджаре пока бросьте думать. Это дело сложное и лучше поменьше о нем говорить или совсем не говорить.


Часть 4

I
Как могло случиться, что Санджар ушел, предал? Нельзя ли было предотвратить это? Может быть, достаточно было проявить чуточку больше внимания, обойтись с ним мягче, простить самовольные его поступки, вызванные неукротимым нравом...
Случай с Санджаром потряс всех.
Ужин, данный в честь экспедиции байсуноким комендантом, прошел скучно. Все были озабочены поступком Санджара.
Когда трапеза уже подходила к концу, из тени, падавшей от чинара, выступила тоненькая фигурка девочки в платье до пят, и прозвучал детский голосок:
— Кто здесь начальник красных воинов?
Наклонившись вперед и прикрывая глаза от света, чтобы разглядеть, кто его спрашивает, Кошуба промолвил:
— А зачем тебе начальник, девочка?
— Бабушка Зайнаб-биби зовет тебя к себе.
— А кто, твоя бабушка и что ей от меня надо?
— Бабушка, она бабушка. Она приехала вчера. Она сказала: «Пусть начальник скорее придет. Есть дело».
Пожав плечами, Кошуба поднялся. Неугомонный Джалалов и Медведь последовали за ним.
На путанных улочках Байсуна, то уходивших куда-то вверх, то сбегавших вниз, темнота была густая и непроницаемая. Идти приходилось наобум, по выбоинам, круп-
175
ным, неровным камням, острым комкам твердой глины, и неизвестно было, куда сейчас ступит нога — в мягкий пыльный ковер или в глубокую яму. Тонкий голосок девочки настойчиво твердил: «Сюда идите!» и через несколько мгновений с той же монотонной интонацией: «Сюда идите!»
Шли долго. Но вот с треском распахнулась невидимая калитка, заворчала собака, и голосок снова протянул: «Сюда идите!»
Небольшая, очень опрятная михманхона слабо освещалась масляным светильником. Струя воздуха ворвалась в открытую дверь; по темным, шершавым, грубо оштукатуренным стенам и черным балкам потолка заметались тени.
Посреди комнаты, на красном паласе и ветхих, но очень чистых одеялах, сидела женщина в белом платочке, совсем в таком же, какие носят пожилые украинки. Седеющие пряди волос спускались на высокий лоб. Руки старушка прятала под одеяло, накинутое на сандал. На столе стоял поднос с пиалами, лепешками, кишмишом, орехами.
— Заходите, прошу милости, заходите,— сказала старушка неожиданно звонким молодым голосом,— будьте гостями. Простите, что женщина встречает вас, мужчин. Заходите, пожалуйста. Садитесь...
Она с откровенным любопытством рассматривала пришедших. Ее черные, проницательные глаза быстро перебегали с одного лица на другое, пока гости рассаживались по-турецки на одеяла, аккуратно разложенные вдоль стен. И вдруг она нахмурилась и очень сердито заметила:
— Гульайин, что тебе нужно, иди!
Легко прислонившись к косяку, в дверях стояла девушка. Лицо Гульайин не имело правильных черт, но поражало необыкновенной яркой красотой. Особенно — глаза, большие, ясные.
Девушка не пошевелилась. Старуха заговорила снова:
— Стыдись! Здесь посторонние. Знаешь ли ты, что за один взгляд мужчины на твое открытое лицо тебя раньше потащили бы на площадь, сорвали бы с тебя одежду, закопали бы по пояс в землю... Да, страшное время! И в тебя, в твои ясные глазки озверевшие люди бросали бы комья глины и острые камни. Затем люди разошлись бы,
176
бормоча проклятья, а псы зубами стали бы рвать твое молодое тело...
— Не надо, тетушка Зайнаб!
— Не надо, не надо... Ну хорошо, подойди, звездочка, сядь рядом со мной и посмотри на людей, которые вместе с нашим Санджаром воюют за то. чтобы цепи тиранов не разъедали в кровь yаши бедные руки.
Имя Санджара заставило всех насторожиться.
— Скажите,— продолжала старуха, уже обращаясь к гостям,— правда ли, что вы знаете храброго воина, моего сыночка Санджара?
— Да, — сказал Кошуба.
— Глаза мои ослабели, но я вижу, что вы большой и доблестный начальник. Это под вашей рукой идет в бой Санджар? Скажите, он храбрый джигит?
Все молчали. Дрожащими руками старушка налила из чайника кок-чай в пиалу и протянула ее Кошубе. И вдруг она резко и повелительно произнесла:
— Санджар — сын мой, приемный сын. Вот уже три года как он покинул свой родной очаг и воюет против недругов простого народа. Скажите мне: хорошо он воюет, Санджар? Все я бросила, много дней ехала сюда, чтобы узнать о моем сыночке, взглянуть на него хоть разок.
Пощипывая бородку, Кошуба молча попивал чай.
Он не торопился с ответом. Его предупредил, как всегда стремительный и прямолинейный, Джалалов:
— Матушка, пусть глаза твои прольют слезу. Имя Санджара отныне произносится с отвращением. Санджар протянул руку жадности и захвата.
Старуха непонимающими глазами смотрела на Джалалова, губы ее шевелились. Чуть слышно она произнесла:
— Дитя мое! Дитя мое!
А в широко раскрытых глазах Гульайин можно было прочитать недоумение, нарастающий гнев. Джалалов безжалостно продолжал:
— Говорят, он стал басмачом, продался эмирским прихвостням. Говорят, он изменил делу народа...
Льняное масло в светильнике потрескивало, распространяя вокруг чад. Никто не догадался снять нагар.
Слезы безостановочно текли по лицу старухи. Она и не пыталась вытирать их.
177
— Нет,— вдруг сказала тетушка Зайнаб.— Нет. Санджар не может быть вором. Разве мой сын пойдет против народа, разве он сойдет с пути своих дедов...— Старушка преобразилась. Слезы сразу высохли на ее глазах, и она заговорила быстро-быстро: — Пусть зубы волка вгрызутся в мое сердце, если я поверю такому навету, пусть летучая мышь вцепится мне в волосы, если я поверю. Пусть змея обовьется вокруг моей шеи... Не верь, Гульайин, Санджар не может быть вместе с трусливыми шакалами. Нет, нет, он не может, он не смеет пойти к ним, потому что тогда из могил встанут его отец и дед и задушат его...
Она помолчала.
— Русский начальник не знает прошлых дней нашей семьи, прошлых дней семьи пастуха. Я сказала: «Страшные были это дни». И сейчас я скажу то же. У меня была сестра, не считая другой сестры — матери Санджара. И на беду она была стройна, как тополь, красива, как пери. О красоте ее знали соседи, а раз знают соседи, знает весь базар, а раз знает базар, узнал и сам старый бек. Пришел черный день в наш дом. В ворота постучали и увели к проклятому похотливому псу нашу красавицу, наш тюльпан. Но степные девушки не таковы, чтобы идти добровольно на ложе разврата. — Тетушка Зайнаб передохнула и с новой силой заговорила: — Моя сестра, моя несчастная сестра... Когда ее ввели к этому кабану, он воскликнул: «Красавица! Садись, пей, ешь. Только не вздумай упираться...» Он разорвал на ней одежды. «Таких грудей нет у возлюбленной самого эмира»,— говорил старый развратник... И тогда она схватила нож, воткнутый в дыню, лежавшую на дастархане. «На, пес, жри!» — крикнула она и полоснула себя по груди. Сестра моя! Она упала на палас, обливаясь кровью...
И после паузы, длившейся, казалось, много-много минут, тетушка Зайнаб снова заговорила:
— Нет, разве мог родиться в нашей семье предатель, в семье, где женщины предпочитали умереть, искалечить себя, чем покориться подлым насильникам...
— Матушка,— медленно и значительно заговорил Кошуба,— дорогая матушка! Не всякий слух исходит из чистых уст, не всякое слово — правда... Не надо преждевременно предаваться горю и слезам...
178
До калитки гостей со свечой в руке провожала Гульайин.
Путь до чайханы, где остановились участники экспедиции, Медведь с Джалаловым прошли в полном молчании. Кошуба оставил их где-то на краю кишлака.
У дверей ярко освещенной чайханы внимание Медведя привлек очень толстый человек в странном одеянии. Одежда его была сшита из козьих шкур мехом наружу, и шерсть космами свисала с его груди и спины. Человек поднялся и почтительно поклонился. Сидевшая рядом с ним огромная мохнатая овчарка ощерила тяжелые клыки и недружелюбно зарычала. Толстяк что-то сказал ей, потом, снова отвесив глубокий поклон, приветствовал Медведя самым вежливым образом, и радостная улыбка скользнула по его нежному, как у девушки, лицу.
Толстяк несмело прошел вслед за Медведем в чайхану.
В руках он держал высокую глиняную миску.
— Что ты несешь?— спросил Медведь.
— Господин, это «пища пастуха».
— Пища пастуха?
Парень застенчиво улыбнулся.
— В пятницу, когда стадо возвращается с гор, пастух заходит в каждый дехканский дом, и ему в миску кладут понемногу из той пищи, которую готовят у себя во дворе. Вот, смотрите...
Вид «пищи пастуха» был не из привлекательных. Насколько можно было разглядеть, тот день в Байсуне готовили в основном машевую кашу и бешбармак. Плова было мало — только одна или две ложки. Сюда же влили, очевидно, густо наперченную шурпу, положили молочную рисовую кашу, кости и мучную болтушку на кислом молоке.
Медведь поинтересовался:
— Неужели ты, пастух, не можешь взять две-три миски и класть отдельно плов с пловом, кашу с кашей...
— Зачем?— простодушно удивился пастух.— Ты же кушаешь сначала суп, потом плов, потом кислое молоко. Не все ли равно смешать все сначала в миске, или уже потом в животе?
И он рассмеялся громко и добродушно.
— Решительно, он мне нравится,— сказал Медведь.— Откуда ты «пища пастуха»?
179
Пастух ничуть не обиделся. Он шагнул к Медведю и робко сказал:
— Помогите мне стать красным воином. Возьмите меня с собой.
Усевшись на краю помоста и поставив рядом с собой свою чашку с «пищей пастуха» он принялся пространно рассказывать о своем кишлаке, о каком-то ишане, о басмаче, которого убили дехкане. Речь его была уснащена цветистыми оборотами, насыщена образными сравнениями.
— Когда волк тащит ягненка,— говорил пастух,— крик едва ли поможет. Я вот смеюсь, а смех ведь только пена скорби. Наш бай и отец селения продал свое сердце и свою душу басмачам, и сельчане, и их жены, и их дети утонули в море печали...
— Нет, подожди, друг, — перебил толстяка Медведь,— так мы ни до чего не договоримся. Расскажи по порядку все, что с тобой случилось.
Тогда пастух Гулям начал издалека:
— У нашего кишлачного бая Саидбая такая вот белая чалма, вот такая.— И он показал целый обхват.— И у нашего имама Ходжи Закира такая же чалма индийской кисеи. Когда эти две чалмы склоняются друг к другу и бай с имамом начинают шептаться, то всегда надо ждать неприятного. Чалма Ходжи Закира всегда падает. А раз она упала в грязь, и Ходжи Закир гневался, но ему нельзя было ругать Саидбая. Саидбаю принадлежат и стада, и сады, и поля, и жены. Закир побаивался бая и всегда выказывал ему уважение и почтение. Они всегда ходили друг к другу в гости, и Ходжи думал получить дочку Саидбая себе в жены. Бай соглашался, все знали об этом, только нужно было подождать, когда девушка созреет и ей исполнится двенадцать лет. Но вот однажды дехкане увидели на улице нашего кишлака Инкабаг незнакомого человека. Он шел вместе с Саидбаѳм в мечеть. Человек был чернобород, со злыми глазами. Тут скоро все узнали, что он эмирский токсаба, зачем-то приехал из-за Аму-Дарьи от ференгов, и что Саидбай спрятал его у себя тайком от советской власти и, мало того, хочет отдать за него свою дочь Гульнор, за хороший выкуп в двадцать тысяч тенег, десять гиссарских баранов, парчовый халат, седла и пару рабочих быков. Но какое дело дехканам до того, выдает бай свою дочь за-
180
муж или не выдает? Бай устроил бы большой, пребольшой плов, и можно было бы хоть разок хорошо поесть. Но дехкане возмутились, и вот из-за чего. Оказывается, гость бая стал собирать у себя по ночам басмаческих главарей. Об этом рассказал одному землевладельцу Инкабага сам имам, разозленный тем, что лишился лакомого кусочка — молоденькой невесты. Дехкане пошли к райскому дому, вытащили басмача и повели на площадь, а по дороге каждый поднимал камень поострее и потяжелее. Больше всех кричали старики. Они говорили: «От начала времен жители нашего кишлака плевали в поганые бороды прихвостням бека и эмира и не пускали сюда ни одного». Лет десять назад, правда, какой-то сумасшедший сборщик налогов сунул свой нос к нам в надежде поживиться, но ему так намяли бока, что он бросил и свой халат, и свою лошадь, и свои сапоги и босиком убежал по козьей тропе, что ведет к перевалу «Семи путников, занесенных снегом». Дехкане требовали: «Подайте нам Саидбая, мы ему по волоску выдерем бороду». Но Саидбай показал всем спину. Он сел на лошадь и поскакал в долину, и пока мы казнили басмача, успел передать курбаши Кудрат-бию весть о случившемся.
— Слушай,— сказал Медведь,— зачем же вы чернобородого прикончили? Надо было отвезти его в Байсун.
— Э, от нашего кишлака до Байсуна надо через три перевала ехать, где уж было с басмачом возиться... Но некоторые испугались содеянного, а испугавшись, созвали кишлачных стариков и обратились к настоятелю мечети, и спросили: «Ты святой, читаешь священную книгу, скажи, кто такие басмачи и одобряет ли пророк их разбойничьи поступки?» Настоятель долго размышлял, но увидев, наконец, что дело доходит до сердца и печени, сказал: «Басмач — тот же грабитель, отнимающий у человека кусок хлеба, а тот, кто присваивает чужое, становится подобен вероотступнику». Мы очень были довольны тем, что сказал настоятель. Только потом мы поняли, что не мог он быть нам другом, а был врагом. Он высовывал свой язык, как змея, которой наступили на хвост. Разве баи и муллы не одной породы? И разве сыновья настоятеля мечети не были тоже басмачами? Только об этом мы узнали потом.
А судьба кишлака была черной. На рассвете, когда в темноте стали чуть-чуть видны горы, топот сотен ко-
181
ней разбудил нас, красное пламя, вонючий дым разбудили нас, крики женщин и плач ребятишек разбудили нас. Что случилось — я хорошо не знаю. Я видел только, как басмачи ломали двери, зажигали сено и стреляли в бегущих по улицам обезумевших женщин, спасающих свои души и детей. Около мечети остановился большой басмаческий начальник и показывал шашкой, сидя на коне и приказывая. Я спрятался за оградой и все видел. Вдруг из мечети выбежали дехкане с кетменями и напали на начальника. Конь его упал, а курбаши поднялся и закричал своим басмачам: «Не стреляйте... Порубите их шашками, пусть собаки быстрее растащат их тела, а головы унесите отдельно, чтобы они не нашли покоя в могиле». Тут на дехкан наскочили басмачи, и я слышал только: «Ух, Ух!». Тогда я убежал чтобы стать воином Красной Армии.
Тут Гулям внезапно замолчал. Он увидел незаметно вошедшего Кошубу.
Лицо Гуляма озарила благодушная улыбка. Улыбалось в нем все — и карие глаза, и гладкие, порозовевшие сквозь загар щеки, и пухлые, правильного рисунка губы с рыжеватой полоской чуть пробивающихся усов.
Протянув правую руку Кошубе, толстяк, в точном соответствии с правилами вежливости, поддерживал ее под локоть левой рукой и отвешивал быстро поясные поклоны.
Кошуба пожал протянутую руку.
— Слушай, друг, ты, наверно, очень много кушаешь, неожиданно усмехнулся командир.— Посмотри на себя. Ты без малого пудов семь потянешь.
Гулям не усмотрел обидной иронии в словах командира.
— Пища идет впрок здоровому,— присказкой ответил он. Потом добавил:
— Начальник, я хочу быть воином.
— А как я посажу тебя на лошадь? Ни одна коняга не выдержит, спина продавится,— командир пытливо разглядывал пастуха.
— Друг, ты богу молишься?— неожиданно спросил он.
Горец был застигнут врасплох. Он что-то пробормотал относительно веры отцов и милосердия аллаха.
182
— То-то же. Я давеча тебя, кажется, видел. Ты свою козлиную шкуру разостлал и в сторону Мекки клал земные поклоны. Правда?
Голос Кошубы стал сухим, резким.
Мгновение он всматривался в посерьезневшее лицо толстяка, затем отвернулся. Гулям постоял немного, переминаясь с ноги на ногу.
— Господин,— тихо пробормотал он,— товарищ господин. Я бѵду ходить пешком.
— Пешком?
— Да, лошади мне не надо.
— Хорошо, товарищ Гулям, с сегодняшнего дня вы — боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Лошадь — здорового толстоногого битюга Гуляму все-таки выдали. Но в походах он предпочитал ходить пешком, ведя коня в поводу. Он боялся, как бы действительно тяжестью своего тучного тела не повредить лошади.
Грузность не мешала Гуляму без видимых признаков усталости проходить в день двадцать-тридцать километров по горным тропам и тяжелым перевалам.
Горец улыбался все так же безмятежно. Молиться богу он скоро бросил...
Настоящее имя Гуляма было в отряде предано забвению: все звали его довольно обидно — Магогом, по имени знаменитого своим обжорством великана-людоеда из узбекской сказки.
В силу странной привычки, Гулям не отвечал ни на один вопрос прямо. Достаточно было спросить его о чем-нибудь самом простом, как глаза Гуляма прищуривались, в них появлялась бездна лукавства, и он начинал нести совершенную околесицу, далекую, на первый взгляд, от какого бы то ни было здравого смысла. Магог был само простодушие и наивность.
Всем было известно, как бережно хранился в тайне маршрут экспедиции и все, что было с ним связано: места остановок, даты, часы выезда. Каждый понимал, что его «душа и тело» зависят целиком и полностью от его собственной осторожности. Неведомая страна простиралась по обе стороны от дороги на много дней пути. На скрипучих арбах тяжелым грузом лежали ящики, а ценность груза была хорошо известна не только тем, кому надлежало о том знать.
133
...В чайхане было довольно шумно, когда туда пришел Магог. Он взял чайник чаю и стал с интересом следить за партией в шахматы, которой увлеклись Медведь и Джалалов.
Вдруг, без всякого видимого повода, Магог вполголоса заметил:
— Каменная Дорога царей — ночью плохая дорога.
Шахматисты посмотрели на толстяка. На лице его блуждала хитроватая усмешечка.
— Милочка,— наконец выдавил из себя Медведь,—дорогуша, а при чем тут Дорога царей?
Медведь отлично знал, что по Дороге царей экспедиции предстоит двинуться сегодня ровно в двенадцать ночи в путь из Байсуна дальше на восток.
Толстяк упрямо повторил:
Дорога царей — плохая дорога. Камни. Все колеса в темноте поломаем.
— Может быть, вам дополнительно известно, когда мы двинемся в путь?— съязвил Медведь.
Несмотря на запутанную форму вопроса, Гулям отлично уловил намек.
— Ровно в полночь,— и прибавил, улыбаясь все так же наивно: — Если арба сломается, если ящики упадут, если ящики сломаются, если деньги рассыплются, — в темноте их не соберем.
Тогда Джалалов резко спросил:
— Слушай, Магог, говори, наконец, в чем дело?
С лица Магога моментально исчезла усмешка. Глаза метнулись по сторонам. Он шепотом сказал:
— На базаре... Там плохие люди. Все выглядывают и выспрашивают. У некоторых караванщиков и арбакешей язык длинный, как чалма имама... болтают много. Сейчас я скажу одно дело. Вы только не оборачивайтесь. За вашей спиной в углу арбакеши в кости играют с таким плохим человеком. И все «дыр-дыр, дыр-дыр» болтают.
— Пойдем к командиру,— тихо проговорил Джалалов.
Не спеша, они поднялись и вышли из чайханы. Как бы невзначай Джалалов посмотрел в угол. Широкоплечий здоровяк шептался в углу с арбакешами. Не нужно было обладать большой проницательностью, чтобы определить, кто это был такой. Маскарад был довольно наивный: из-под дехканского халата выглядывал дорогой шелковый камзол, перетянутый военным кожаным ремнем.
184
Когда этот «бедняк» был допрошен, он оказался одним из ближайших помощников самого Кудрат-бия.
Гулям-Магог получил первую благодарность по службе.
Еще только май, еще раннее утро, а уже багровый горячий диск солнца накаляет горы и превращает воздух в густой поток расплавленной жидкой массы. Уже струйки липкого пота стекают по спине и пропитывают набухшую от соли и грязи рубаху. Лошадь ступает все тяжелее. Пройдена только небольшая часть пути, а уже невыносимо хочется спать, и веки смыкаются, и глаза никак не хотят открыться и взглянуть на величественную картину раскинувшихся вокруг гор и бесконечных холмов.
Потоки лучей затопляют гигантскую котловину, до неправдоподобия круглую и ровную. С севера высится увенчанная снеговой шапкой махина Баисунтау, и видно, как снег блестит на солнце. Он лежит как будто совсем рядом, а почему-то ветер не доносит от него ни признака прохлады. Непонятно, почему не бегут с гор льдисто-холодные ручьи и потоки. Ведь должны же быть и ручьи и потоки; не может быть, чтобы в такую дикую жару снег не таял. И он тает. Но в том-то и состоит мрачная загадка проклятого богом и людьми ущелья, что студеные горные воды Баисунтау в него не попадают.
Правда, по дну ущелья Танги-муш струятся кристально-прозрачные воды небольшой речки. Они журчат, переливаются по камешкам, манят. Путник с воспаленными губами, с иссохшим языком опускается на колени и погружает в сверкающую влагу лицо...
И тотчас же, отплевываясь, выкрикивая ругательства, человек вскакивает. Вода горьковато-соленая, противная. От нее еще больше хочется пить.
На протяжении девяти ташей, что составляет около восьмидесяти верст, в ущелье питьевой воды нет.
Дорога пересекает круглое ровное дно долины и широкой белой полосой сбегает вместе с соленой речкой в мрачную щель — горный проход Аджи-дере — Горькую долину или Горькую теснину.
Вся горечь жизни в этом названии. Горькая вода, горький запах полыни, горький пот, безысходная горечь отчая-
185
ния путника, вынужденного спускаться вниз, в пропасть, которую недаром прозвали в те годы Ущельем Смерти.
Сколько воспаленных глаз обращалось с мольбой к бесстрастным небесам, тяжелым синим шатром опирающимся на скалистые стены ущелья, сколько растрескавшихся, иссушенных губ шептали слово — «воды!» Но воды но было. Прячась среди скал, банды басмачей преграждали путь к благословенной, изобилующей водой Гиссарской долине.
Много людей погибало в Ущелье Смерти; много могил безмолвными холмиками окаймляют на протяжении десятков верст дорогу. Никто не придет сюда оплакивать молодые жизни и безвестное мужество тех, кто вновь прокладывал на Восток древнюю дорогу, по которой некогда шествовали легендарные цари сказочной Согдианы вглубь великой горной страны, к границам Китая и Индии.
Унылый скрип колес внезапно оборвался. Неожиданная тишина переполошила всех.
Из-под арбяных навесов высовывались серые от пыли лица. Воспаленные глаза бегали по голым скалам, напряженно разыскивая фигуры басмачей. Вдоль колонны с топотом и грохотом промчался кавалерист. Вдогонку ему неслись возгласы, вопросы, но он не удостаивал никого ответом.
Кто-то показал на черный провал ущелья.
— Вот она, адова пасть.
Где-то далеко впереди послышался крик: «Тро-о-гай!»
Засвистели, заскрипели арбы. Обоз двинулся вниз.
Печально тащился караван по извилистому, усеянному могучими валунами ущелью, сжатому отвесными выщербленными стенами. Удивительно пустынно было здесь. Ни птицы, ни бабочки, ни стрекозы. Даже кузнечики и саранчуки — и те пропали. Ничего кроме жалкой колючки, соли и камней. Все мертво.
Ветер не проникал в узкую щель. Накаленный восьмидесятиградусной жарой воздух отчетливо видными струйками поднимался вверх, и казалось, что скалы, глыбы известняка, каменные стены непрерывно трепещут и шевелятся.
Внезапно на гребнях скал, с обеих сторон нависших над ущельем, появились крошечные фигурки всадников.
— Ну, кажется «они»,— с равнодушием обреченности заметил кто-то.
186
Джалалов потащил через голову винтовку. Глухо прозвучал испуганный женский крик.
— Придется, что ли, в укрытие идти, — неуверенно сказал Медведь,— а то здесь как кроликов всех перехлопают... Спрятаться, до ночи просидеть, а там по холодку выберемся.
Но он сам не торопился слезать с лошади и только погрозил кулаком в сторону скал и смачно выругался.
Обоз продолжал двигаться, всадники ехали все так же на большом расстоянии по бокам, то забираясь на вершины холмов, то ныряя в расщелины и исчезая из виду.
— Хоть стрелять бы начали... А то какая-то игра в кошки мышки.
Апатия и уныние царили в обозе. Казалось, появись сейчас среди арб и верблюдов с гиком и воинственными воплями вооруженные до зубов бандиты, и все безвольно подставят под ножи свои шеи.
— Сто-о-о-й!— Глухо пронеслась команда.
Караван с шумом остановился на берегу соленой речки. Лошади жадно тянулись к воде и, сделав единственный глоток, отступали, беспомощно помахивая головой. Глаза их, умные и печальные, наливались кровью, горло делало судорожные движения...
Люди бродили вдоль берега реки. Кое-кто прилег на песок под арбами, пытаясь найти прохладу в маленьком клочке тени среди нестерпимого, режущего глаза сияния. Дремота, полная кошмаров, навалилась на мозг. Хотелось пить.
И как-то без всякого энтузиазма, без малейшей радости в сознание людей проникли чьи-то слова, произнесенные равнодушно, монотонно:
— То не басмачи, то наши, красноармейцы.
Послышался топот. Проскакал боец, мелькнуло под белым платком коричневое воспаленное лицо.
Караван заволновался, зашевелился. Арбакеши бросились запрягать.
Через десять минут обоз снялся с печального бивуака.
Еще час пути... Еще час безмерных страданий людей и животных. Но оказалось, что подлинные мучения еще только впереди.
Начался подъем.
Вдоль обоза проехал Кошуба. Не останавливаясь, он предупреждал вполголоса:
187
— Подтянитесь... Проверьте винтовки.
Караван подъезжал к месту, завоевавшему печальную славу,— к Минг-мазару, что значит — Тысяча могил.
С холма расстилался вид на широкую, бескрайнюю степь, кое-где покрытую зелеными пятнами камыша и белыми плешинами солончаковых болот... Точь в точь как и тогда, на Байсунском перевале, гигантский столб желтой пыли медленно плыл над равниной.
Кошуба долго смотрел в бинокль и о чем-то советовался с Гулямом и Курбаном. Затем он махнул рукой, и два всадника поскакали на юг.
— Живее, живее,— командовал Кошуба.— Передать обозу, чтобы пошевеливались.— И, подъехав к Медведю, как бы невзначай, заметил:— Если это они, то они нас почти прозевали. Кони их тоже выбились из сил. И смогут они лишь нажимать с хвоста. Только поживее...
И, как нарочно, в эту минуту остановилась арба. Резко свернув в сторону, лошадь своротила громоздкую повозку в рытвину. Арбакеш, молодой, франтовато одетый парень соскочил с лошади и, нагло улыбаясь, подошел к Кошубе.
— Дальше не поедем...— Тон его был развязный. Он лихо заломил свою лисью шапку и уперся обеими руками в бока. Новенький полосатый бекасамовый халат его был перевязан ярко расшитым поясным платком. На желтых сапогах не было ни пылинки.
Командир молча рассматривал арбакеша. Тот, не дожидаясь вопроса, продолжал:
— Чека выскочила, колесо сейчас упадет.
Он лениво играл плеткой с дорогой серебряной рукояткой и самодовольно поглядывал на длинную вереницу остановившихся арб, путь которым преграждала его арба.
— Надо чинить... Починку будем делать.
Дорога шла по глубокой узкой выемке, выбитой в течение тысячелетий караванами и арбами в рыхлой лессовой толще. В узком коридоре обоз был как в ловушке.
Джалалов подскочил к арбакешу и срывающимся голосом закричал:
— Сейчас же, сейчас же трогай!
Арбакеш все так же нагло улыбался. Только глаза его, черные и пронзительные, заметались по сторонам, и камча запрыгала в руке.
188
По обрыву, из выемки, где сгрудился обоз, поднимались возбужденные, горячо жестикулирующие арбакеши.
Тогда Кошуба небрежно процедил сквозь зубы:
— Джалалов, успокойся.
Он слез со своего коня, и ведя его под уздцы, подошел вплотную к арбакешу. Выражение лица молодого парня под взглядом Кошубы начало меняться; бледность разлилась под коричневым загаром, глаза потеряли наглый блеск.
Около десятка арбакешей столпились вокруг них. Это были чернобородые, атлетически сложенные молодцы, славившиеся на всем Дюшамбинском тракте своей лихостью, удалью и неразборчивостью в вопросах морали.
Еще свежа была в памяти бухарцев легенда о некоем полунищем возчике Саибе с большой Каршинской дороги. Саиб повез богатого купца из Самарканда в Карши, а вернувшись, вскоре, превратился в Саиб-бая, богатого землевладельца в долине Зеравшана. Поговаривали, что купец вез много золотых монет, и что и купец, и монеты исчезли без следа, как будто их проглотили пески Кызыл-Кумов. Но кто мог заподозрить в чем-нибудь могущественного Саиб-бая — гостеприимного, хлебосольного и очень щедрого на подачки уездному начальнику и участковому приставу? Это тот самый Саиб-бай, который, как волшебник, за одни сутки насадил в пустынном урочище роскошный фруктовый сад только потому, что жена приезжего военного, жившего вблизи лагерного городка, выразила вслух сожаление, что приходится жить среди голой степи.
У недавнего арбакеша Саиб-бая было холеное, обрамленное ассирийской бородой лицо, белая, индийской кисеи чалма, три законных жены, не считая многочисленных наложниц, сотни батраков и тысячи баранов. И все же он был когда-то полунищим арбакешем, беспутным сыном большой дороги...
Арбакеши сумрачно смотрели на Кошубу. Они явно собирались затеять ссору, но Кошуба меньше всего намеревался вступать в переговоры. Он держался так, как будто перед ним было не полтора десятка отчаянных, вооруженных длинными ножами, головорезов, а несколько непослушных, расшалившихся мальчишек.
— Ну, Сиддык!— сказал он.
Молодой арбакеш встрепенулся. В глазах мелькнуло изумление: откуда командир знает его имя?
189
Рука Кошубы опустилась на плечо Сиддыка.
— Вот что, друг. Ты сейчас выведешь арбу на дорогу. Сейчас.
— Но чека...
— Заткнешь дырку, чем хочешь, хоть пальцем. Марш!
Сиддык спустился к арбе. Он шел как побитый. Несколько арбакешей кинулись к нему, по-видимому, желая помочь. Но Кошуба резко крикнул:
— Не сметь! Пусть сам.
Подхлестывая лошадь, Сиддык ухватился за колесо и с криком, напрягая все силы, вытолкнул арбу на дорогу.
Он вытер потный лоб полой халата, лихо вскочил в седло и гортанными выкриками погнал лошадь вверх по подъему.
Командир смотрел ему вслед.
— Хороший получился бы солдат... А вы знаете, кто он, вернее, кто его отец? Аманбай, локайский помещик. Самый настоящий курбаши. Родного сыночка послал отбывать обозную повинность. Кто знает, не хотел ли байский щенок нарочно задержать обоз? Видите, и колесо и чека на месте.
IV
Арбы скрипят особенно пронзительно. Скрип колес сверлит мозг и, отдаваясь эхом в накаленных стенах ущелья, кажется похожим на вопли чудовищных птиц. Птицы летят по пышущему зноем белому небу и купаются в солнечных лучах, расплескивая брызги пламени прямо в лицо. А голову все туже сжимает железный горячий обруч и перед глазами ходят черные столбы, и только в промежутки между ними можно с трудом разглядеть кусочки белых меловых утесов, белое соленое ложе речки, белые выцветы соли на дороге.
Сон это или бред?
Лошадь низко свесила голову и еле перебирает ногами. Выпустив из рук поводья, Николай Николаевич покачивается в забытье. Каждый шаг точно молотом отбивает удар в висках.
Пить хочется. Тридцать два часа люди и лошади не пили. Самое страшное, что не удалось напоить лошадей: еще несколько таких часов, и кони начнут падать.
Солнце будто нарочно медленно ползет по небу. Никогда, кажется, раскаленный этот шар не слезет с неба, не
190
уберется за горы, не потонет в снегах таких близких и таких недосягаемых горных вершин. Какими безумцами были люди, поклонявшиеся солнцу! Нужно не поклоняться ему, а проклинать его...
Опять дремота и бред... И как давят стены ущелья! Отовсюду — от стен, от земли, от неба пышет жаром, как из тысячи печей.
Сколько может быть градусов?
Где самое жаркое место на земле? Говорят, где-то в Калифорнии. Пустяки! Наверняка, здесь.
Лошади, обессиленные, едва плетутся. Люди неподвижно лежат на арбах. Николай Николаевич похож на приведенье. Руки висят, как плети, рот раскрыт, жадно ловит сухой, горячий воздух.
Ущелье делает резкий поворот и упирается в высокий желтый холм — пирамиду, покрытую небольшими буграми. От пирамиды в лицо бьет горячая струя. Нечем дышать. Темнеет в глазах. Судя по стуку молотов в висках, лошадь продолжает шагать.
— Вы хотели видеть Ущелье Смерти,— слышит Николай Николаевич знакомый голос,— смотрите. Вот это место. Вот Тысяча могил.
Рядом едет Кошуба. Удивительно, как может он сохранять бодрый вид в такой зной.
Дорога разворачивается и белой, пышущей жаром и дымящейся едкой соленой пылью, лентой уходит в сторону. Медленно ползет по ней обоз. Все с трепетом смотрят на страшный холм. Все молчат.
— Вот из-за этого места,— говорит Кошуба,— и называется долина Ущельем Смерти. Они здесь и поджидают всегда. Знают, что и люди, и кони окончательно сдали, знают, что воля и силы подавлены усталостью, жаждой, солнцем, и... налетают.
Слова Кошубы, в другое время вызвавшие бы тревогу, почти никого не волнуют. Кто-то жалобно спрашивает:
— А вода скоро?
Не отвечая на вопрос, Кошуба продолжает:
— Многие сложили здесь головы, очень многие. Поедем, доктор, посмотрим.
Всем своим бодрым, подтянутым видом комбриг подчеркивает, что трудности пути по Ущелью Смерти не так уж велики и что нечего распускаться и падать духом, бодрость его действует на Николая Николаевича заразительно.
191
Кони идут узкой тропинкой по склону пирамиды. В стоне колес, в облаках пыли обоз уходит влево. Становится тише. Стрекочут кузнечики и цикады. Крепко пахнет полынью.
Здесь, наверху, чуть легче дышать. Мягкий, почти прохладный ветерок обдувает воспаленные лица. По бокам дорожки, среди кустов колючки, блеклой травы и ярких желтых цветов — холмики комковатой глины. Некоторые из них придавлены тяжелыми камнями, кое-где воткнуты колышки.
— Могилы,— говорит Кошуба.— Он снимает фуражку.
Всадники поднимаются вверх.
— Могилы. В каждой лежит воин. И не простой воин — боец Красной Армии. Заслуженный боец. Многие из них все фронты прошли. И под Питером воевали, на Кубани, и под Варшавой, и на Перекопе. И вот попали сюда, в Ущелье Смерти...
У самой вершины пирамиды лошади начинают испуганно храпеть и пятиться. Прямо из-под земли вырастает старик.
— Салом алейкум.
— Здравствуй, Ходжи-бобо,— отвечает приветливо Кошуба.
Он отводит старика в сторону и долго его расспрашивает о чем-то. Доносятся слова Ходжи-бобо:
— Нет, они прошли по нижней дороге. Их мало. Наверно только соглядатаи. Нет, не опасно, кони их измотаны. Нет, бояться нечего... Что? Санджар? Он не устает смотреть.
Внешний облик Ходжи-бобо вполне подходит ко всей этой дикой местности. Старик совсем высох, кожа туго обтянула его кости. Жизнь горит только в больших карих глазах. На худом, мускулистом теле белые, очень скромные одежды, в руках посох, на голове чалма.
Ходжи-бобо — страж могил кладбища ущелья Танги-Муш, более известного под именем Ущелья Смерти. Ходжи-бобо — хранитель вечного покоя тех, кто сложил головы на древней Дороге царей.
Старик живет в маленькой, чистенько выметенной пещере. В ней прохладно и уютно, хотя все убранство состоит из блестящих камышовых циновок, небольшого, обитого цветной медью, сундука, глиняных кувшинов и чашек и белого неизменного чайника, разрисованного цветочками,
192
Он даже угощает гостей. Угощает тем, что здесь является наибольшей драгоценностью — водой.
Вода хранится в глиняном кувшине. А известно, что в таких кувшинах даже в самую сильную жару вода остается очень холодной и вкусной.
Откуда здесь вода?
Старик качает головой. Нет, здесь не имеется, к сожалению, поблизости никакого источника. Приходится ездить на ишаке за водой несколько раз в неделю на юг в урочище Кондыхан. Там есть ключи, вытекающие из-под корней чинара, именуемого за свои гигантские размеры Деревом пророка Соломона. Вода в ключе сладкая и вкусная. Только это очень далеко.
Пиала воды сразу приводит все мысли в порядок.
Старик рассказывает о себе. Он не находит нужным скромничать. Ходжи-бобо хочет, чтобы его считали при жизни святым, а после смерти построили бы ему мавзолей. Пусть поставят туг с шестом и ячьим хвостом. Пусть ветры Восхода и Заката качают туг, и пусть молитвы о бедной душе отшельника возносятся к престолу аллаха.
Он считает, что вполне этого заслужит, если жизнь зеленых долин не сманит его отсюда. Кто знает, хватит ли у человека терпения коротать век в пещере, в соседстве с мертвыми.
Ходжи-бобо — хранитель могил. Никто его сюда не назначал, никто не просил брать на себя это тяжелое бремя. Жил он, носивший раньше имя Мавлян, в кишлаке Инкабаг близ Байсуна, в тенистом саду на берегу веселой горной речки. Жил хорошо, в хорошей семье.
Он даже не особенно стар еще и полон энергии и сил. Он не очень любит ишанов и имамов. В его голосе проскальзывают пренебрежительные нотки, когда разговор заходит о служителях аллаха.
— Нет, я не дервиш, не каляндар,— говорит Ходжи-бобо. Разве можно уподобиться этим кликушам с запахом падали подмышками и со стадами вшей в длинных патлах? Они считают, что, чем больше грязи на их теле, тем выше мера их святости. Нет, я просто человек.
Конечно, не без причины Ходжи-бобо бросил родной кишлак и поселился на вершине кладбищенского холма. И вовсе не так он предан богу, чтобы по призванию стать аскетом и заживо святым.
193
Жил Ходжи-бобо в домике, увитом виноградом. Была у него прелестная шестнадцатилетняя дочь Рано. Бек байсунский прислал за ней своих нукеров, а сын Ходжи-бобо защищал честь сестры и был изрублен. Остальные сыновья ушли к «горным братьям», а Ходжи-бобо спустился в ущелье и стал хранителем могил людей, погибших за правое дело...
— Пошли,— вдруг перебил свой рассказ Ходжи-бобо.
Он ведет гостей по тропинке и останавливается перед уже давно насыпанным холмиком. Земля слежалась от дождей в большой ком глины и спеклась в кирпич под жгучим горным солнцем. Ходжи-бобо берет в руки небольшой бурый камень. На черном, так называемом степном загаре его выцарапаны арабские письмена.
«Во имя бога милостивого и милосердного покоится здесь Искандер, сын Мавляна, сына Адила, убитый руками злых. Год, число».
— Искандера убили бекские собаки за то, что хотел он вырвать из зубов дракона свою сестренку Рано. А вот здесь, читайте: «Шарип, сын Мавляна, сына Адила, Джахид, воин за правое дело». Другой мой сын. Пал в бою против бекских нукеров. А вот в этой могиле третий мой сын, мой первенец. В прошлом году он лежал, умирая от ран, полученных в бою с басмачами. Ангел смерти Азраил посетил мою пещеру. Как просил я его взять мою жизнь, никому уже не нужную, и оставить дыхание моему первенцу Шарипу. Нет, видно, бог не видит слез людей...
Старик отвернулся и долго не мог произнести ни слова.
Рядом еще холмик, на камне трогательно выцарапан крест и с трудом можно прочитать арабские буквы, совершенно не приспособленные к столь трудным именам. Но и здесь сначала идет мусульманская формула.
«Бисмилля рахман и рахим...» А дальше: «Фидур Сидуруф, воин». Еще дальше: «Михаил Квитко, воин, боец за правду».
Около каждой могилы,— похоронен ли в ней мусульманин, или православный, или безбожник,— старик одинаково благоговейно совершает фатиху и, произнеся «О-о-мин!», проводит руками по бороде.
Он повторяет слова, написанные на камне:
— Они — бойцы за правду. Что мне до того, что они были разной веры. Они умерли с моими сыновьями в одном ряду, их могилы рядом, они все мои сыновья. О боже!..
194
Он садится на большое надгробье и задумчиво чертит посохом арабские буквы на песке. Кошуба и доктор молча смотрят на далекие снеговые горы с белыми шапками, на белую выжженную холмистую местность, на столбы пыли, удаляющиеся к северо-востоку.
Шелестят сухие былинки. Промчалась большая зеленоватая фаланга. Ветер взметнул за ней крошечное облачко тонкого песка. Фыркнув, покосились задремавшие было кони...
Ходжи-бобо поднял голову и глазами показал на другую сторону лощины. Там тоже виднелись холмики, там тоже были могилы.
— Там,— медленно проговорил старик,— в прошлый четверг я закопал Данияра.
— Данияра курбаши?— удивился Кошуба.— Он погиб?
— Да. Его убили по приказу Кудрат-бия за то, что он не хотел больше воевать против народа. Застрелили, как паршивую собаку... Там, на той стороне, хоронят басмачей. Там много могил этих презренных, протянувших руку жадности, и с каждым днем их становится больше. Каждый вечер прихожу я сюда и считаю их. И когда число увеличивается, я, приникнув устами к могилам, рассказываю моим сыновьям эту радость. Я говорю им: «Дети мои, поднимите свои головы, откройте глаза, посмотрите на ту сторону, там еще закопали двух собак, там...»
Он замолк в удивлении: прямо из лощины по тропинке поднимался Ниязбек. Лицо его посерело, глаза лихорадочно горели. Он с трудом слез с коня и хрипло проговорил:
— Вы здесь, товарищи... А я ехал, и снизу вижу — кто это там наверху? Здравствуй, старик!
Ходжи-бобо прищурился, сделал из ладони козырек от солнца и, внимательно разглядывая из-под мохнатых бровей Ниязбека, медлил с ответом, точно старался что-то припомнить. Наконец он сказал:
— Здравствуйте.
— Что ты тут делаешь, старик?
— Божье дело, божье дело...
— Ты что, могильщик?
— Все от бога, все от бога.— Затем он встал и, подойдя ближе, проговорил прямо в лицо Ниязбеку:— А я вас знаю. Вы тенгихарамский землевладелец Ниязбек.
195
— Откуда ты меня знаешь, старик?— в голосе Ниязбека прозвучали тревожные нотки.
— Мы, старики, все знаем, все помним. Не то что вы, молодежь. Припомните. Три года назад, в год лисицы. Во дворце бека байсунского одного старика привратники поколотили... Смешно так было. Все знатные и великие за свои толстые животы держались, слушая, как старик за дочь просил. А его палками, палками... Помните?
Лицо Ниязбека помрачнело.
— Полно болтать, старик. Откуда помнить мне всякие пустяки?— Он искоса взглянул на Кошубу.— Вот что, дай напиться, божий человек.
— Откуда у нас вода?
— Уж не хочешь ли ты сказать, старик, что ты, как ящерица, живешь без воды. Пойдемте, друзья. Сейчас напьемся.
Он быстро пошел к черневшему входу в пещеру. Оставив лошадь снаружи, он вошел внутрь и тотчас же появился с кувшином и большой чашкой.
— А, чтоб тебе помереть в огне,— голос Ниязбека был страшен.— Так-то у тебя нет воды? А ну-ка, возьми кувшин. Наливай.
Поставив на землю чашку, Ходжи-бобо начал лить в нее студеную влагу.
И хотя доктор только что напился, при виде воды ему снова очень захотелось почувствовать ее прохладу в воспаленном горле.
В этот момент произошло что-то необъяснимое; кувшин выпал из рук старика, перевернул чашку и покатился вниз по склону, расплескивая воду, которая с легким шипением впитывалась в горячую землю тропинки.
Толкаясь, судорожно поводя боками и жалобно фыркая, лошади кинулись лизать мокрую землю.
Ниязбек бросился с поднятой камчой на Ходжи-бобо. Кошуба резко остановил его:
— Не сметь!
— Он басмач! Он нарочно...
Старик не шевельнулся. Он смотрел на Ниязбека невозмутимо и в то же время презрительно. Лицо его, сухое и темное, было похоже на деревянную маску. Ничего не сказав, он повернулся и, наклонившись, нырнул в свою пещеру. Через минуту оттуда послышались слегка гнусавые нараспев произносимые слова молитвы.
196
Ниязбек разразился руганью. Кошуба стоял посреди тропинки и раскуривал свою неизменную трубку.
Когда всадники уже нагоняли шумный, пропыленный обоз, командир, как бы отвечая на свои сокровенные мысли, проговорил:
— Очень полезный святой. А? Как выдумаете, доктор?
Не зная в чем дело, Николай Николаевич поспешил согласиться, что Ходжи-бобо очень достойный и симпатичный человек.
— Жаль только, что он такой неловкий.
— Неловкий, вы думаете?— загадочно проговорил Кошуба.— Он очень ловок, этот Ходжи-бобо. И умен при том.
— Да, что это он говорил про Санджара?
— Правда? М-да, что-то говорил. Не припомню...
Всю дорогу до самого Миршаде Кошуба не проронил больше ни слова.
V
Кошуба был прежде всего солдат Красной Армии. Война для него уже давно стала буднями. Минуту назад он даже не представлял себе, что может скоро наступить такой день, когда ему, Кошубе, не надо будет воевать с врагами Советов, когда можно будет оставить военное дело. А тут перед ним, на кошме, в обыкновенной войлочной юрте сидели совершенно реальные вестники прекращения войны. Они громко прихлебывали кок-чай, сопели, утирали рукавами обильно струившийся по лбу, носу, щекам пот.
Перед Кошубой сидели парламентеры. Гроза горных долин, эмирский главнокомандующий, самый злобный оголтелый курбаши Кудрат-бий прислал своих представителей с торжественным заявлением о том, что он складывает оружие и сдается на милость Советов...
— Да, черт возьми!— Командир вскочил и, потирая руки, сделал несколько шагов по юрте.— Н-да!
Он остановился перед басмаческими представителями и все так же потирая руки, спросил:
— Итак, почтеннейший мутавалли, вы опять здесь?
Гияс-ходжа, хранитель вакуфа из Янги-Кента следовал, как тень, за экспедицией. Сегодня он появился в качестве уполномоченного курбаши Кудрат-бия. Мутавалли имел очень мирный облик в своем белоснежном, никогда
197
не пачкающемся, несмотря на трудности дальних дорог, халате, такой же чалме и коричневых мягких ичигах с зелеными пятками. Мирное обличье Гияса находилось в полном противоречии с устрашающим видом воинственных, увешанных оружием парламентеров, с которыми он только что приехал в лагерь экспедиции.
— Бог велик, товарищ, пришлось увидеться,— певуче протянул мутавалли.
— А знаете, что вы сейчас, как говорят на Востоке, вступили на порог смерти?— бросил комбриг.
— Бог велик!
— За все ваши дела я мог бы не очень-то с вами церемониться...
— Бог велик!— все так же спокойно проговорил мутавалли.
Спокойствие и выдержка, казалось, совсем оставили Кошубу, и Джалалов, не решаясь говорить вслух, незаметно сунул ему в руку записку. В записке Джалалов писал: «Простите, что вмешиваюсь не в свое дело. Вы все испортите. Помните, что на Востоке нельзя откровенно высказывать свои чувства».
Но Кошуба только раздраженно пожал плечами.
— У вас есть,— продолжал он, обращаясь к басмачам,— какое-нибудь письмо? Прямо скажу — я не доверяю вам. Дело серьезное. Так ведь? Мне бы бумагу с печатью. Все, как полагается.
— Светоч проницательности господин командир прав,— сказал, развязывая поясной платок, мутавалли,— очень прав, тысячу раз прав... Вот тут все написано.
И он протянул свернутое трубочкой послание. Оно было написано тем цветистым восточным стилем, в котором за витиеватыми оборотами нелегко иной раз добраться до сути и установить, что же, наконец, предлагает писавший.
Кошуба долго читал письмо. Посланцы курбаши сидели с безразличным, даже скучающим видом и, казалось, сосредоточенно изучали прихотливый узор ковра.
— Хорошо, очень хорошо,— заговорил, наконец, Кошуба.— Ну, а вы, Гияс-ходжа, сами-то верите Кудрат-бию? Вы верите, что он решил оставить разбой, резню, кровь, а? Что побудило его?
На лице мутавалли появилось благочестивое выражение. Он даже приложил руку к сердцу и весь как-то подался вперед.
198
— Судьба предопределяет пути людей, и никто не может идти против судьбы.
— Неужто судьба заставляла Кудрат-бия сжигать кишлаки, истреблять сотни дехкан, убивать женщин?
— Все от бога,— хранитель вакуфа благочестиво склонил голову.
— И та же судьба заставила вас приехать к нам, прямо на рожон?
— О, духовный наставник положил свою руку мне на глаза в знак повиновения. Я только скромный, ничтожный мюрид, послушный ученик.
Не было ни малейшего сомнения, что мутавалли не скажет больше ничего толкового. Приехавшие с ним басмачи не раскрывали рта. Гияс-ходжа пил чай, ел лепешки, удобно расположившись на подушках и одеялах и по безмятежному виду его можно было подумать, что он чувствует себя как дома. Разговаривал он мирно, добродушно, стоически перенося грубый тон командира. Только раз он вышел из состояния душевного равновесия и пробормотал:
— Ваши слова действуют мне на голову, как анаша. Вы только покупаете, а ничего не продаете, только спрашиваете, а не говорите.
Снова и снова разговор возвращался к Кудрат-бию и его неожиданному решению сложить оружие. Видно было, что Кошуба хочет заставить хитроумного Гияс-ходжу не то чтобы проговориться,— на это трудно было рассчитывать,— но хотя бы одним, двумя словами дополнить официальное письмо, дать в руки какую-нибудь нить.
Беседа давно уже стала походить на допрос, и даже загородившийся стеной казуистических рассуждений мутавалли начал проявлять признаки тревоги. Он вздыхал, закатывал глаза, вытирал большим красным платком пот со лба, но на все вопросы неизменно отвечал заверениями в дружбе и преданности. Так вот дипломаты какой-нибудь захолустной восточной страны, вроде Кашмира или Гильгита, по много суток ведут бесконечные переговоры по пустяковому поводу, стараясь взять друг друга измором.
Спустились сумерки, в комнате стало темно, а разговор все не прекращался. Кошуба распорядился принести свет. Вошел широкоплечий красноармеец с жестяной керосиновой лампой. Он поставил ее на низенький овальный столик, вытянулся и спросил:
199
— Начальник, можно сказать?
Кошуба только теперь обратил внимание, что перед ним новый боец его отряда — Гулям-Магог.
— Говорите.
— Товарищ начальник гарнизона просит к себе вас и ваших гостей кушать.
— Хорошо. Проводите. Передайте, что я приду попозже.
Мутавалли и его спутники поднялись. Уже подойдя к двери юрты, Гияс-ходжа вернулся и, озираясь, тихо проговорил:
— Их милость токсаба Кудрат-бий поручил мне передать еще, что он готов помочь красным воинам захватить отряд известного вам Санджара-батыра. Пусть это послужит, господин, доказательством чистоты душевных намерений их милости.
В красноватом неверном свете лампы лицо Гияс-ходжи вытянулось, заострилось. Глаза его воровато бегали в темных впадинах, а под тонкими усиками струилась елейная улыбочка. Теперь уже Гияс-ходжа пытливо изучал лицо Кошубы, старался прочитать его сокровенные мысли. Ответ последовал молниеносный, как удар бича.
— Да, мы согласны.
— Хорошо,— с видимым облегчением протянул мутавалли,— мой господин будет очень доволен, мой господин будет хорошо служить советской власти...
Кланяясь и бормоча заверения в своей преданности и в преданности Кудрат-бия, мутавалли, пятясь, вышел из юрты.
— Точка,— сказал Кошуба,— о-ч-чень хорошо. Приступим к изучению документа.
Это письмо Кудрат-бия мало чем отличалось от других его посланий. Видимо, сочинял их один и тот же писец по издавна установившимся, закостенелым шаблонам:
«Во имя пророка и бога, предопределяющего пути пожелания здоровья и процветания моему достославному беку и военачальнику, имеющему, львиное сердце, Кошубе и его сыновьям и семейству!
Пишет командующий войсками ислама, не склонявший еще ни перед кем головы, парваначи Кудрат-бий.
Да будет сделано так, на то воля пророка, дабы избавить мусульман от разорения и огня войны и пролития
200
крови и дабы вернуть в долины благородной Бухары мир и процветание, хочу я и мои доблестные помощники-курбаши и мои правоверные воины стать верными слугами советского государства ибо мы слышали, что советская власть не посягает и не преследует правоверной религии ислама и не подвергает гонениям последователей Мухаммеда и желая проявления милосердия, добросердечия к женщинам и детям в цветущих садах, мы порешили прийти к вам и сказать: примите наши души и да будут забыты взаимные обиды и стенания сердец.
Если советская власть проникнет в глубочайший смысл нашего желания и изъявит желание позаботиться о великой пользе народа, скажите нашему посланцу: «Да», и изложите это в письме. Тогда мы прибудем ровно через десять дней, считая от сегодняшнего дня, в город Денау со своими курбаши и джигитами на конях и с оружием и будем вас приветствовать в мире и согласии на том, чтобы жизни наши были долгие и занятия наши были свободны и избавлены от оков и сомнений. А прибудет нас 258 человек с 260 конями (хорошие кони), 134 винтовками, 36 револьверами, 7000 патронами. И со всем тем оружием мы отныне будем защищать Советы. Да воссияет свет мира над нашей страной, потрясенной несчастной и бедственной войной, причиненной столкновениями Красной Армии и войсками ислама. Да будет так».
Помолчав Кошуба сказал:
— Хорош документик, а? — и, не дожидаясь ответа, продолжал:— Только не все ясно. Почему так мало винтовок, а? Здесь червоточина, и явная. Дельце серьезное и сугубо тонкое. Пошлите ко мне Саодат. Вы, Джалалов, скачите немедленно в Денау. Я дам трех бойцов. Ничего, ничего, ночью басмачи не воюют.
— Да я и не боюсь...
— Знаю, знаю. Вот вам инструкция. Я тут набросал кое-что. Пусть из Юрчи прибудет оркестр. Начальнику гарнизона я позвоню. Отправляйтесь. До свидания... Да, товарищ Медведь, приготовьте все для съемки. Историческое зрелище.
Кошуба был очень оживлен, нервничал. Он бегал по юрте, потирал руки и все повторял:
— Точка.
201
А когда ему задавали вопросы, он просто на них не отвечал.
Саодат пришла прямо с торжественного ужина, устроенного начальником миршадинского гарнизона в честь приезда парламентеров. Она была возмущена и незамедлительно напала на Кошубу.
— Я не понимаю,— резко говорила Саодат,— нет, нет, не перебивайте меня... Как вы — командир Красной Армии,— можете гарантировать жизнь и неприкосновенность чудовищу, которого все узбекские и таджикские дехкане прозвали «адамхуром» — людоедом и «конхуром» — пьющим кровь. Кто не знает, что он проделывал в мирных кишлаках, признавших власть Советов и помогающих Красной Армии? Разве вам не рассказывал Гулям-Магог, что этот детоубийца вытворял а Инкабаге? Он там устроил той. Все горцы называют этот той «пиршеством ужаса». Там Кудрат-бий с курбашами пировал, жарил баранину и плов в тени деревьев, а палачи сенорубкой рубили старикам головы. А сенорубка была тупая, и каждому убиваемому наносили пять-шесть ударов по шее, прежде чем человек в неслыханных мучениях умирал. Там...
— Постойте, Саодат.
— Нет, вы, наверно, товарищ Кошуба, не знаете. Там рядом с котлами, где варили плов, поставили такой же огромный котел, взяли его из мечети,— наполнили маслом, и в масле сварили самого почтенного, самого уважаемого дехканина Сахат Пулата за то, что он работал на заводе в Ташкенте и, став там коммунистом, принес имя Ленина в Инкабаг. Я скажу самое страшное, товарищ Кошуба: Зульфие-ой и Камбарбу — женам батраков, за то, что мужья их палками и камнями отбивались от ворвавшихся в их хижины бандитов, разрезали животы, вырвали оттуда живых детей и набили животы конским навозом...
Саодат несколько раз начинала плакать, но слезы моментально высыхали на ресницах, и она, страшно боясь, что ей не дадут закончить, говорила, вкладывая в свои слова силу убеждения человека, который на себе испытал весь ужас басмаческой жестокости.
Опустив голову и мрачно постукивая пальцами по посланию Кудрат-бия, Кошуба молчал. Он заговорил только тогда, когда Саодат смолкла и, всхлипывая, спрятала свое горящее лицо в ладони.
202
— Все? Вы все сказали, Саодат?— в голосе Кошубы послышалась несвойственная ему нежность.— И все же разрешите доложить, решение принято. Советская власть гарантирует сдающимся добровольно Кудрат-бию и участникам его шайки жизнь и свободу... если они сами не нарушат условий сдачи.
Он так многозначительно протянул последние слова, что Саодат с удивлением подняла голову.
— Очевидно, Кудрат решил сдаться, а раз так, он, конечно, будет соблюдать условия.
— Сколько было случаев,— вмешался Медведь.— Они сдаются, потом снова разбойничают, снова, когда туго приходится, сдаются.
— Тсс... это к делу не относится... точка. Я вас позвал вот зачем. Вам партийное поручение. Как только мы прибудем в Денау, город, где будет нам сдаваться Кудрат, вы немедленно, вместе с местными женработниками, примете меры, самые твердые и решительные меры, чтобы ни одна женщина не устроила демонстрации своих, кстати, вполне справедливых, чувств, чувств ненависти к басмачам. Я уже позвонил в ревком. Они там вам помогут. Чтоб было до поры до времени тихо и спокойно. Понятно?
— Понятно.
Саодат кивнула головой. Ее красивое лицо было полно растерянности.
— Я очень прошу вас, Саодат, помогите нам и сделайте все как надо. Никаких проявлений чувств. Если кто-нибудь попытается организовать демонстрацию... ну, из местных жителей, ни в коем случае не допускайте. Ну, идите, кончайте ваш ужин.
Джалалов лежал, укрывшись теплыми одеялами, около своей юрты. Бархатно-черное небо с мерцающими огоньками звезд низко повисло над лагерем. Легкий ветерок ласкал обожженное лицо. В юрте Кошубы виднелся свет.
Хрипло, надрывисто лаяла где-то собака. Рядом тяжело сопело большое животное — не то верблюд, не то рабочий вол. Лагерь был погружен в сон. Недалеко, в глиняной мазанке, плакал ребенок, а мать убаюкивала его тихой, простой песенкой. Песенка отгоняла беспокойные мысли, успокаивала. Тревожный голос разбудил Джалалова. Было холодно, веяло сыростью. В изголовьи стояла темная человеческая фигура.
203
— Кто, кто?
— Я.
Голос принадлежал Медведю.
— Понимаете, Джалалов,— зашептал он,— Санджар в лагере.
— Что?— вскочил Джалалов.
— Тише. Честное слово, здесь. Я проявлял вон в той юрте пластинки. Задержался. Иду, спотыкаюсь на кочках, проклятые здесь кочки, вдруг шасть!— из-за юрты комбрига, из-за поворота всадники. Думаю — свои, бойцы. Ан нет, вроде как молодцы из доброотряда, четверо их было, а впереди ехал, честное слово, сам Санджар.
— А потом вы проснулись...
— Ну, ну, глаза у меня есть,— Медведь обиделся. Однако он тут же забыл про обиду и возбужденно продолжал: — Едет такой гордый, вооруженный. Шапка меховая лихо надвинута на самые глаза. Я сбегал к Кошубе, так он говорит: «Померещилось, идите, товарищ Медведь, спать».
— Вот правильно,— сонно пробормотал Джалалов,— давайте спать.— И уже совсем засыпая, проговорил:— Жалко, хороший был парень. Только к нам он не рискнет приехать.
Медведь буркнул что-то неразборчивое.
Голос доносился из-за низкого дувала, и слова были настолько необычны, что Медведь насторожился. Он не очень хорошо говорил по-узбекски, но понимал все, что говорили. Речь шла о возвышенном:
— ...бесценное, поистине бесценное наследие,— говорил кто-то, слегка нараспев.— Все останки нетленные, хранящиеся в великом Истанбуле, в самом пышном храме Гирнан-Сидэ — зубы пророка, самого пророка Мухаммеда, увы говорят, они совсем прожелтели, да еще в придачу часы, которые он потерял в битве, улепетывая, что есть духу, от острых мечей неверных собак, проявивших полнейшее неуважение к воинской доблести посланца аллаха. Там есть также священная и благословенная исподняя одежда Мухаммеда, а также коран, который он написал чудесным способом, ибо он был неграмотен и не мог отличить «а» от «б». Понятия не имею, как он мог писать. Есть в том хранилище святых копья и стрелы, а также
204
обрезки ногтей и волосы, принадлежавшие первым четырем правоверным халифам. Только тот является халифом, кто владеет упомянутыми великолепными сокровищами религии. И недаром всю жизнь эти халифы только и делали, что ссорились, дрались и проливали кровь своих приверженцев из-за тех драгоценных реликвий. Под рукой халифа должны к тому же находиться навеки Мекка с Каабой и Иерусалим. Вот почему правоверные без конца воевали друг с другом, потому что не было возможности мирным способом поделить мозговую косточку между грызущимися друг с другом халифами. Только суннитский закон...
Создавалось впечатление, что за забором читалась духовная проповедь. Не ожидая, когда говоривший закончит, Медведь встал на цыпочки и заглянул поверх забора. Старый этнограф рассчитывал увидеть ишана или бродячего дервиша. Каково же было удивление Медведя, когда он обнаружил разведчика Курбана, ораторствовавшего перед небольшой аудиторией. Там сидели Николай Николаевич, Джалалов, Саодат и еще несколько человек.
— Что за проповедь?— мрачно проговорил Медведь.
У Курбана был несколько сконфуженный вид.
— Мой дядя, пусть просторна будет его могила, был большой домулла,— скромно ответил юноша.— Он хотел меня сделать имамом, но он всегда говорил мне: «Курбан, капля неправды подобна яду, отравляющему море истины. А ты видел имама, который не обманывал бы народ?» Я подумал-подумал и решил уклониться с тропы, ведущей к мечети.
После обеда Курбана вызвали к командиру, а ночью он исчез.
Экспедиция задержалась в Миршаде на несколько дней. Все предавались заслуженному отдыху.
Свежие ночные ветры, благоухающие ароматами весенних степных трав, уже начинавших выгорать на солнечных склонах пологих холмов, бирюза неба, ледяные шапки дальних гор, величественные вечерние зори, синие хребты, разбегавшиеся во все стороны, все дышало мирным покоем.
Не хотелось двигаться, трястись по пыльной дороге, чувствовать на плечах и на лице жесткие, прямые лучи солнца. Не хотелось вспоминать о войне, о басмачах.
205
Да к тому же все знали, что Кудрат-бий решил повиниться, а все басмачество как-то невольно отождествлялось с Кудратом, и думалось, что раз он прекратит свои набеги и бесчинства, то и борьба с басмачеством закончена. Значит, путь на Дюшамбе открыт, значит, начинается мирное, будничное путешествие.
Настоящим событием, кстати подтверждающим все эти шаткие предположения, было неожиданное прибытие в Миршад без всякой охраны группы бухарских купчиков.
«Ну, раз торгаши появились,— говорили все,— раз они по дорогам начали разъезжать без страха, тут верное дело».
Важные и упитанные, полные коммерческой солидности, купцы передвигались верхом. На лошадях и ишаках были сложены товары— мануфактура, галантерея, бакалея, а сверху восседали почтенные ветхозаветные патриархи, молчаливые и сосредоточенные.
Они робко отвечали на расспросы, но с молниеносной быстротой обделывали свои торговые, иногда довольно сложные, делишки.
Когда экспедиция несколько дней спустя выступила в дальнейший путь, купцы присоединились к каравану.
VI
Безрадостна и уныла была в те дни Гиссарская долина. Часами можно было ехать по дорогам и не встретить ни души.
Тяжелые серые дувалы тянулись бесконечно, отгораживая бесплодные пустыри и запущенные безлюдные сады. Только изредка, да и то в стороне от нового Дюшамбинского тракта, можно было нечаянно встретить запуганного дехканина в худом, испачканном желтой глиной халатишке, босого, с черным, туго обтянутым пергаментной кожей лицом. При виде вооруженного человека земледелец бросал кетмень, низко кланялся и окончательно терял дар речи. Трудно было понять, где живут здесь дехкане. Кругом, на многие километры, тянулись заросли верблюжьей колючки и непролазного камыша, над которым то там, то здесь высились темными громадами шапки одиноких чинаров. Путанные тропинки местами совершенно исчезали в тугайных зарослях, местами терялись в болотах. Ороси-
206
тельные каналы за последние годы пришли в негодность: плотины разрушились, и вода горных бурных речек текла самовольно, так, как тысячелетия назад, до появления в долине человека. Можно было блуждать по дорогам и тропам целыми днями и не натолкнуться на жилье, потому что крестьянин, бежав из родного кишлака, строил сейчас свой конусообразный шалаш из камыша и глины в самой глубине зарослей и притом еще тщательно заботился, чтобы в траве не протаптывалась слишком приметная тропинка. Домашним строго-настрого наказывалось гонять скотину каждый день в новом направлении. Днем костер не разжигался, а ночью огонь прикрывали щитами из камышовых циновок. Жарить мясо, в особенности с луком, тоже не решались, так как пряный запах разносился ветром далеко и мог послужить приманкой для недобрых людей, а развелось их немало. Тут были и басмачи, объединенные в шайки, носившие даже некоторые черты военной организации, и разные мелкие воровские банды кзыл-аяков, кара-аяков, и просто группы подозрительных личностей, и афганские бродячие таборы. Лишь цыгане, никого не боявшиеся и наводившие своим колдовством священный ужас не только на мирных земледельцев, но и на самых диких и необузданных курбашей, осмеливались в поисках пищи бродить в одиночку вдоль берегов Сурхана и Туполанга.
С пищей было плохо. Шли самые тяжелые, самые голодные месяцы, апрель-май, когда скудные запасы зерна, риса в дехканской семье кончаются, а овощи еще не созрели.
Гиссарская беднота и раньше, при беках, ежегодно весной вымирала тысячами, и никому до нее не было дела. А в эту весну вообще творилось что-то невероятное. Басмачи, разъяренные тем, что народ отшатнулся от них, пошли огнем и мечом на мирные кишлаки и селения и разоряли и без того уже разоренное эмирскими налогами и поборами дехканство.
Оборванные, похожие на живые скелеты, люди брели неизвестно куда по размытым горными потоками дорогам и запущенным тропинкам.
Откуда-то из ущелий Бабатага спустились в долину стаи шакалов, одичавших собак. Пришедшие с юга, из долины Аму-Дарьи гиены обнаглели настолько, что нападали на улицах кишлаков на детей и подростков, Челове-
207
ческие кости белели в траве на берегах высохших арыков, в развалинах домов.
Обильный, прекрасный край пришел в запустение.
...Одинокий всадник, не торопясь, ехал туманным утром по проселочной дороге, спускавшейся к Сурхану. Лицо путника было мрачно и озабочено. Временами, когда взгляд его падал на торчавший сломанным зубом остаток стены дома, он вполголоса разражался никому не адресованными проклятиями. Человек кутался в белый, суконный халат и тяжело вздыхал. Мохнатая киргизская лошаденка сонно брела, низко опустив голову и изредка прихватывая на ходу пучки густо разросшейся по обочинам дороги травы.
Всадник уже много раз приподнимался на стременах, пытаясь что-нибудь разглядеть в зарослях камыша и колючего кустарника, но каждый раз вновь грузно опускался в седло и бормотал: «Двенадцать небесных сфер проедешь здесь... Но разве что-нибудь найдешь?»
Внезапно конь заржал, и из-за поворота дороги прозвучало эхом ответное ржание. Путник встрепенулся, заерзал в седле и перестал разговаривать сам с собой.
— Слушай, ты, человек!— прозвучал хрипловатый простуженный бас.— Запрети своей кляче подавать голос.
Всадник тревожно оглянулся по сторонам, но не увидел ни души. Стена прошлогоднего порыжевшего камыша сжала дорогу, превратив ее в узкую тропинку, метелки свисали над головой, били по лицу, задевали морду лошади.
— Ваалла,— нарочито громко протянул путник,— велик пророк. Кто говорит?— и так как ответа не последовало, путник нараспев продолжал:— О пророк, дай мне немного здоровья для сохранения моего тела или святого дыхания для спасения души. О пророк...
— Да ты настоящий имам,— снова раздался хриплый голос.— Ты сделаешь честь самому тупому из всех тупых чалмоносцев Бухары. А ну-ка, слезай...
Камыш раздвинулся, и перед глазами путника выросла фигура пожилого коренастого человека увешанного оружием.
— Слезай, да поскорее... Ну, а теперь скажи, чего тебе понадобилось в нашем доме?
Прижимая руки к груди и низко кланяясь, путник забормотал:
208
— Ваша милость... велик бог... сохраните жизнь, господин высокоблагородный, ваше превосходительство курбаши...
Бородач грубо прервал его:
— Умри, слизняк! Куда пробираешься, алтарный скорпион? Ну, говори!
— Я еду пред светлое око великого воина Санджара.
— Эге, а откуда ты, шакалья душа, прознал, что он здесь? А?
И, не дожидаясь ответа, он задрал вверх, к небу, свою рыжую с проседью бороду и закричал, призывая какого-то Саттара.
Через несколько минут путника, с аккуратно связанными за спиной руками, вели вглубь Камышевых зарослей. По дороге словоохотливый бородач, словно извиняясь перед пленником за причиненное беспокойство, развлекал его разговорами:
— Вот обгорелые стволы. Нет, правее, еще правее... Так там прирезали пару сотен людей... Осталось немного пепла и углей, а ведь тут был большой кишлак, и в нем были мечети, где ваше имамство,— а вы, наверное, имам, я сразу догадался, я не ошибаюсь в таких делах... Так вот здесь вы могли бы восславить имя пророка и, забравшись на мимбар, поучать нас, темных людей... Жили люди ни бедно, ни богато, только вот веру отцов, что ли, отбросили в сторону, да очень любезно и гостеприимно принимали советских людей. Тогда воины ислама предали селение Чорчинар разграблению, чтобы неповадно было впредь... Только для кого пример? Всех, и малых и больших, прикончили, не оставили никого, кто бы мог прийти на кладбище и зажечь свечку угоднику. Вон, видишь, там подальше, зеленый купол — там было место молитвы. Вот бы там ваши «ляху илляляху» покрикивать с минарета. Там и минарет есть, кажется, еще целый. А то все ишаны святые куда-то подевались с тех пор, как Чорчинар стал местом смерти, и некому стало носить святому угоднику дары да подношения.
После паузы, которая длилась ровно столько, сколько нужно было на то, чтобы отправить под язык здоровенную порцию наса, бородач продолжал:
— Ну-ну, ведь вы, имамы, да мюриды, да все прочие ходящие пред лицом аллаха, нуждаетесь, как и мы, простой народ, в хорошей большой чашке плова, а? Правиль-
209
но? Конечно, правильно. Вот о плове. До чего народ стал теперь злой, души до самой глубины потемнели. Вот тут рядом... вон за тем холмом, нет, левее, живет один дехканин. Абдулла, что ли, его зовут. У него для курбаши Кудрат-бия дочь четырнадцати лет взяли... ну, спать с ним. Нет, не женой. Жен у него хватит. Только девушке не понравилось, или не перенесла она Кудрат-бия и умерла. Н-да, красивая девушка была. Ну, Кудрат приезжает к ее отцу. «Давай, сядем, побеседуем»,— говорит. Дехканин ведет курбаши в михманхану, а какая там у него комната для гостей — стены, потолки черные, на полу рваные одеяла, в комнате жгут костер. Кудрат недоволен. «Я тебе зять, наконец,— говорит,— угости пловом». Нехорошо, когда гость сам у хозяина требует угощения. Однако дехканин говорит «хоп» и давай хлопотать. Побегал, вернулся к гостю. «У нас, благодаря вам — воинам ислама, и рис кончился, и моркови нет, и масла не видим»,— говорит. Кудрат-бий как вскочит: «Молчи, тварь, чтобы сейчас же плов был...» Ну, Кудрат сидит со своими лизоблюдами, ужина ждет. Ну вот, открывается дверь, мальчики несут блюдо с пловом. Кудрат засучил рукава халата, положил полную щепоть в рот, да как заорет. Все испугались — и к нему. А он толкает рукой блюдо, кричит: «Хлопковая шелуха, шелуха...» Вот так дехканин! Из чигита плов устроил.
Путник шел, низко опустив голову, и отозвался не сразу.
— Ну, и что же? Кудрат, а?
— Приказал дом сжечь, разрушить, чтобы следа не было.
— А Абдулла?
— Дехканин Абдулла, или как его, ушел, да еще говорят, похвалялся: «Жирный кабан преступил обычай гостеприимства. Требовал — дай то, дай это, сделай плов. Ну, пусть пожрет. А не хочет, придет время я ему силой напихаю в горло не только чигит, гальки напихаю...» Такой злой оказался... А как тебя зовут и куда идешь?
— Я Курбан, иду к Санджар-беку. Слышал — великий он воин и храбрец.
В просторной комнате для гостей случайно уцелевшего большого байского дома, стоявшего над самым обрывом Сурхана, сидели кружком, склонясь над географической картой, Санджар или как теперь его звали, Санджар-бек
210
со своими ближайшими помощниками. По правую руку, сладко зевая и перебирая большие бирюзовые четки, полулежал личный эмиссар Кудрат-бия, Зуфар-Ахун. Курбаши прислал его сюда для связи, когда поползли всюду слушки, что Санджар-бек переметнулся от красных на сторону басмачей. Никто, глядя на чистое, с нежным девичьим румянцем, юное лицо Зуфара, не подумал бы, что это самый беспощадный помощник кровавого курбаши. Гнусные зверства Зуфара отталкивали от него даже наиболее закоренелых кудратовских бандитов. Зуфар только недавно перестал быть возлюбленным Кудрат-бия, так как вышел из возраста бачи, но он остался его наперсником и выполнял в банде самые ответственные поручения. Сейчас он не отходил ни на шаг от Санджара и от имени Кудрат-бия давал ему советы:
— Господин дотхо Кудрат-бий, да будет прославлено его имя, изволят вам заметить, что пора приступить к делу. У ваших джигитов отличное оружие, отличные кони. Вот вы, Санджар-бек, пропустили удобный случай в ущелье Танги-муш. Целый день вы шли рядом с большевистским караваном и даже не попытались напасть на него.
...Господин дотхо соизволил указать, что из кишлака Саук-поен два молодых джигита,— пусть огонь спалит их отцов в могиле,— ушли добровольцами в Красную Армию. Прикажите схватить подлых безбожников, породивших ублюдков, и доставить к дотхо на суд и расправу.
...Господин дотхо соблаговолил сообщить, что на окраине Юрчи в махалля Сагбон поселилась проститутка, именующая себя учительницей из Самарканда. Она ходит по улицам без чачвана и паранджи, оголяя бесстыдно свое поганое лицо. Пошлите своих воинов, пусть выпотрошат эту тварь.
Зуфара злило, что Санджар-бек держался независимо и не обращал внимания на распоряжения Кудрат-бия.
Отряд Санджар-бека, состоявший целиком из бывших добровольцев, засел к югу от Юрчи и Денау в непроходимых камышах. В лагере царила жесткая дисциплина: ежедневно устраивались боевые учения, тревоги, за что эмиссар Кудрат-бия очень хвалил Санджар-бека.
У дверей михманханы к Курбану подскочили два кряжистых чалмоносца, всем своим обличьем непохожие на санджаровских людей.
— Эй, эй, попался, большевой!
211
Они грубо втолкнули Курбана в комнату. Неожиданным сильным пинком Курбана сбили с ног. Приподняв окровавленное лицо, разведчик встретился взглядом с мерцающими неистовой злобой глазами Зуфара.
— А ...— захрипел кудратовский эмиссар, и лицо его задергалось.— Получил, только мало!..
Схватив камчу, он кинулся к Курбану. Санджар решительно отвел руку Зуфара:
— Подождите, спросим. Этот человек, кажется, желает уйти от большевиков и стать воином ислама...
Но Зуфар неистовствовал:
— Подержать голым денек-другой на солнцепеке... Содрать кожу с живого! Кто один день был с большевиками, хотя бы только один день, тот пропитан заразой, тот забыл отцов и ислам. Придушите его. Он кафир, он собака!..
— Однако,— насмешливо заметил Санджар,— вы очень испугались какого-то беглого красноармейца. Эй, Карим, брось его в яму, пусть покормит там клопов...
В глазах Курбана ходили красные круги, он ничего не видел и не соображал. Его поволокли куда-то, облили голову водой и столкнули в яму.
Чего только не передумал Курбан, сидя в яме! В бессильной ярости он стискивал до боли зубы, бормоча и клянясь отомстить. Гордого горца Курбана за всю жизнь никто ни разу не ударил.
Вечером в темницу принесли хороший ужин, кувшин с водой и подстилку для спанья. Позже к краю ямы подходил, очевидно, Зуфар. Он истерически выкрикивал ругательства, грозясь пристрелить пленника, как собаку.
Вскоре он ушел... Наступила тишина. Курбан устроился поудобнее и, грустно пересчитывая вспыхивавшие одна за другой в темнеющем небе звезды, задремал.
Очнулся он от нервной дрожи, пронизавшей все тело. В яме было темно, холодно. Но Курбан чувствовал, что рядом с ним находится живое существо. Он весь напрягся.
— Кто? Кто?
Ему показалось, что в яму спустился Зуфар, что пришел его смертный час.
— Тише,— прошелестел чуть слышно голос,— не кричите... Держите крепкой рукой ваше сердце джигита и воина. Есть разговор, слушайте.
Медленно приходил в себя Курбан. Руки его все еще дрожали. Боль от недавних ударов давала себя знать.
212
— Вы пришли к нам, Курбан, друг мой,— сказал властный голос. — Вы недовольны Кошубой, вы чтите законы ислама и пророка его Мухаммеда, вы, как правоверный мусульманин, не хотите служить большевикам.
— Повинуюсь...
— Сейчас вас переведут отсюда к моим джигитам и вы отныне воин Санджар-бека. Поняли?
— Да, я понимаю... Так было сказано начальником.
— Тсс! Когда завтра будете перед нашими глазами, прочитайте самую длинную молитву, какую вы знаете. Мне говорили, что вы великий знаток корана. Читайте Зуфару две молитвы, четыре молитвы... двадцать молитв. И он возблагодарит аллаха, что тот направил стопы ваши в ряды воинов ислама. Сейчас вас возьмут отсюда.— Едва слышно, быстро все тот же голос добавил: — Что же касается Зуфара, то недолго ему хорохориться.
Санджар (это был он) поднялся по лесенке и ушел.
На утро Курбан преобразился в басмача. Ему вернули коня, выдали трехлинейную винтовку, шашку, патроны. Боевая учеба, наряды, разведка отнимали все время. И если бы не два чалмоносца, оказавшиеся телохранителями Зуфара, которые следили, как соглядатаи, за всем что делалось и говорилось в отряде, Курбан едва удержался бы в разговорах от сравнений с жизнью в части Кошубы. Но приходилось молчать. Молчал и Зуфар, только он являлся раз в день во двор, где жил Курбан, и заставлял его читать бесконечные молитвы. Зуфар внимательно слушал и так же молча уходил. Только раз он ни с того, ни с сего вспылил:
— Как читаешь, пес? Как читаешь? Ты верующий или ты окончательно предался большевикам? Нет, ты не ишан, ты большевик...
И он замахнулся камчой, но прочитал в лице Курбана такое, что отшатнулся и опустил бессильно руку.
Мирная жизнь санджарбековского отряда вскоре оборвалась... Откуда-то во весь опор прискакал гонец, и почти тотчас же разнеслась весть, что Кудрат-бий сдается Красной Армии, что войне конец, что Санджар-бек приглашается к Кудрату на совет.
Ночью во двор прибежал человек и прокричал:
— Курбана к начальнику!
213
Курбан взял оружие и, напрягаясь всем телом, пошел к воротам. На улице ветер сбивал с ног, мелкие камешки били в лицо, но в комнате, куда пришел Курбан, горел костер и было уютно. Санджар, не приглашая Курбана сесть, взглянул мельком на сидевшего тут же Зуфара и сказал:
— Мы едем в гости к их высокостепенству, парваначи Кудрат-бию. Вы, Курбан, будете нас сопровождать. Седлайте, возьмите все нужное.
Курбан низко поклонился и поспешил к себе во двор.
Дальше все происходило, как во сне. Ночь залила тьмою дороги. Под напором дикой бури метались ветви деревьев, камышевые стены шатались и ложились на тропинки. Полил проливной дождь. Санджар ехал впереди в струях ливня, в ослепительных вспышках молний. За ним рысил помощник Кудрат-бия Зуфар на великолепном текинском скакуне. Третьим был Курбан. Лошади испуганно сторонились каждого куста, черневшего на обочинах разбитой, местами затопленной дороги.
Впереди послышался грозный монотонный гул. Чем дальше пробивались всадники сквозь бурю, тем он становился все громче.
— Правее!— закричал Санджар.— Тут есть брод. При вспышке молнии впереди можно было разглядеть широкую, грозно движущуюся серую полосу. Когда молнии заливали местность холодным синим светом, полоса покрывалась блестками. Вздувшаяся от ливня Туполанг-Дарья, что значит Безумная река, вырвавшись из горной теснины, властно катила свои воды по долине к реке Сурхан.
— Придется вплавь перебираться. Держись, Курбан!
У самой воды вдоль берега быстро скакали темные фигуры всадников. Внезапно возникла короткая желтая вспышка. Звука выстрела не было слышно, но Курбан успел заметить, что Зуфар неуклюже свалился на шею коня...
Из темноты прозвучал далекий, чуть слышный голос Санджара.
— За мной, Курбан!
Дальше уже вообще невозможно было думать и соображать. Бурлящая стремнина понесла Курбана. Временами ему казалось, что водоворот втягивает в пучину и его, и коня; местами конь карабкался по камням, местами увязал в зыбучем песке, потом стремнина снова
214
тащила их в сторону. Весь мокрый, обессиленный Курбан выбрался из воды и сполз на гальку. И тут же он услышал голос Санджара:
— Эй, джигит, живой?
— Таксыр! Я здесь...
— Вижу, вижу. Можете встать?
Курбан сел и машинально ощупал руки и ноги.
— Скорее, надо ехать дальше.
Кряхтя и охая, Курбан забрался в седло.
— Вот что,— заметил Санджар,— вы теперь не Курбан.
— Как вы сказали, таксыр?
Курбан недоумевал. И так все было похоже на дурной сон, а тут прямо в глаза вам говорят, что вы совсем не тот, кем были всю жизнь.
— Вы больше не Курбан,— продолжал Санджар,— а Санджар-бек, бывший командир отряда добровольцев, а теперь перешедший на сторону воинов ислама курбаши. Понятно?
— Да,— проговорил Курбан,— понятно, хотя ничего понять не могу...
— Утром мы приедем к Кудрат-бию. Он меня не знает в лицо. Вы будете Санджар-беком, и будете договариваться с Кудрат-бием. Он предложит сдаваться советской власти,— соглашайтесь, потребует людей для нападения — соглашайтесь, на все соглашайтесь... Понятно?
Курбан нерешительно задавал вопросы. Его тревожила история с Зуфаром.
— А что, если Курбаши заинтересуется, где era любимый помощничек?
— Скажем, что он остался у нас в лагере... Меня вы назовете Садыком.
— Зачем все это?
— Нужно.
— Это опасно...
— У Кудрат-бия бородища такая, что в ней мыши завелись, кошка погналась за ними и не догнала за шесть месяцев. Кулак у него, как гора, а зубы, как копья. Ну, что же? Испугались? Убежим? Не поедем?
— Нет, поедем.
— Если Кудрат-бий догадается об обмане, он прирежет и Санджара, и Садыка...
— Надо сделать так, чтобы не прирезал.
215
— Слышу разумный разговор. А если он начнет нас задерживать, скажете мне...
И Санджар заговорил вполголоса. Курбан молча кивал головой.
Светало. Долина все еще была затянута пеленой влажной мглы. Ветер стих. На высоком перевале Курбан осмотрелся. Увидев далеко позади себя цепочку всадников, он указал на них Санджару. Тот только взмахнул, понукая коня, камчой и заметил:
— Правильно, дела идут правильно. — Кто-то едет за нами.
— Пусть едут. Чем больше их, тем больше у нас помощников на всякий случай.
Над гиссарским белоснежным хребтом, над широкой долиной занимался, умытый ночной грозой, яркий летний день.
— А вот и чинары,— воскликнул Санджар,— вперед же, Санджар, брат мой... Сейчас вы увидите самого Кудрат-бия.
Их ждали.
Из небольшого садика выскочил всадник и, неистово нахлестывая лошадь, помчался к видневшейся вдали купе гигантских деревьев. По бокам дороги почувствовалось оживление: за дувалами, среди развалин домов замелькали полосатые халаты, блеснул ствол винтовки.
Спешившись у обветшавших ворот, Санджар и Курбан вошли в большой, живописный сад, где на глиняном возвышении восседал сам Кудрат-бий в окружении своих друзей, соратников по разбою и насилиям.
Курбан, шедший немного впереди Санджара, сделал несколько шагов к возвышению, затем высоко поднял руки и звонким голосом прочел по-арабски суру из корана. Присутствующие повторяли слово за словом. Правда, хор получился несогласный, так как никто не ожидал, что Санджар (за него теперь принимали все Курбана) окажет Кудрат-бию почести, оказываемые только владетельной особе со стороны представителя дервишского ордена джахария. Но сам курбаши был польщен. Его лицо смягчилось, просветлело, и он поспешил принять участие в церемонии, затеянной Курбаном.
А Курбан старался изо всех сил, вспоминая уроки своего дядюшки, видного члена странствующей дервишской общины.
216
Он торжественно произнес «ва аллахуму селям» и обычную молитву приветствия, начинавшуюся словами: «аллахуму раббига». Все это было закончено громким и звучным «О-о-мин», подхваченным всеми присутствующими, и усиленным поглаживанием бород.
И если у Кудрат-бия и были какие-нибудь сомнения насчет молодого курбаши Санджара, только что, как известно, перебежавшего от Советов к воинам ислама, то сейчас всякие подозрения должны были рассеяться, ибо трудно было ожидать от красного столь глубокой религиозности.
Все снова погладили бороды и хором воскликнули: «О, да будет, святой дервиш, богоугодна твоя молитва!»
Курбан размеренными, торжественными шагами приблизился к возвышению, Кудрат протянул к нему руки.
Церемония встречи была завершена. Тогда подлинный Санджар отодвинулся немного в сторону, стараясь держаться скромно и незаметно, как подобает помощнику или адъютанту начальника отряда.
Какой-то елейный старичок, вздыхая и благочестиво поднимая очи горе, шепнул ему:
— О, как благолепно и хорошо. Совсем как в чертогах дворца их величества, повелителя правоверных эмира Алимхана. Помню...
Но Санджар не обращал на него внимания; он прислушивался к разговору Курбана с Кудрат-бием.
— О,— говорил Курбан,— я щедро вознагражден за долгое ожидание лицезрением вашего достойного лица...
Все это он говорил с лицом вдохновенным и восторженным и произвел такое сильное впечатление на курбаши, что тот подвинулся и усадил лже-Санджара рядом с собой, внимательно разглядывая прославленного воина, еще недавно грозного охотника за головами басмачей.
— Я смотрю на вас, Санджар-бек, и поражаюсь,— заговорил Кудрат.— При вашей молодости вы так давно уже мчитесь по пути доблести.
— Такова воля всевышнего,— скромно ответил Курбан.
Начались благочестивые разговоры.
Санджар делал отчаянные усилия, сдерживая зевоту (зевать в обществе почтенных людей — верх неприличия), а неутомимый Курбан пустился в прения с Куд-
217
рат-бием и каким-то очень словоохотливым ишаном о священных текстах, предписывающих бритье усов... Тут же, совершенно непонятным образом, спорщики перескочили на сладость пребывания в раю бойцов за веру, павших в битве с неверными.
С досадой Санджар думал о том, что время уходит, а переговоры, по существу, не начаты. Он встал и подошел к возвышению, на котором среди пиал и пустых чайников восседал Курбан, ожесточенной жестикуляцией подкрепляя свои самые запутанные суфийские доводы. Кудрат сидел красный, потный от неисчислимого количества пиал зеленого чая и от чрезмерных умственных усилий.
Ища поддержки и сочувствия, он обратился к подошедшему Санджару.
— Вот, если человек почтенный, как вы, в походе... О!
Тупой взгляд его свиных, налившихся кровью, глазок впился в лицо Санджара. Кудрат-бий забыл о предмете спора. Его память усиленно заработала. Он думал: «Где и когда я видел этого человека?»
С холодным любопытством Санджар следил за лицом курбаши, готовый ко всему. Ничто не выдавало его волнения.
Почтительным тоном он спросил, обращаясь к Курбану.
— Господин, время близится к полудню?
И Кудрат-бий поспешил, как истинно восточный человек, скрыть под маской любезности обуревающие его подозрения.
Переговоры начались.
Кудрат-бий извлек примитивно начертанный план города Денау и долго объяснял лже-Санджару, как будут расставлены басмаческие отряды во время церемонии сдачи.
— Вот здесь, несколько позади и сбоку, — Кудрат-бий хитро усмехнулся, — будет ваш отряд. Позади и сбоку... на большой термезской дороге.
— Но зачем же?— недоумевал Курбан.
— А еще дальше, вот тут около старой стены, вы оставите человек двадцать джигитов. У вас есть пулемет? Вы спрашиваете, зачем? Нам надо сохранить Сарыджуйскую дорогу. По ней к городу в полдень будет двигаться отряд моего помощника.
218
Курбан растерянно смотрел на карту. В топографии он понимал гораздо меньше, чем в вопросах схоластики. Но Санджар, все еще стоявший около возвышения, был весь внимание.
Разговор продолжался несколько часов, и Кудрат-бий должен был прийти к заключению, что перед ним сидит человек, ничего не смыслящий в военном деле. Так и понял бы всякий на месте курбаши. Но Восток есть Восток, да и школа придворных кругов Бухары не прошла даром. Впитанные с детства хитрость, коварство повернулись сейчас против самого курбаши. Он начал думать, что его собеседник — тончайший дипломат, и, проникшись к нему уважением, решил раскрыть свои замыслы.
— Вы удивляетесь,— заговорил Кудрат-бий,— зачем все эти предосторожности? Я объясню, хотя вы знаете это не хуже, чем я. Большевики коварны. Они могут изменить своему обещанию отнестись к нам со всей почтительностью и уважением, и тогда нам придется с оружием в руках доказывать, что мы,— войско ислама,— сильны и могущественны, и что мы хотели сложить оружие только из человеколюбия и нежелания проливать напрасно мусульманскую кровь...
Только теперь Курбан сообразил в чем дело:
— Вы хотите напасть на большевиков там, в городе?
И Кудрат-бий, окончательно запутавшийся в хитросплетениях лжи, принял возмущение Курбана за новое проявление лицемерия. Тяжело вздохнув, он ответил:
— Бог велик!
Во время разговора приближенные Кудрат-бия,— начальники отрядов без войска, начальники крепостей без крепостей, большие и малые чины,— слушали молча и только изредка кивали головами, выражая, невидимому, одобрение и согласие.
Сейчас, когда переговоры были почти закончены, Кудрат-бий вспомнил о своих советчиках. Он грозно посмотрел на подобострастные лица и резко оказал:
— Ну, а вы? Что окажете вы, мудрецы? Те молчали. Курбаши рассвирепел:
— Что это значит? Нравится, скажите: «Хорошо», не нравится, скажите «Плохо»! Ну же!
Елейный старичок заговорил:
— Великий бек! Ты собрал нас на совет, чтобы мы выслушали твое мнение. А нам что говорить? Если наш со-
219
вет будет плохой, ты еще прикажешь под горячую руку отрубить голову. Нет, лучше помолчать, чтобы не плакали друзья наши, а враги не возрадовались. Ваш ум, господин, несравненен, ваши таланты...
Он захлебнулся от восторга.
Несколько секунд Кудрат-бий рассматривал исподлобья говорливого старичка, затем, поморщившись, сделал губами движение, как бы собираясь плюнуть. Но только презрительно крякнул.
Обращаясь к лже-Санджару, он заговорил вполголоса, напрашиваясь на откровенность.
— Надо бы укоротить руки наших врагов, а как это сделать, когда окружающие мою особу люди строят друг против друга козни, сбиваются с пути, проникаются духом строптивости. Но, слава богу, государство мое не без хозяина, а рука моя тверда.
Только после обильного обеда, когда Курбан и Санджар начали сборы в обратный путь, курбаши вдруг вспомнил о Зуфаре.
— Как здоровье нашего помощника?
На мгновение в памяти Курбана промелькнула картина, освещенная вспышкой молнии, там, на берегу неистового Туполанга.
— Благополучно... Они чувствуют себя благополучно.
— Что же он не приехал с вами?
— Они не высказали особого желания подвергать себя тревогам и опасностям переправы. Брод очень плохой...
Помолчав немного, Кудрат-бий осторожно зевнул, прикрывая рот ладонью.
— Вы хотите в темноте опять переправляться через проклятый Туполанг? Оставайтесь. Скоро поспеет плов, с айвой, с мясом молоденького барашка. У меня повар из Кермине, из дворца самого величества. Знатный кухарь, может в одном котле сразу пять пудов рису сварить... Оставайтесь, не отпущу.
Все было очень вежливо, любезно.
Лошади стояли под чинарами заседланные. Солнце спускалось за байсунскую гору, а курбаши все не отпускал гостей, все уговаривал их остаться. В голосе его не было и признаков раздражения, на лицах конюхов, державших под уздцы коней, можно было прочитать только терпение и скуку, толпа имамов и приближенных вто-
220
рила Кудрат-бию в самых подобострастных выражениях — и все же Курбан и Санджар поняли вдруг, что стряслось неладное и что выехать сегодня, пожалуй, не удастся.
Кудрат-бий хитрил.
Санджар сделал условный знак, и Курбан, прижимая руку к сердцу, направился к возвышению, где только что были разостланы новые ковры.
Выражение полного удовлетворения разлилось по лицу Курбаши.
Курбан обернулся и сказал шагавшему за ним Санджару:
— Брат мой! Садитесь на коня и передайте моим дорогим воинам, что начальник их Санджар пребывает в довольстве и благополучии в гостеприимном обиталище друга нашего Кудрат-бия... Скажите там: «Начальник ваш и господин обрел себе место на краю бекского одеяла и пользуется достойными для своего положения почестями». Поезжайте.
Санджар легко и ловко, но без излишней торопливости, вскочил на коня и крикнув: «До свиданья! До свиданья!» — галопом поскакал по улице.
Резким движением обернулся Кудрат-бий на стук копыт, но было поздно.
Хор голосов приближенных проводил уже напутствием отъезжающего.
— Да будет вам путь.
И Кудрат-бий увидел в золотисто-красноватом облаке пыли, застилавшей сжатую слепыми домами улочку, темную фигуру удалявшегося всадника. Курбаши вздрогнул. Надо было вернуть этого человека, но как это сделать? Проводы состоялись, а задержать силой... закон гостеприимства не должен быть нарушен. Пусть едет.
После ужина курбаши вдруг резко сказал:
— Вы горец, Санджар-бек, и никогда, по всей вероятности, не испытывали, что значит ветер теббад — ветер лихорадки, а?
— Нет, я не слышал о ветре теббад,— уклончиво заметил Курбан, не понимая еще толком, к чему клонится разговор.
— Страшный ветер теббад, дующий в пустыне Кызыл-Кум. Очень страшный.
221
Думая, что Кудрат-бий начинает рассказывать какую-то историю, Курбан изобразил на лице напряженное внимание и приготовился слушать. Но Курбаши, после паузы, заметил:
— Этот ваш помощник, ну, который уехал сейчас, он из Бухары?
— Он, кажется, из Шахрисябза,— соврал Курбан, напряженно соображая, к чему ведут все эти странные вопросы.
— Из Шахрисябза? Нет... у этого человека кызылкумский разговор.
...Санджар, не меняя аллюра, спускался к долине реки Туполанг. В спине он ощущал некоторое неудобство, какое испытывают люди, чувствующие на себе вражеские взгляды. Санджару казалось, что из-за каждого куста, из-за каждого полуразрушенного дувала выдвигается винтовка и черный кружочек дула медленно двигается за его затылком. Он успокоился, увидев у реки группу своих всадников.
На самом берегу Санджар позволил себе впервые обернуться. Убедившись, что кругом, на многие сотни шагов, нет ни души, он с облегчением вздохнул и громко сказал:
— Так вот, наконец, где мы встретились, Али-Мардан... Ну, не поиграет кошка с мышкой.
Слова потонули в ворчливом шуме реки.
VII
Было время — шумели базары Дех-и-нау, ревом оглашали бесчисленные ослы улицы и проулки города, пестрели площади красными, синими, белыми чалмами, сотни азанчей возглашали три раза в день с минаретов всемогущество бога. Гордые локайцы проезжали, смотря поверх голов, сквозь почтительно расступавшуюся толпу; скакали, вздымая белесую пыль, бекские глашатаи; русобородые горцы, облеченные в живописные лохмотья, важно шествовали мимо лавок торговцев шелком; голодные, полунагие ребятишки глазели на горы пельменей, румяных пирожков и белых сдобных лепешек, выставленных на чеканных подносах и глиняных расписных блюдах. А под вечер, когда, солнце, цепляясь за верхушку Байсунской горы, бросало последний взгляд на Гиссарскую долину, тысячи голубоватых дымков, как по сигналу, поды-
222
мались к темнеющим небесам, и ноздри начинал щекотать запах плова, столь густой, что, по выражению Мулла Агзама бек-бобо, достопочтенного историографа хакима Гиссарского, только от вдыхания можно было насытиться на целый день и даже еще больше. Было время...
Война, голод, болезни пришли в Денау рука об руку. Истребительные бекские междоусобицы, малярия, эпидемии неведомых повальных болезней и, наконец, неслыханное поветрие проказы привели к тому, что в конце прошлого столетия город обезлюдел. Эпидемия проказы совпала со вспышкой чумы в кишлаке Анзоб к северу от Гиссара. Вымерли и окрестные кишлаки. Слово «Денау» стало проклятием. Все, даже здоровые жители города стали называться «махау» — прокаженными. Их гнали отовсюду, и они жили подаянием.
Высохли каналы и арыки, зеленая стена болотных камышей вплотную подобралась к воротам города, подпочвенная вода поднялась, и соль начала подтачивать дома, разъедать основания минаретов. Тугайные заросли завоевывали улицу за улицей, площади, дворы. По ночам на уцелевших крышах тонко выли шакалы, зловеще хохотали гиены.
Вслед за приходом в 1921 году военного гарнизона в Денау был создан Ревком. Начали создаваться первые советские учреждения. Правда, их действие еще распространялось только на город и ближайшие кишлаки, но народ все еще трепетавший перед басмачами, потянулся всем сердцем, всей душой к советской власти, видя в ней свою избавительницу от векового гнета деспотов и феодалов. Из далеких горных кишлаков шла в Денау беднота за помощью, за правдой. Многие, спасаясь от кровавой мести курбашей селились в Денау. Население города быстро росло.
Но в это же время прокладка через Денау торгового тракта в сторону центра Восточной Бухары — Дюшамбе привлекла сюда и всякий сброд. Возникали базары, появились торговцы, темные дельцы, лошадиные барышники, опиумокурилыцики, анашисты, монахи дервишеских мусульманских орденов. Весь этот люд оседал в чайханах, бродил по базарам, щупал товары, при удобном случае прихватывая их с собой, вел азартные игры, толкался, пел, торговался, выпивал несметное количество чайников чая, совершал сделки...
223
Сырая, мрачная мазанка стоит позади развалин кирпичного медресе. По сбитым, вырытым в кочковатой глине ступеням Кошуба, Джалалов и Медведь в полной темноте спускаются вниз. Резкий запах ударяет в нос. Пахнет кунжутным маслом. Из глубины не то погреба, не то пещеры вырываются скрипучие звуки, покашливание и тонкий детский голосок: «Пошт, пошт!» Большое животное, тяжело сопя, гулко топает ногами.
Трепетный огонек светильника, стоящего в нише, не может рассеять мрак, а только выхватывает из него громоздкие, непрерывно двигающиеся со стоном и скрипом балки и жерди...
Морда лошади на секунду появляется в полосе света, испуганно жмурятся большие слезящиеся глаза, нервно шевелятся мохнатые уши. Потом выныривает юноша, почти мальчик, в почерневшей засаленной тюбетейке, в лохмотьях. Нежное, миловидное лицо лоснится, как смазанное маслом. В глазах — выражение бесконечной печали. Губы шевелятся. Под нависающим черным потолком глухо отдается: «Пошт, пошт!»
Из черной дыры вылезает человек. Это глубокий старик. Он бросается к Кошубе и, шамкая беззубым ртом приветствия, пытается поцеловать ему руку. Командир мягко берет в обе ладони руку старика и вполголоса что-то спрашивает. Старик показывает на дыру, и Кошуба исчезает в ней, бросив тоном, не допускающим возражений: «Будьте добры, подождите здесь... Поговорите с ним».
Старик ведет гостей вглубь помещения. Здесь чисто и даже уютно. Расстелен старенький палас, одеяла. На скатерти расставлено скромное угощение. Видно, гостей ждали.
Хозяин суетится, он гостеприимен и непрерывно говорит. Он рассказывает о себе, о своей жизни — жизни полураба.
Усто-Фаттах — маслобойщик, он всю жизнь не выходит из этой ямы, всю жизнь слушает скрип примитивной маслодавилки — майджуваза.
Все оборудование маслобойки состоит из большой выдолбленной колоды. В углубление, наполняемое семенами масличных растений — кунжута, хлопка, сафлора — упирается огромный пест — бревно, приводимое во вращательное движение лошадью, без конца ходящей изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год по кругу
224
под монотонные крики: «Пошт, пошт!» Бревно растирает семена, выдавливает из них масло, которое стекает через отверстие в тыквенную бутыль...
Усто-Фаттах никогда не получал больших доходов.
— Амлякдар говорил мне,— рассказывает он.— «Ты, Усто-Фаттах, богатый человек, и я надбавлю на тебя налог». Но разве можно говорить о богатстве... Если крутился майджуваз от часа, когда чуть забрезжит свет над горами, и до полуночного намаза, то от продажи масла и жмыха можно было выручить в день сорок копеек. Но разве я мог истратить эти деньги на хлеб и рис для семьи? Ведь надо покупать семена, чтобы давить из них масло, надо покупать три снопа клевера для лошади, ячмень...
Он тяжело вздыхает.
— Да, Усто-Фаттах был «богатым» человеком... Если он получал сорок копеек, то двадцать забирал амлякдар, но Усто-Фаттах сводил концы с концами, когда все шло хорошо и джуваз скрипел целый день и даже дольше. А если Усто-Фаттах хоть на один день заболевал... или он вздумал посидеть в базарный день в чайхане, или отпраздновать рождение сына... Да, каждый такой день приносил слезы, ибо тогда в доме не было ни кусочка лепешки, ни фунта риса. Усто-Фаттах, «богатый» человек, шел тогда к лихоимцу ростовщику и умолял дать ему пятьдесят копеек с тем, чтобы через месяц отдать вдвое. Ха, «богатый» человек Усто-Фаттах. О, он был богат слезами и вздохами. Нет справедливости...
Скрипит майджуваз, трепетно прыгает пламя, шевелит ушами уже давно не видевшая дневного света, отупевшая лошадь.
— Пошт, пошт!— глухо отдается в подземелье.
— Мой сын,— говорит старик, показывая покрытым ревматическими шишками пальцем на юношу.— Вы, юноши, счастливы... Вы молоды. Ваша жизнь будет другой. А я родился слишком рано. Очень давно жил поэт, и он в старости сказал: «Погибла юность, владычица чудес. О, если бы ее догнал бег летящих молнией коней!» Где моя юность?
Внезапно появляется Кошуба.
— Что вы приуныли? Не верьте старику, что он так уж дряхл, что он за сорок лет такой работенки стал рабом бессловесным. Чепуха.— Он положил на плечо Усто-Фат-
225
таху руку.— Знаете, кто он? Наш старик — лучший из стариков в мире. Это он — участник восстания славного крестьянского революционера Восе. Это он воевал с беками и эмирскими сарбазами, это он вместе с тысячами таких же ремесленников разрушал цитадель феодалов — Денауский арк. Это тот самый Усто-Фаттах, у которого здесь, в этой мрачной дыре собирались впоследствии члены тайного дехканского общества «Длинные пики», при упоминании одного имени которых трепетали могущественные гиссарские беки. Да знаете ли вы, что были годы, когда наш старик говорил: «Да не будет с бедняка Ахмеда взято ни одного чоха налогов»,— ни один амляк-дар, если он имел в башке хоть крупинку здравого смысла, не решался заглянуть в дом Ахмеда. Это тот самый Усто, который первый раскусил басмаческих курбашей и разъяснял народу, кто враги и кто друзья. Вот он кто такой, Усто-Фаттах... Да что и говорить — он и сейчас неоценимый наш помощник. Настоящий агитатор. Послушали бы, как он рассказывает дехканам о Ленине! Ну, пошли.
В ту ночь в Денау мало кто спал: в чайханах, в харчевнях, караван-сараях шли приготовления к встрече грозных гостей. Стучали ножи; опытные повара искусно резали морковь, и груды тонкой лапши вырастали на подносах. Жалобно блеяли бараны, которых вели на убой. В красном отблеске костров белели жирные освежеванные туши. Шутка ли сказать,— предстояло накормить сотни людей. Торгаши ожидали богатых барышей.
Звенели дутары, тянулась гортанная монотонная песня.
Тревожные слова неслись из заброшенных садов, из чайхан, с берега реки.
Невидимые певцы пели:
Час наш еще не пробил,
Но час наш пробьет,
Час наш пробьет сейчас.
О, утро мщения!
В комнате Кошубы горел свет.
На донесение о певцах и подозрительных песнях командир не обратил внимания.
— Едем на охоту...— вдруг заговорил он.— На рассвете, стрелять гусей.
226
— А церемония сдачи? А Кудрат-бий?
— А мы к параду вернемся.
И Кошуба уехал на охоту. Уехал в такой момент, когда, казалось, все свои силы, всю энергию он должен был отдать подготовке к завтрашнему дню.
С топотом, бряцанием оружия проскакала группа всадников по неровным, вымощенным огромными камнями, улочкам города, мимо ярко освещенных чайхан, где степенно пили чай спустившиеся с гор дехкане.
Было поздно, уже караульщики объявили вторую стражу ночи, но никто не помышлял о сне. Над заброшенными садами неслись песни, и звукам их аккомпанировал звонкий плеск струй, мчавшихся по каменистому ложу.
Подскакав к большой чайхане в центре города, Кошуба громко, так, чтобы заглушить и песни, и звон сотен пиал, и шелест листвы чинаров, позвал:
— Гулям!
— Есть!— из особенно оживленной группы чалмоносных, почтенных денаусцев поднялся Гулям. Под матерчатым козырьком краснозвездной буденовки, сидевшей задорно на самом темени круглого бритого черепа, поблескивали лукавыми огоньками карие глаза.
Ловко лавируя между тесно сидевшими на паласах и коврах посетителями, толстяк подбежал к краю помоста.
— Гулям!— опять очень громко сказал Кошуба.— Уезжаю на охоту.
Гулям сделал движение, выражавшее крайнюю степень изумления. Кошуба многозначительно протянул:
— Понятно? На охо-ту. Будьте готовы к одиннадцати.
Он отдал честь с блеском и четкостью, присущими только старым кавалеристам, и, тронув поводья, отъехал, от чайханы.
Так отряд останавливался еще в двух-трех местах, и всюду Кошуба отдавал распоряжения своим бойцам. И всюду бойцы оказывались в самой гуще народа.
Выехав из города, отряд поскакал по щебнистой равнине к пойме реки.
Поднималась луна, космы тумана ползли к горам, цепляясь за верхушки камыша. Впереди тускло мерцал
227
свинцовая гладь воды. По бокам узкой тропинки высились гигантские кусты.
Командир уверенно вел отряд вглубь чангала, насвистывая веселый вальс. Внезапно он резко осадил коня перед высокой изгородью из связок камыша и хвороста.
— Эй, эй!— крикнул Кошуба.
Но только ветер шуршал камышом.
— Эй, эй! — еще громче прокричал командир.
В предрассветной мгле возникла фигура человека.
Между Кошубой и человеком произошел быстрый обмен приветствиями. Говорили они на каком-то путанном жаргоне из узбекских, локайских и таджикских слов, но это не мешало им отлично понимать друг друга.
Кошуба повернулся к всадникам.
— Тут поблизости озеро. Там с прошлого года эдакий гусище плавает. Живая цель для стрельбы. Только гусь заколдованный. В него все приезжие командиры стреляют, и все мимо. Попробуйте, вот он проводит. А я задержусь.
И крикнул вдогонку:
— Стреляйте в гуся, стреляйте в уток, стреляйте во что хотите, но, чтобы было много шуму, чтобы, в Денау было слышно.
Пожимаясь от холода, всадники продирались сквозь камыши к озеру.
Охота была явно неудачная. Да и что можно было подстрелить при лунном неверном свете! Злые, промокшие от росы, охотники возвращались через час в Денау.
У небольшой хижины, прятавшейся среди камышей, виднелись силуэты двух оседланных коней. Из хижины доносился голос Кошубы и еще чей-то, очень знакомый. Каждый невольно подумал о Санджаре, но вслух никто не произнес этого имени.
Нехотя, медленно всходит солнце над болотами Денау. Серые, тяжелые испарения, пропитанные гнилью, густой волной катятся из камышовых дебрей и зеленовато-желтым одеялом окутывают заброшенные сады, полуразвалившиеся щербатые дувалы. Долго борется солнце с болотной мглой, редкие лучи пробивают толщу тумана и, наконец, вырывают из него стены древних кирпичных медресе — памятников утраченного величия города.
228
... Светает... Группа всадников, в полном молчании движется под аркой сплетающихся древесных крон. Дрожащий свет приближающегося утра с трудом проникает сквозь густую листву.
Нельзя разглядеть, кто едет по дороге.
Не удивительно, что сторож, сидевший на ветхом дощатом помосте перед сонным хаузом и в зябкой дремоте кутавшийся в пастушеский халат, обознался. Спешившиеся всадники окружили помост. После минутного замешательства двое-трое из приехавших поднялись по скрипучим доскам к широкому, ярко освещенному окну чайханы, заклеенному толстой бумагой.
К чайхане подъезжали все новые всадники и, так же неслышно спешившись, проходили вправо и влево. Позади здания в конюшне некоторое время шла возня, потом все стихло... Из чайханы слышались приглушенные голоса.
— Тихо! Сидеть смирно...
Дверь чайханы распахнулась, и в комнату вошли бойцы Кошубы. Вокруг потухшего очага в живописных позах лежали и сидели люди, похожие на мирных дехкан. Только белые войлочные казахские шапки да добротные сапоги с загнутыми носками отличали собравшихся здесь людей от полунищих, раздетых и разутых гиссарцев.
Здесь, в чайхане, как сообщил комбригу Кошубе через своих связных Санджар, была выставлена, по распоряжению Кудрат-бия, застава, прикрывающая путь к отступлению из Денау на всякий непредвиденный случай. Таких застав было выставлено в окрестностях города несколько. Кудрат-бий разбросал группы хорошо вооруженных нукеров и на дорогах, и в пригородных садах, и на склонах холмов.
Басмачи были захвачены врасплох. Некоторые из них повскакивали, ничего не соображая. Молодой черноусый щеголевато одетый басмач, прислонившись спиной к столбу, подпиравшему потолок, смотрел на вошедших в бессильной злобе.
— Ни звука! — вполголоса предупредил Джалалов.
Взгляд черноусого блудливо забегал, и остановился на темной нише, где поблескивали самовары. Казалось, он измеряет расстояние.
Тогда Джалалов спокойно заметил:
— Не трудитесь напрасно... — И крикнул: — Входите!
229
Из-за самоваров, через широкое окно в чайхану вошли бойцы. Они настолько были уверены в успехе операции, что даже не сняли с плеч карабины.
— Оружие сложите вот здесь, — приказал отделенный командир.— Только побыстрее, нам некогда... Нет, нет, все... Ножи тоже сюда положите.
Очень скоро шум внутри чайханы стих. Желтый свет, пробиваясь через бумагу, по-прежнему падал на поверхность хауза, и вода поблескивала сквозь туманную пелену.
На помост снова уселся страж в белевшей в темноте казахской шапке и положил на колени винтовку.
Небо на востоке светлело. Между деревьями кое-где чуть розовели снежные вершины. Запели петухи.
На дороге появилась большая группа конников. Один из всадников, скакавший впереди, не останавливаясь, крикнул поднявшемуся во весь рост на помосте стражу:
— Не уставай, самоварчи!
— Путь вам добрый.
— Как дорога?
— Дорога счастливая...
— Смотрите во все глаза!
Свыше сотни всадников, звеня богатой сбруей, не задерживаясь, проехали быстрым ходом мимо чайханы, пересекли вброд большой арык, напоили лошадей и по извилистой улице двинулись к главной площади Денау.
Когда последний всадник скрылся за поворотом, из дверей чайханы вышел Джалалов.
— Дверка захлопнулась, — сказал он, обращаясь к кому-то, находившемуся внутри помещения.
... Така-така, так, тум! Така-така, так, тум! Так, тум так, тум! — донесся с площади ритмичный бой барабанов. Взревели карнаи, радостно приветствуя медно-красные лучи солнца, брызнувшие на мокрую от росы листву деревьев, на пыльную дорогу, на зеленую воду хаузов.
— Началось, — проговорил Джалалов.
Он вскочил на лошадь и поскакал к площади.
Начинался день — день позора басмачей, день торжества народа. Какие бы ни были расчеты у Кудрат-бия, когда он предложил сдаться на милость Красной Армии, как бы ни повернулись события, всем было ясно, что этот
230
день был началом конца басмачей. Они могли еще драться, могли убивать из-за угла, запугивать, разбойничать, метаться в звериной ярости по долинам и горам, оставляя за собой кровавый след, но организованной борьбе пришел конец...
Курбаши Кудрат-бий сдавался на милость победителей.
Он вывел на денаускую площадь своих всадников, и перед небольшим помостом, покрытым красным паласом, вытянулось что-то вроде строя. Лошади, не приученные к порядку, рвались вперед, пятились назад, грызлись, кружились на месте. Ряды сбивались, и посреди площади непрерывно колыхался клубок чалм, бород, халатов. Бряцало оружие, цеплялись стремена, путались удила...
Стоял непрерывный гомон. Ржали и ревели кони, гудели карнаи, били барабаны, пронзительно стонали сурнаи. В толпе любопытных горожан, сбившихся у входа на площадь, в улочках и переулках, отчаянно завывали моддохи, дервиши, каляндары, распевавшие суфийские песнопения о любви к богу или просто дико выкликавшие: «Нет божества, кроме аллаха, хвала ему! Бог велик».
В толпе людей и в рядах конников ловко шныряли с большими медными подносами в руках торговцы сладостями, водоносы, лепешечники. Они вносили свою долю в этот базарный гомон истошными криками:
— Ледяная вода! Ледяная вода!
— Лепешки! Сдобные лепешки!
— Сладости!
— Вода! Холодная вода!
Мальчишки кружились под ногами, глазели на коней, рассматривали серебряные украшения сбруи, филигранную отделку ножен, бархатные нарядные пояса и во всеуслышание бесстрашно обсуждали кровавые деяния того или иного известного своими зверствами курбаши.
— Фазиль! Вон Фазиль с черными усами! Сжег Ак-Тепе.
— А этот, в золотом чапане... Вон, вон! Сардарбек, вырезал семью хупарского пастуха.
— Это он в Сарыпуле повесил женщин. Три дня выклевывали вороны им глаза...
— Вот убийца детей, Палван беззубый! Бежим!
— Зачем! Ему сейчас бороду подстригут. Сдается.
— Сдаются!
231
Басмачи старались не замечать мальчишек. Гордо восседая на своих конях-зверях, они совсем не походили на битых сдающихся в плен бандитов. Они держались надменно, как торжествующие победители, захватившие город и собирающиеся вот-вот предать его разграблению.
Они поглядывали по сторонам, смотрели на плоские крыши, густо усеянные народом, перешептывались, ухмылялись в бороды.
Старые, седые дехкане, стоявшие поближе, покачивали головами и вздыхали. За последние годы они впервые видели такую массу вооруженных с головы до пят басмачей и себя, среди родных домов Денау, и тревога закрадывалась в их сердца. Тревожные слухи перебегали в толпе, и нет-нет кто-нибудь нырял под локтями соседей и, проскользнув между тесно стоявшими людьми, спешил выбраться с площади.
Только комбриг Кошуба, по-видимому, ничего не замечал. В сопровождении своих командиров он шел по образовавшемуся в толпе проходу и спокойно смотрел в напряженные, взволнованные лица. Увидев знакомого, он приветливо здоровался с ним. Много было у Кошубы в Гиссарской долине добрых друзей.
Командир поднялся на помост и очутился лицом к лицу с Кудрат-бием, сидевшим на великолепном буланом текинском скакуне. Толстое одутловатое лицо курбаши было равнодушно и безразлично, глаза прикрыты синеватыми морщинистыми веками, грудь судорожно вздымалась под бархатным кафтаном, украшенным серебряными бухарскими и афганскими звездами. Только ноздри Кудрат-бия раздувались, и Кошуба сразу понял, что басмач злится.
Кошуба молча смотрел на Кудрат-бия, ожидая, когда он, наконец, соблаговолит открыть глаза. Командир не отрывался от его лица и не обернулся даже, когда позади послышался взволнованный шепот Джалалова:
— В городе тревожно, женщины с детьми бегут в сады...
Чуть заметным нетерпеливым движением руки Кошуба заставил Джалалова замолчать и громко произнес:
— Приступим.
И, хотя слово это слышали только близ стоящие, площадь почти мгновенно стихла. Наступила полная тишина, нарушаемая негромким пофыркиванием лошадей.
232
Подняв лениво веки, Кудрат-бий тревожно обвел взглядом стоявших на помосте командиров и представителей Советской власти. Стараясь не встречаться глазами со взглядом Кошубы, он посмотрел на высокую крышу медресе, пестревшую яркими халатами, и чуть заметно улыбнулся.
Потом, молитвенно подняв руки, он громко и внятно, как и подобало, прочитал фатиху. Его заключительное «Омин!» подхватили все курбаши и нукеры. Так приступают басмачи к битве. Знал это Кошуба, знали об этом и его командиры.
Кошуба ждал, не спуская глаз с Кудрат-бия.
— Здравствуй, — резко сказал по-русски Кудрат-бий, и губы его искривила презрительная усмешка.— Здравствуй, начальник!
В голосе его звучало нескрываемое торжество. Он выпрямился в седле, откинулся и картинно уперся в бедро рукояткой камчи.
— Плохой признак: не сказал даже «Салом алейкум»,— проговорил чуть слышно кто-то из командиров.
— Здравствуйте, таксыр парваначи!— сказал Кошуба.
Бросив направо и налево взор, исполненный величия и надменности, курбаши сделал знак своему хранителю печати и тот медленно, с расстановкой произнес:
— Вот мы, посоветовавшись с мудрыми, решили и соблаговолили оказать милость городу Денау и посетить место, где недавно восседали могучие беки денауские, верные слуги бога, пророка и эмиров.
Так как Кошуба молчал, хранитель печати продолжал:
— И с нами прибыли сюда наши токсаба, ясаулы и прочие чины и наши доблестные воины, дабы мы могли в полном спокойствии и не опасаясь никаких утеснений, вступить в переговоры с начальниками войска, не признающими пророка и именующими себя «большевиками».
Не поворачивая головы, Кошуба уголками глаз примечал, как басмачи нетерпеливо поправляют на плечах ремни винтовок. Он перевел глаза на ручные часы. Стрелки показывали без пяти минут десять. Почти не обращая внимания на монотонный голос хранителя печати, Кошуба напряженно ждал. И вот, когда большая стрелка засекла цифру двенадцать, издалека, уверенно и четко, с
233
правильными интервалами, прозвучали пять выстрелов. Они донеслись с термезской дороги.
Едва заметная тень тревоги, омрачавшая лицо командира, растаяла. Он откровенно улыбнулся Курбану, сидевшему на коне среди приближенных Кудрат-бия, в двух шагах от самого курбаши, и, чуть повернув голову, посмотрел на медресе.
Трудно сказать, слышал ли выстрелы Кудрат-бий, но он встрепенулся и тоже посмотрел на медресе. Над зданием, медленно и величественно, полыхая красным полотнищем, поднимался советский флаг.
— Смирно!
Команда прозвучала так повелительно, что все басмачи вытянулись в седлах. Советские командиры взяли под козырек.
Зазвучали торжественные звуки «Интернационала». Они неслись из портала медресе.
Досадливо поджимая губы, курбаши морщился. Подозвав рыжебородого ясаула, он спросил его о чем-то. Тот посмотрел на угол медресе, где был въезд на площадь, и недоумевающе пожал плечами.
Смолкла музыка. Громко, на всю площадь, зазвучал голос Кошубы. Говорил он на таджикском языке, наиболее понятном в этих местах.
— Таксыр, от имени Советской власти спрашиваю: прибыли вы с миром или войной?
После длительной паузы, во время которой басмачи поспешно перекидывались взглядами и чуть слышными замечаниями, Кудрат-бий громогласно ответил:
— Наши мнения, да будет на них одобрение бога и пророка его, изложены в бумаге и скреплены печатью нашей и печатями наших военачальников. Эй, хранитель печати, вручи наше послание начальнику урусов.
— Нет,— сказал Кошуба,— читайте вслух!
Обращаясь к соседу, он усмехнулся и заметил вполголоса: «Вот где сказывается, что он был чиновником эмира. Вечно перепиской занимается. Конца краю не видно».
Тем временем хранитель печати тяжело спустился с лошади, взошел на помост и начал читать,
«Бисмилля, да будет снисхождение и милость аллаха и его пророка к нам. Вот уже много лет, не покладая
234
рук, мы, воины ислама, ведем священную войну. Многие из нас стали мучениками за веру и снискали себе блаженство в раю, много великих побед одержано нашим воинством. Но тяжело бремя войны, и тяготы походов разорительны для мусульман, а потому, да будет над нами покров аллаха, решили мы, совместно с могучими и прославленными военачальниками нашей армии, после долгих и мудрых совещаний, внять просьбам и приглашениям Советской власти, начать здесь, в хакимской резиденции Денау, переговоры, полные разумных мыслей и благожелательства, о прекращении военных действий и о заключении между исламской армией и Красной Армией перемирия. Да будет благословение аллаха над теми, кто смиряет свои страсти и вожделения и полон угодного аллаху смирения и благоразумия. Да будет проявлена мудрость, умеренность и терпимость в условиях, которые предложите вы нам, представители Советов. Бог велик!»
Отвесив глубокий поклон, хранитель печати вручил послание Кошубе и медленно сошел с помоста.
— Вы слышали, товарищ, начальник? — в голосе Кудрат-бия зазвучали иронические нотки.
Хранитель печати взобрался на коня и, подъехав к Кудрат-бию, негромко сказал:
— Посмотрите влево.
Раздвинув передние ряды, из толпы вышел дервиш в высокой шапке. Поймав взгляд курбаши, он что-то прогнусавил по-арабски.
Кудрат-бий победоносно оглянулся.
— Таксыр,— сказал невозмутимо комбриг. Он как будто ничего не замечал.— Таксыр, сейчас я прочитаю ответ от имени Советской власти и командования Красной Армии.
— Хорошо, мы слушаем,— важно ответил Кудрат-бий.
Он поудобнее расположился в седле. Он был склонен растянуть церемонию. Пусть говорят об этом знаменательном дне и в Гиссаре, и в Кухистане, и в Бухаре. Пусть разнесется слава о нем, о Кудрат-бие, по всему Туркестану, пусть вести проникнут и за Пяндж, в столичный город, где мирно отдыхает, надеясь на своих верных слуг, повелитель благородной Бухары. Пусть о его, Куд-
235
рат-бия, уме, могуществе, хитрости войдет слава в века. Пусть падут пред ним ниц в восторге мусульмане, пусть затрепещут враги. Еще несколько минут он может потерпеть надменный тон этих «мужиков», столь глупых и доверчивых. Еще немного — и народ, собравшийся на площади, увидит невиданное, услышит неслыханное.
— Мы слушаем твои слова,— повторил Кудрат-бий.
Командир развернул большой лист бумаги, на котором было написано всего несколько строк.
— Прошу сойти с коня,— сухо сказал Кошуба.
В рядах басмачей возникло легкое замешательство. Слегка приоткрыв рот, пораженный Кудрат-бий смотрел на командира. Курбаши показалось, что он ослышался.
— Это важный документ. Его надо выслушать стоя,— пояснил Кошуба.
Поколебавшись немного, Кудрат-бий наклонился и начал грузно сползать с коня. К нему подскочил хранитель печати и двое ясаулов. Путаясь в длинных полах халата и цепляясь за драгоценные ножны сабли, парваначи поднялся по ступенькам на помост. Встав на краю помоста, он скрестил руки на животе, откинул голову и небрежно бросил:
— Я слушаю.
— Простите, таксыр, еще не все. Дайте команду спешиться вашим джигитам.
— Зачем?— В голосе Кудрат-бия звучало раздражение.
— Неудобно, вы стоите, а они... Кудрат-бий наклонился к ясаулу: — Прикажите.
Неуверенно прозвучала команда.
Гремя оружием, нукеры спешились и, толкаясь и стукаясь винтовками, выступили вперед, поближе к помосту. Лица у многих были багровые, напряженные. Слышался тихий, сдержанный ропот.
Тогда Джалалов подошел к Кудрату и, почтительно приветствовав его, сказал ему что-то очень тихо.
Лицо басмача потемнело и как-то сразу поблекло. Почти не поворачивая головы, он быстро пробежал глазами по фасаду медресе. И то, что он увидел, заставило его пробормотать не то суру из корана, не то проклятие.
Весь фасад медресе состоял из стрельчатых ниш с небольшими балкончиками, на которые выходили резные
236
дверцы. И вот только сейчас Кудрат-бий заметил, что ни на одном балкончике нет уже любопытных и что каждая из шестнадцати дверей на фасаде медресе открыта и черным провалом зловеще смотрит на него, на площадь и на его воинов.
— Я читаю,— послышался голос Кошубы.— Командующему гиссарскими и байсунскими воинами. Советское командование согласно принять сдачу курбаши Кудрат-бия, курбаши Садык-бека, курбаши Палвана-беззубого, курбаши Лютфуллы с их джигитами.
Условия:
1. Означенные курбаши и нукеры немедленно сдают все оружие и все боеприпасы.
2. Нукеры дают торжественное обещание не подымать оружия против Красной Армии и Советской власти.
3. Нукеры расходятся по домам и приступают к мирному труду.
4. Курбаши, по своему желанию, или поселяются в своих родных кишлаках или уезжают в избранные ими места.
5. Виновные в грабежах и насилиях над дехканами подлежат суду народа».
Толпа басмачей зашумела, послышались протестующие выкрики. Кошуба выступил вперед и громко спросил:
— Я спрашиваю, Кудрат-бий, согласны ли вы?
Опустив голову, нахмурившись, стоял могущественный курбаши. Рука лихорадочно вертела камчу. Лисьи глазки его пробежали снова по фасаду медресе. Теперь он явственно различал в каждом темном четырехугольнике двери остроконечные звездастые буденовки и поблескивание оружия.
В полной тишине прозвучал надтреснутый голос Кудрат-бия:
— Да, согласен.
— Приложите к акту вашу печать.
Подскочил хранитель печати. Бессильно опустив руки, Кудрат-бий отвернулся, не глядя ни на кого...
Нерешительно поднимались на помост соратники Кудрат-бия по кровавым делам — курбаши Палвак-беззубый, курбаши Лютфулла, курбаши Садык-бек, каждый вытаскивал из шелкового поясного платка кошель, до-
237
ставал серебряную печатку и прикладывал ее к акту о сдаче, предварительно помусолив намоченными слюной пальцами.
Недоуменно озираясь, курбаши проходили на конец помоста, где стоял Кудрат-бий. Они молчали, только выразительно поглядывали друг на друга и на своего начальника.
Они еще думали, что не все потеряно, что сейчас в условных местах прозвучит призыв. Ведь появился уже дервиш в высокой шапке. Правда, немного позже должно было последовать новое предупреждение о том, что все готово, что улицы и дороги заняты, что друзья здесь. Но сигнал запаздывал...
Ясаулы, сотники и прочие мелкие басмаческие начальники в ярости и нетерпении сжимали в руках винтовки, их взгляды выражали тревогу и откровенную ненависть.
Иное дело рядовые басмачи. Большинство из них, увидев, что курбаши приложил к «мирной бумаге» печать, галдя и шумя двинулись к помосту и, не дожидаясь команды, стаскивали с себя винтовки, сабли и беспорядочно складывали их в кучу перед помостом. Некоторые делали это с тревогой, некоторые мрачно, с сожалением, а многие очень охотно.
Высокий басмач с перебитой левой рукой бросил с треском винтовку в кучу и, взглянув на группу молчаливых курбашей, насмешливо произнес:
— Бог велик! Войне конец.— Обращаясь к сумрачной толпе басмачей, он крикнул.— Эй вы, санггардакцы, эй ты, Быстрый, и ты Хамид, и ты Тяжелый, давайте скорее. Если сейчас выйдем, то к вечерней заре доберемся до Сары-Джуя, а завтра будем вдыхать родной дым своего очага. Пошевеливайтесь!
Подойдя к помосту, он спросил Кошубу, наблюдавшего за сдачей оружия:
— Начальник, можно лошадь взять?
— Можно.
— Эй, друзья,— закричал высокий,— лошадей нам дают, пошевеливайтесь!
Нукеры оживились. Сдача оружия пошла быстрее. Перед грудой винтовок вытянулась очередь.
Народ теснился у площади, молча глазея на невиданную картину. Никто не раскрывал рта, каждый старался не упустить ни малейшей подробности, происходящего.
238
Толпа не выражала своих настроений,— слишком еще силен был страх перед Кудрат-бием...
Топот коня ворвался в ровный гул, стоявший над площадью. В боковой улице послышались тревожные возгласы. Курбаши встрепенулись. Поднял голову и Кудрат-бий.
— Дорогу! Дорогу!— кричали в толпе.
Через гущу людей пробивался всадник. Горожане и дехкане шарахались в сторону от копыт его коня.
Подлетев к помосту, всадник крикнул Кошубе:
— Командир, измена!— И начал как-то нелепо заваливаться на бок...
Все лицо, рубаха на груди, руки были покрыты пятнами свежей, незапекшийся еще крови. С трудом можно было узнать в этом человеке одного из джигитов Санджара.
Десятки рук подхватили джигита и подняли на помост. Кто-то протянул флягу.
Отстранив поддерживавших его командиров, джигит, шатаясь, сделал несколько шагов к группе басмаческих курбашей и во весь голос крикнул:
— Предатели! Змеи!— Он показал рукой на курбашей. — У них на языке мед был, а в сердце смерть. Они окружили Денау вооруженными бандами. На всех дорогах были их люди с ножами, ружьями, саблями. Во всех чайханах сидели разбойники, во многих домах. Слушайте об их коварстве! Под видом сдачи они хотели напасть на Денау, убить командиров, красноармейцев, сжечь советских людей, устроить резню. Ограбить Денау, изнасиловать девушек. Вот они!..
Гул возмущенных возгласов, нарастая, поднимался над площадью.
— К ответу! К ответу!— кричали дехкане. Вся площадь шумела, как растревоженный улей.
Когда растерявшиеся курбаши безропотно дали себя разоружить и на площади воцарилась относительная тишина, Кошуба подошел к Кудрату и сказал ему:
— Что, таксыр, по вашему закону, по закону ислама полагается делать с людьми, нарушившими клятвенное обещание?
Угрюмо посмотрел на командира Кудрат-бий. Куда исчезло все его напыщенное величие, дутая надменность? Он весь как-то постарел, посерел. Тигр на глазах превращался в шакала.
239
Но курбаши еще не сдавался. Он ответил важно и презрительно:
— Ты трус, идолопоклонник, что ты понимаешь в исламском законе!
— Вот и ошибаешься, уважаемый... Так слушайте, все мусульмане и не мусульмане, верующие и неверующие. Пророк Мухаммед в главе бакрэ в священной книге книг правоверных сказал: «Любовь к родине есть одно из качеств верующего. Нарушающих заключение договора, посягающих на свободную и счастливую жизнь народа следует уничтожить». Вот что говорится в вашем законе. Позовите имамов, ишанов, мударрисов и пусть скажут, что я ошибаюсь или говорю неправду... А кто, товарищи, нарушил договор? Вот он, парваначи. А кто, товарищи, не любит родину и подвергает ее бедствиям и лишает народ счастья, убивая мирных дехкан и отдавая их жен и дочерей на поругание и растление? Он — Кудрат-бий и его присные... И еще говорил пророк: «Как не воевать с теми, кто нарушил свою клятву?». Днем и ночью, на земле и под землей, в огне и в воздухе советский народ воюет против нарушителей клятвы, против всех баев, богатеев, предателей родины. И мы уничтожим их без всякой пощады.
— Мы, большевики, призываем народ: снимите с себя ярмо страха! Кончаются всякие там помещики, баи, беки. Их власть растворилась, как дым в небе. Дехкане и рабочие наступили им на глотку. Времена эмирской тирании и насилия богатеев прошли безвозвратно. Пусть дехканство, трудовой люд сами управляют своими делами, управляют без баев, без эмирских чиновников. Ленин сказал — пусть советы трудящегося народа будут хозяевами жизни.
— А если эти подлые или им подобные ставленники эмира и кровавых ференгов-англичан,— он показал на Кудрат-бия, отпрянувшего всем своим грузным телом к группе курбашей, — если только они осмелятся мешать народу строить свое счастье, тогда мы уничтожим их без всякой пощады.
Толпа теснилась уже у самого помоста, растворив в себе басмаческих воинов. Сотни возбужденных лиц, старых и молодых, были обращены к кучке курбашей. Последние слова комбрига утонули в одобрительных криках.
240
Внезапно курбаши Лютфулла, молодой, полный сил парень в красном с золотом камзоле, спрыгнул с помоста прямо в людскую гущу. Возникло минутное смятение. Несколько мгновений нарядная фигура барахталась в руках дехкан, а затем, словно вышвырнутая мощной волной, грузно шлепнулась на доски помоста.
Курбашей увели.
Еще долго не расходился народ. Снова гудели карнаи, били барабаны. На помостах чайхан появились певцы, прославлявшие в тут же сымпровизированных дастанах доблесть воинов Красной Армии и их славного командира Кошуб-бека, сумевшего перехитрить злобную лису Кудрат-бия. Дымили самовары, пахло пловом, пирожками, шашлыком.
На середину площади вышла странная процессия. Впереди шел старик с огромным животом, с усами и бородой из овечьей шерсти, в огромной чалме и с лицом, густо набеленным мукой.
В толпе раздался хохот, крики.
— Веселый Дерх! Веселые артисты из Дерха!
— Я Бобо-дехканбай,— петушиным голосом кричал старик,— идите сюда, батраки, идите, мардикеры, нанимайтесь ко мне!
Появился длинный, как жердь, артист в лохмотьях. Он поклонился «баю» и начал наниматься на работу.
— Будешь работать в поле чуточку,— вопил «бай».— Самую малость. Только от зари утренней до зари вечерней. Да еще дома пустячок: дровишек сажени две наколешь, водицы ведер тридцать принесешь, моих двадцать лошадок напоишь, почистишь, быков пять пар накормишь. Ужин изготовишь на нашу семейку, а в ней только двадцать мужчин да двадцать женщин. Да еще немножечко задержишься, когда мы спать все ляжем, сбрую починишь. Ну, еще пустячок: ночью с дубинкой да трещеткой походишь, воров попугаешь. Ох-охо, вот и вся работа. Боюсь, аллах велик, разленишься, разлодырничаешься.
— Ой, бай-бобо, работка-работкой, сколько же дашь?
— Будешь кушать досыта. Конечно, не с семьей. Это непорядок. Ну, а на твои харчи буду тебе богато давать продуктов. В месяц получишь столько, что брюхо вырастет еще больше, чем мое: риса я дам тебе один
241
золотник, мяса один золотник, соли один золотник, воды одну пиалу, масла одну каплю. Помолись богу — видишь мою щедрость.
— Ах ты, живоглот,— закричал батрак, — ах ты, ростовщик!
— Так вот как! Ты, ублюдок, еще ругаться! Вот пожалуюсь Кудрат-бию.
— Ах, чтоб твое брюхо лопнуло! Кудрат-бию конец. Большевики ему дырку сделают в башке — и конец.
— Так ты бунтовать?!
Началась потасовка.
«Бай» бросился наутек. За ним побежал, размахивая длинными руками, батрак. Настигнув старика, он начал потрошить его. К всеобщему восторгу он стал вытаскивать из брюха «бая» тряпки, чалму, старую галошу, рукав шубы, разбитый чайник, блюдо из-под плова, шумовку...
Когда хохот утих, веселые артисты запели о своем родном Дерхе, что лежит среди персиковых розовых садов на берегах голубого Зеравшана, в горной стране тысячи озер и перевалов. Радостны и беспечны жители Дерхан, нет у них баев и ростовщиков, все жители там бедняки, но свободны, и поэтому там так красивы девушки и сильны юноши. Все лето дерхцы работают на своих полях, на склонах и вершинах зеленых благоухающих гор, а весной и зимой бродят по кишлакам и развлекают народ, делятся с усталыми дехканами частицей своего веселья и счастья.
До поздней ночи при свете костров веселился Денау. Народ праздновал разгром грозной еще недавно армии ислама.


Часть 5

I
Что такое людское племя, друзья мои? Только и только пучок шерсти. Ветер подует, и слабые шерстинки взметнутся к небесам, развеются по степи, утонут в озерных пучинах, затеряются в дебрях горных лесов. Так и вихри злобной войны разметут и погубят народ, не знающий дружбы и единства. А если крепкая рука совьет тончайшие и нежнейшие шерстинки в прочную нитку, а из тех ниток соткет ковер или сделает кошму? Что ветер такому ковру или такой кошме? Что дождь или буран? Что холод и снег? Спасет людей дружба и стремление к великой и благородной цели, и что для сплоченного братской дружбой народа враг и несчастья? Незыблем и могуч такой народ, даже если злая судьба ввергнет его в море лихих бед...
Звучали струны пастушеской домбры, и под их тихую музыку старческим, но еще бодрым и звонким голосом бахши запел:
Горы проезжали они,
В тучах замерзали они,
Путь в степях теряли они,
Вновь на путь вставали они.
Кратким — дальний делали путь.
Звезд не счесть полночной поры,
В струях рек резвятся бобры.
Скакуны сильны и добры,
Быстрый бег им легче игры...
245
Бахши — певец и поэт Ядтар был велик и знаменит в народе. Его знали от берегов соленого Арала до ледяных столпов Хиндукуша, от земель страны наездников племени Теке до подножий Памира. Ядгар был певцом певцов, и слушатели его, признательные и восторженные, наградили его почетным именем «Бульбуль» — соловей. И по заслугам, ибо Ягдар-бульбуль знал на память множество сказочных и героических дастанов, а каждый дастан насчитывал по тридцать и по сорок и даже по пятьдесят тысяч строф. Мог петь бахши свои дастаны и день и ночь, и три, и четыре дня, и три и четыре ночи подряд. И голос его не уставал, и слова его неслись к ушам слушателей все также чисто и понятно, и никто не мог ни на минуту отвлечь своего внимания от тех песен,— так интересны и завлекательны были сказания и поэмы, которые пел и рассказывал под аккомпанемент своего кобыза Ядгар-бульбуль.
Примечательно, что и древняя поэма «Равшан», и седые былины, и сказка «Кундуз и Юлдуз», и такие произведения народных певцов, передававшиеся из поколения в поколение, как «Кунтугмыш», «Хушкельды» и «Далли» — в устах бахши Ядгара приобретали аромат новизны. В старые меха народный поэт вливал свежий кумыс, который пенился и бурлил, волнуя душу и вдохновляя борцов за счастье народа на новые подвиги.
В доме старого маслобойщика Усто-Фапаха, где остановился бахши, вечером появился Санджар со своими друзьями. Целый день командир доброотряда не слезал с коня, целый день в страшном напряжении всех сил он проводил тонко задуманную Кошубой операцию. Целый день добровольцы, скинувшие, наконец, невыносимую личину басмачей, вылавливали совместно с красноармейцами ошалевших нукеров Кудрат-бия, группами сосредоточенных в окрестностях города и готовившихся к решительному штурму и резне в момент церемонии сдачи исламского воинства. Свинцовая усталость валила с ног, но, узнав, что в Денау приехал знаменитый певец, Санджар отложил все дела и заботы и поспешил к Усто-Фаттаху, чтобы приветствовать Ядгар-бульбуля и оказать ему внимание.
Санджар еще стоял у дверей. Его никто не успел пригласить сесть, так как в высшей степени неприлично прервать хоть на секунду песню бахши, но уже слуша-
246
тели, знавшие содержание старинных дастанов, поняли, что Ядгар-бульбуль заметил и признал командира.
Ядгар не начал импровизировать похвал прославленному бойцу, не сочинял панегириков, восхвалявших его доблести, не прибег, как сделали бы многие бахши, к грубой лести. Нет, не таков был певец степей и гор Убекистана. Рука его только крепче сжала гриф пастушеского кобыза, словно пальцы ощутили точеную рукоятку меча, а в голосе зазвучали стальные нотки.
И в содержании старого дастана сразу же почувствовались изменения. Одну за другой нанизывал бахши новые и новые фразы, ибо в том и было отличие Ядгар-бульбуля от других бахшей, что он не перепевал слепо и покорно старые песни, а как истый поэт, вносил в них новое, откликаясь на события жизни.
Вот почему он нараспев заговорил о великой силе единства, о замечательной мощи дружбы, об объединяющей роли Советов в деле сплочения народа против басмачей.
Бахши не захотел прервать героический дастан о славных узбекских богатырях, но использовал возможности поэтических отступлений. В порыве вдохновения он начал сказ о великих революционных событиях, пронесшихся освежающей весенней грозой по его родине.
— Слова моего рассказа просты, но подобно горным тюльпанам распускаются в моем сердце. Нити прошлого и настоящего переплетаются. О чем только могли мечтать богатыри — свершается стократ сейчас. Давно умерли храбрецы, а на смену им пришли новые богатыри, сражающиеся за справедливость и добро. Печальна была жизнь Бухары. Потушена была свеча радости в наших сердцах, не было надежды тому, кто трудился. Богатый бездельник ел лепешку из белой муки, замешанной на масле, в горле пастуха застревал соленый овечий сыр. Так было и тысячу лет назад, так было и совсем недавно при эмире Алимхане.
— Не пели в наших кишлаках, даже в дни цветения урюка, наши милые девушки... Отец завещал любить труд, отцу завещали то же дед и прадед. Но за что было любить труд? За ломоту в спине, за горький соленый пот, за то, что плодами моей работы жил бездельник-богач? У нас ведь баи говорили: «У трудящегося кровь
247
так же грязна, как черны его руки». У нас презирали тех, кто работал...
— О, Санджар, помнишь ли ты те времена? Садись, друг, на наше одеяло, садись и слушай, ибо песнь моя — песнь о наших богатырях.
Когда Санджар и его спутники заняли места среди слушателей, бахши снова ударил пальцами по струнам. Но он не запел, а продолжал говорить ритмичной прозой:
— Тысячи дней шел я по стезе жизни. Дошли и до наших сухих, полумертвых степей, в забытые наши кишлаки вести: в Великой стране, в Великом городе поднялся во весь свой могучий рост Ленин. Он указал, что трудиться надо не на господ и не на бога, а для себя и своих товарищей. Народ истребил хозяев и ростовщиков, помещиков и людоедов. Земля и скот стали богатством батраков и бедняков. Слово Ленин сорвало с вельмож расшитые золотом и рубинами халаты, и под роскошным платьем оказалось зловонное, жалкое тело, разъеденное язвами порока и проказы. Он сбросил белые чалмы индийской кисеи с благочестивых имамов и мудар-рисов, и под ними мы увидели паршу и струпья. Он стер румяна и белила, и обнаружились под обличием благообразия морды шакалов и гиен.
— Тысячи богатырей поскакали, бряцая оружием, на врага.
Кони очень скоры у них,
Плечи, словно горы, у них,
Пламенные взоры у них.
— И пашущие землю стали хозяевами земли. Именитыми стали ремесленники, прежде презираемые за свои заскорузлые руки. Знатным стал продавец веников и водонос, не имевший даже пиалы. И всякий, благодаря бранным подвигам краснозвездных богатырей, достиг желаемого, а высокомерие господ мира затоптано конями в пыль.
— Красный воин, ты совершаешь подвиги, как древний богатырь, и пусть же народ, слушая дастан, знает, что не перевелись в Узбекистане великие богатыри...
Ядгар-бульбуль запел с великой горячностью. Голос его звучал все громче и громче. Пламя вдохновения жгло его душу. Ему было душно и тесно. Он распахнул
248
халат на груди. Резкими ритмичными движениями головы он сопровождал каждую строфу. Вот он вскочил, и все слушатели вскочили и горящими глазами смотрели на него...
Чиркнули, скрестились клинки.
Яростно сцепились они,
Бешено рубились они.
С лязгом — тяжелы, горячи,
Сшиблись удалые мечи.
Нрав у нападающих крут:
Головы, как тыквы, секут.
Трусы без оглядки бегут.
Многие, свисая с коней,
Головами землю метут,
Многие, попадав с коней,
Грязь и пыль бессильно грызут;
Смелые на гибель идут,
Робкие от ужаса мрут.
Так богатыри-силачи
С привязи спустили мечи...
Бахши прервал песню... Обессиленный, он тяжело опустился на одеяло. Пот крупными каплями выступил на его побелевшем лбу. Пальцы машинально перебирали струны, и в комнате стояли тонкие плачущие звуки, похожие на стоны степного ветра.
Было поздно. Наступило время сделать перерыв. Нужно дать отдохнуть бахши. Ядгар-бульбуль снял с себя халат, разостлав его, развернул желтый с зеленой вышивкой платок и, бережно перевернув вниз струнами, положил на него домбру. По приглашению хозяина он вышел в соседнюю комнату, почтительно поддерживаемый двумя гостями помоложе.
Ниязбек разостлал свой поясной платок и бросил на него несколько бумажных ассигнаций. Его примеру последовали один за другим все присутствующие. Появился хозяин дома и положил рядом с платком новенький халат. Сосед принес сапоги.
Такие подношения составляют доходы бахши. Размеры их определяются увлечением слушателей и достоинствами певца. Нередко бахши подносят барана, крупные суммы денег, даже коня.
249
Певца приглашает целый кишлак. Для слушания выбирают обычно большую михманхану. Это не всегда легко было сделать, так как горные кишлаки состояли из покосившихся, слепленных кое-как мазанок. Только баи имели более или менее приличные дома.
Но бахши Ядгар-бульбуль чувствовал врожденную неприязнь к богатеям. На своем жизненном пути пастуха, батрака, издольщика он немало натерпелся унижений и обид от высокомерия и самодурства кишлачных господ, и потому сегодня он тоже отклонил предложение петь у денауского помещика, а избрал скромную михманхану владельца маслобойки Усто-Фаттаха. Здесь бахши чувствовал себя свободнее. Он мог петь так, как хотел, не боясь нарушить правила доброго тона и законы гостеприимства.
Помещение, где собрались слушатели, было довольно обширное. Когда Усто-Фаттах был помоложе, он, мечтая о лучшей жизни, принялся строить, по кишлачным понятиям, целый дворец. Но ему скоро пришлось раскаяться в своей затее. Денег не хватило, и постройка так и осталась незаконченной. За тридцать лет бедняк только и сумел, что возвести стены и сделать крышу, да и та, судя по белесым подтекам на грубо обмазанных глиной с саманом стенах, сильно протекала в дождливые дни.
Сейчас михманхана Фаттаха стала неузнаваемой. Каждый слушатель заранее доставил сюда все лучшее, что у него было, чтобы достойно принять дорогого гостя. Пол был устлан красными в желтых разводах кошмами, стены увешаны гранатового цвета ахалтекинскими, салорскими, кзылаякскими, иомудскими коврами, гости сидели на шелковых одеялах. Посреди комнаты на скатерти можно было видеть лепешки, изюм, леденцы, орехи, миндаль, фисташки, сушеный урюк; к сладостям, правда, мало кто притрагивался, так как каждый по собственному опыту знал, как трудно бедняку собрать даже такие скромные лакомства.
Для певца было отведено среди подушек почетное место. Вечером устроили отличный ужин.
Сияющий и довольный Усто-Фаттах суетился, хлопотал.
— Не плохо мы принимаем знаменитых певцов? — спросил он Санджара.— Не правда ли, его песня, как золотой ручеек?
250
— Да, Ядгара слушать — одно удовольствие,— ответил командир.— Ядгар, когда загорится, «оседлав коня, гонит его карьером».
— Подлинно, подлинно,— закивал старик головой. — Он кипит в своем увлечении, как кувшин с водой.
— Его отец был тоже певцом,— заметил Ниязбек,— и, пожалуй, пел лучше. Он придерживался старинных текстов дастанов. У него богатыри были правоверными и воевали с гяурами. Вот Ядгар почему-то поет уже по-другому. У него богатыри больше думают о земном и бога не поминают.
— Я не скажу, чтобы богатыри очень много кланялись имамам да муллам,— проговорил, проходя через комнату и усаживаясь на свое место, бахши,— но надеюсь, что денаусцы со мной не поступят так, как поступили с булунгурским певцом Фазиль Юлдашем.
Санджар заинтересовался, что же с ним случилось.
— Тюютартарский судья Сафар-кази как-то слушал этого сладкоголосого певца. Фазиль пел народу о Рустаме, витязе известном и достойном подражания. Вдруг, судья спрашивает: «Когда жил Рустам? До пророка Мухаммеда, да будет он благословен, или после?». Фазиль ответил: «О мудрый судья, конечно, до». «Ах, так,— заорал Сафар-кази,— значит, ты воспеваешь подвиги язычника, поклонявшегося идолам Лата и Маката!? Как ты смеешь! Запрещаю!» И запретил.
— Неужели Фазиль послушался?— удивился Санджар.
— А что же было делать ему? Фазиль был человек бедный и ссориться с власть имущими боялся. Это теперь, при Советской власти Фазиль — почетный человек, а тогда... Но и в то время Фазиль перехитрил судью! Он снова начал петь про Рустама, а когда судья, узнав об этом, прогневался, бахши ему сказал: «Да это другой Рустам. Он жил после пророка и, конечно, был правоверным». Судья тогда успокоился... Мы, певцы — люди маленькие, у нас, кроме народа, других заступников нет.
— Петь надо так, чтобы вас уважали достойные люди,— бросил Ниязбек.
Перед тем, как кончить свой дастан, бахши вдруг сказал:
251
— Мы пели о злоключениях героя, когда он отправился выручать отца своей любимой жены, о том, как он сидел много лет в тюрьме, о том, как он победил женихов, сватавшихся к его жене, вернувшись под видом нищего домой; но, говорят, у казахов эта история рассказывается по-другому:
— Был у батыра верный и любимый друг. Во всем ему доверял богатырь, делил с ним в походах кусок лепешки и горсть изюма, подстилал под него свой халат, давал ему своего коня, а сам шел пешком. Очень любил и уважал батыр своего друга, хоть был он из богачей и баев, а сам он был воспитан в пастушьей суровости. Не любил друг, когда герой помогал пастухам, беднякам и нищим. Не советовал ему дружить с бедняками. И вот другу приглянулась красавица — жена батыра. Воспылал он к ней страстью. Были богатыри как-то в походе и попали оба в плен. Посадили их обоих в яму. Ночью батыр подсадил друга, и тот вышел из темницы, но вместо того, чтобы протянуть руку и помочь батыру тоже выбраться наверх, коварный друг завалил вход большой глыбой камня, а сам полетел на крыльях в родной улус. Прискакал он в аул и объявил, что батыр умер в темнице, потребовал, чтобы ему, как побратиму героя, отдали его жену. Поверил отец, назначил его главным визирем и стал принуждать дочку выйти за него замуж. Много из-за этого изменника пролила горьких слез верная жена батыра, не поддавалась злодею, не верила в смерть мужа и ждала любимого. И вдруг слышит она его пастушескую песню. Спасенный своим могучим конем, появился в родном ауле батыр. Попытался презренный изменник улететь в дымовое отверстие юрты журавлем, но не тут-то было. Стрела настигла черное сердце неверного...
Бахши добавил, обращаясь к Санджару:
— Вера в друзей хороша, но осторожность тоже хороша. Я слышал еще рассказывали, что однажды злоумышленник перед скачками подрезал подпруги у коня батыра, готовя гибель другу. Хорошо, что конь говорить умел по-человечьи и предупредил хозяина. Простил тогда батыр врага, и напрасно...
— Что же вы не сложите песню об этом случае?— досадливо заметил Ниязбек.
— Может, и сложу когда-нибудь, о верный из друзей!
252
Певец откинул назад голову и устало закрыл глаза. Казалось, мыслями он унесся далеко и забыл о существовании своих слушателей, которые почтительно молчали. Стараясь не шуметь, поднялся и вышел Ниязбек. Он шел не торопясь, лицо его было спокойно, но в сутулящейся фигуре было что-то, странно напоминавшее побитую собаку.
Санджар не повернулся и не посмотрел вслед Ниязбеку. Тяжелые складки пересекли лоб командира, он медленно чертил рукояткой ножа по бархатной поверхности ковра какие-то знаки и напряженно думал. Он так ушел в себя, что невольно вздрогнул, когда услышал тихий голос бахши.
— Да будет дозволено занять ваше внимание одной маленькой, очень маленькой притчей. В некотором древнем царстве во время нашествия диких и страшных кочевников возвысился простой кузнец и стал признанным народным вожаком. Царь испугался любви народа к тому воину, но побоялся явно пресечь его жизненный путь и встал на путь хитрости. Он послал своего приближенного визиря к прославленному военачальнику, наказав войти в его доверие. И случилось, что воин и визирь стали лучшими друзьями. Они кушали вместе, спали в одной палатке, скакали рядом на горячих конях в битве. Но напрасно доверял другу воин, ибо не раз в ночной тиши рука визиря тянулась к горлу военачальника. Только страх казни останавливал предателя. Однажды воин и визирь поднимались по крутой тропинке на перевал. Визирь, шедший впереди, вдруг столкнул камень, и он покатился, и запрыгал и сшиб воина. Упал воин в пропасть, разбился и испустил дух. Прогневался всемогущий на такое злодейство и превратил визиря-убийцу в камень. С тех пор тот перевал так и называется Визирь-таш.
Тогда Санджар коротко спросил:
— Почтенный отец, не ошибаешься ли ты в своей мудрости, не возводишь ли ты напраслину на друзей?
— Санджар-ака, — тихо ответил старик,— мудрость народа — порука правдивости этих дастанов. Не всякому другу можно верить, а особенно в наше время.
— Это совет?
— Да.
— Но кто дает совет?
253
Бахши начал говорить все более уклончиво, поглядывая не без робости на дверь.
— Совет дает народ. Свой совет народ доверил своему бахши.
Ядгар-бульбуль прислушался и поднял руку.
Со двора донесся стук копыт. Санджар опустил голову и стал слушать. Медленно поворачивалось лицо командира вслед за незримым всадником. Вот он выехал из ворот, завернул за угол и тяжело поскакал опять мимо дома, но уже по дороге. Топот удалялся, становился все тише и тише и, наконец, смолк. Все напряженно и молча следили за лицом Санджара. Горькая улыбка блуждала на его губах.
Бахши снова запел.
Это была веселая, залихватская песня. Ядгар-бахши импровизировал на плясовые мотивы.
Прервав на минуту пение, чтобы выпить воды, он, как бы невзначай, заметил:
— Что печалиться! Если я не буду петь о радости, я не буду петь совсем. Время настает в нашей стране радостное. Народ наш скоро будет веселиться. Из Москвы льется свет, ярче блистающего золота. Сердце мое в радости чувствует приближение победы. Санджар, друг, разгладь морщины на лбу и слушай.
И он запел песню: «Аваз идет в бой».
Санджар незаметно встал и вышел во двор. Серебряный челн остророгой луны нырял в белых светящихся облаках, плывших в глубине небес. В вышине шелестели пирамидальные тополи, и листочки их шевелились и серебрились на ветру. Среди черных куп деревьев чуть белели крыши домов. Простором и привольем дышала долина. Но Санджар дрожащей рукой рванул воротник рубахи: комок, поднимавшийся из груди, душил его.
Рядом послышался шорох. По военной своей привычке Санджар мгновенно повернулся. В дверях стоял Фаттах. Его бледное лицо при свете месяца казалось еще бледнее.
Помедлив, старик сказал:
— Он уехал по дороге к Верхнему Чарбагу...
И, так как Санджар ничего не ответил, он прибавил:
— Ваш друг?
— Был друг...
Усто-Фаттах вздохнул:
254
— Еще в те времена, когда мои предки населяли не эти каменные скалы, а широкие зеленые долины, откуда нас прогнали злобные кочевники, жил великий мудрец. Таджики забыли его имя, но помнят слова его мудрости. Он говорил: «Чтобы погубить тебя, враг станет двуличным другом и будет пресмыкаться перед тобой в пыли. Так и леопард, подкрадываясь к лани, припадает к земле грудью».— И видя, что Санджар все еще молчит, он продолжал: — Не ищите встреч с этим человеком. Я видел его глаза. Во взгляде их — смерть...
II
Комендант Денау давал торжественный ужин в честь гостей. Оркестр бригады исполнял бравурные марши и вальсы. Под звездным небом среди деревьев молодежь с увлечением танцевала.
Ужинали тут же в саду, на берегу хауза, при свете потрескивающих в дыму огромных факелов. Столов, конечно, не было, сидели на циновках и паласах, разостланных прямо на земле. Пили, в основном, чай, только для тостов в честь победы нашли немного сладковатого пенящегося мусаласа, похожего на легкий яблочный сидр, но очень крепкого и пьянящего. В те суровые дни в Восточной Бухаре пили мало и осмотрительно.
Пришедший позже всех Санджар был мрачен и неразговорчив. Но счастливого свойства юности — прекрасного аппетита он не потерял и с большим увлечением принялся за угощение, воздавая одинаковую честь как бифштексам и майонезам, изготовленным полковым кашеваром, бывшим питерским ресторатором, так и шашлыку и самаркандскому плову,— произведениям кулинарного искусства повара, состоявшего в прошлом, как рассказывали, при особе первой жены самого эмира. Все было очень вкусно, всего было в изобилии.
Утолив голод, Санджар обернулся к сидевшему рядом Кошубе.
— Победа, товарищ командир?
— Да, Санджар, и это, прежде всего, твоя победа. То, что ты сделал, не каждый сумел бы сделать.
Санджар сконфуженно что-то пробормотал, но глаза его сияли. Понизив голос, Кошуба продолжал:
255
— Будет доложено командованию. Товарищ Фрунзе будет рад за тебя, очень, очень рад.
— Как я хочу увидеть этого великого воина и человека!
— Подожди немного, друг, и ты съездишь в Москву и расскажешь товарищу Фрунзе сам, как ты перехитрил хитрейшего из хитрейших, ловкача из ловкачей.
— А что будет с ним?
— Трибунал.
— Когда?
— Завтра.
— Надо бы сразу,— вмешался в разговор Гулям Магог.
Он сидел рядом с Санджаром и спешил восстановить утраченные во время последней операции силы, последовательно уничтожая все съедобное, что мог найти на дастархане.
Уже упомянутый эмирский повар, сухонький, беззубый старичок, не раз прибегал из своей кухни взглянуть на «чудо аппетита». Стоя в тени и в волнении подергивая свою хитрую длинную бородку, подстриженную на какой-то совсем не узбекский манер, старичок глядел, как глубокие миски плова и прочей снеди поглощаются толстяком. Потом старик исчезал, чтобы через минуту появиться с новым блюдом, которое он предупредительно ставил перед самым носом Гуляма.
Удивительно, что огромное количество поглощаемой пищи никак не улучшало настроения толстяка. Он мрачнел с каждой минутой.
— Увидел скорпиона — раздави, — ворчал Гулям. — Поймал змею — оторви ей голову,— так у нас говорят.
К Кошубе подошел Курбан и что-то быстро заговорил, наклоняясь к самому его уху. Командир нервно потрогал усы, торопливо встал и, взглядом пригласив с собой Санджара, пошел к выходу.
— Клянусь, не иначе, проклятый Кудрат-бий чего-то натворил, —проговорил, не отрываясь от тарелки, Гулям Магог.
— Как же,— возразил Николай Николаевич,— он под стражей, с него глаз не спускают.
В небольшой, чисто выбеленной комнатке комендатуры, освещенной керосиновой лампой, уже собрались встревоженные командиры. Кошуба объявил:
256
— Кудрат-бий ушел. Ушел из-под самого носа милиционеров. Распустили слюни...
Вошел начальник милиции — щеголевато одетый, развязный молодой человек с черными усиками. Он небрежно прикоснулся рукой к козырьку.
— Вы меня звали?
Опустившись на скамью, он достал портсигар и начал закуривать английскую сигарету с золотым колечком.
— Встать! — сказал Кошуба.
Начальник милиции вскочил и вытянулся.
— Фамилия?
— Максумов.
— Имя?
— Султан. Но позвольте...
— Отвечайте на вопросы. Кем работаете?
— Начальник денауской милиции.
— Давно?
— Десять месяцев.
— Раньше что делали?
— Я… жил дома, у отца.
Вмешался Курбан. До этого он молча сидел на скамье, внимательно разглядывая начальника милиции. Он поднялся и вытянул руки по швам:
— Товарищ командир, разрешите. Султан Максумов не у папаши жил в прошлом году, а служил помощником у зверского прихвостня Селим-паши в Ховалинге.
Максумов шумно сглотнул слюну. Остановившимися глазами смотрел он на Курбана, видимо, не узнавая его.
— Не удивляйтесь, что я с вами знаком,— насмешливо заметил Курбан.— Вспомните, молодой человек, Чиндара...
Максумов сразу сгорбился, глаза его потускнели. Курбан продолжал:
— Этот молодчик прискакал с своей бандой в полдень в наш кишлак, а к вечеру в нем было столько новых вдов и сирот, сколько и за пятьдесят лет не бывает. И он, проклятый, похвалялся: «Скоро к нам придут сипаи, развеют этот красный сброд и воткнут вниз головой всех забывших бога и эмира».
— Так... Как вы попали в милицию?
— Я — меня пригласили. После сдачи нашего отряда.— Голос Максумова становился уверенней.— Нас
257
простила Советская власть. Тогда я поступил на службу в милицию.
— А сколько вы на своем веку убили советских людей?
Максумов молчал.
— Ясно. Расскажите теперь, что сегодня случилось?
Максумов наглел.
— Разговор простой: сломали стенку и ушли.
— А где же была охрана?
— Охрана? Дверь заперли на замок... крепкий замок, и дежурный остался у дверей. Наверно заснул собака. Когда я пришел проверить, соколы уже улетели.
— Почему вы не поставили еще часовых? Вы знали, какие важные преступники задержаны.
— Курбаши сдались, а раз сдались, Советская власть должна простить. Их надо было держать в почете, в удобном месте. Вы же бросили благородных людей в сарай, в скотный хлев.
— А потому вы зевали... — Кошуба говорил все резче. Глаза его сузились.— Потому смотрели на все сквозь пальцы?
Максумов молчал. Он совсем успокоился и со скучающим видом поглядывал на стены, потолок, лампу. Он, видимо, даже не считал нужным отвечать.
— Они ушли или уехали?
— Уехали на лошадях.
— Кто им дал лошадей?
— А зачем давать... Их кони стояли в саду около сарая.
— Кто их туда поставил?
Максумов усмехнулся:
— Когда их привели, там лошадей и поставили, а курбашей посадили в сарай и заперли.
После минутного молчания Максумов проговорил:
— Ну, я пошел. Все, кажется?
Он затянулся и пустил в потолок струйку синеватого дыма.
— Минуточку подождите,— вежливо сказал Кошуба и спросил Курбана:
—Вы смотрели стену. Есть там пролом?
— Есть, товарищ комбриг, только там и собачонка не пробежит.
258
— Как же выбрался Кудрат-бий?
— Да они и не выбирались там, это невозможно.
— Как же они ушли?
— Да через дверь... Вот он,— Курбан указал на Максумова,— открыл дверь, и они ушли. И лошади были накормлены, напоены и заседланы.
— Он врет! Я ничего не знаю.
— Хорошо,— сказал Кошуба, — хорошо. У вас есть семья и где?
Судорога исказила лицо Максумова, он крикнул:
— Вы не смеете, не смеете. Что вы хотите делать со мной? Вам плохо будет. В Дюшамбе у меня брат... он.... Вы пожалеете... отвезите меня в Дюшамбе.
— Выведите его,— все так же спокойно сказал Кошуба.
Максумов упал на колени. В горле его что-то клокотало, ужас парализовал язык. Намокшая и потемневшая гимнастерка прилипла к спине от пота.
Два бойца подхватили его под руки и вытащили за дверь.
Все закурили. Даже Санджар затянулся папиросой, хотя вообще предпочитал дедовский чилим и не признавал легкого табака.
— Вот одна маленькая гадина, вонючий жук, а какое хорошее дело испортил,— нервно сказал Санджар.— Был Кудрат-бий, и тяжело жилось Гиссару. В реке Сурхан не вода — слезы, перемешанные с кровью, текли. Только по-хорошему могли люди за кетмени взяться, советскую жизнь налаживать, только выглянуло солнышко — и опять наступила ночь... Опять, значит, война.
— Конечно,— проговорил Кошуба.— Правда, теперь, после сегодняшнего, Кудрат-бий не тот. Больше народного героя играть ему не удастся. Опозорился он здорово. Но шайку он себе наберет.
Санджар вскочил:
— Пока их мало, надо их ловить. Прошу, дайте приказ,
— Приказ уже передан всем заставам.
В это время где-то вдалеке стукнул выстрел. Как будто ударили палкой по паласу, выбивая пыль.
Сидели еще долго и молчали. Каждый предавался своим невеселым мыслям.
259
В сыром парном воздухе дымили, рассыпаясь сотнями искр, неуклюжие факелы. Взволнованные чайханщики суетились, стараясь всячески угодить красноармейцам и добровольцам.
Разглядывая одного, особенно вертлявого и лебезящего прислужника с толстым, лоснящимся лицом, старик Медведь вообще настроенный скептически, а сегодня особенно, заявил:
— Ну и рожа! Вот уж не сомневаюсь, что басмачам этот тип прислуживал бы с не меньшим, а, может быть, с большим усердием.
Подозрения Медведя имели под собой почву. Все, что находилось за чертой ярко освещенной площади, на которой шло веселье, жило своей ворчливой, смутной жизнью, внушавшей неясную тревогу... Она держала всех в напряжении, и каждому все время хотелось оглянуться. Такое чувство испытывают охотники, сидящие ночью у одинокого костра и ощущающие на себе взгляды десятков пар светящихся глаз обитателей густых зарослей...
— Я удивлен,— вполголоса сказал Кошубе Санджар.— Мне сказали, что моя мать здесь и хочет видеть меня. Она просит, чтобы я пришел к ней.
— Ваша мать? В Денау?
— Да, она приехала сюда,— Санджар помолчал в тягостном раздумье.— Вот уже третий раз за последний месяц моя мать зовет меня. Но я ведь не знаю ее... Я никогда не видел ее, то есть, я ее не помню. Она покинула наш дом, когда я был еще совсем мал. Я считал своей матерью тетушку Зайнаб, да она и была мне поистине родной матерью.
Говорил Санджар медленно, подыскивая слова. Казалось, он старается разобраться в обуревавших его чувствах.
— Друг,— сказал Кошуба,— мать всегда останется матерью. Но не ловушка ли это? Я поеду с вами.
Проводник привел всадников к высоким воротам почти над самым обрывом. Внизу, во тьме, шумела и плескалась невидимая река, в ветвях высоких деревьев, поднимавшихся из-за глиняной полуразвалившейся ограды, тихо роптал дувший с гор ветер. Сердито затявкала собака.
Санджара и Кошубу провели в небольшую чистенькую комнату, освещенную керосиновой лампой. На всем
260
убранстве, состоявшем из шелковых атласных одеял и резных алебастровых полочек, лежал отпечаток достатка и уюта, свойственного только домам очень зажиточных людей.
В углу на одеяле сидела женщина, уже пожилая, но еще красивая. Особенно хороши были ее глаза. Они метнули молнии, когда в комнату за Санджаром вошел Кошуба.
Женщина резким жестом руки остановила Санджара.
— И ты, которого я жаждала видеть двадцать лет, так поступаешь со своей матерью...
Санджар замер посреди комнаты, слегка наклонившись вперед.
— Матушка...— проговорил он. Видимо, он мучительно прислушивался в сердце к тому, что принято называть голосом крови.— Матушка...
— Подожди. Ответь на вопрос.— Глаза женщины загорелись недобрым огнем.
— На какой вопрос, матушка?
— Я звала тебя, своего сына, после долгой, как вечность, разлуки, а ты привел какого-то постороннего человека... да еще не мусульманина... по обличию вижу.
— Тише, матушка. Он мой побратим... Он брат мой.
— Он кафир... большевик. Ты забыл законы ислама. Ты позоришь мое открытое лицо. Сын мой! Пусть этот человек выйдет. Не подобает даже лучшему другу присутствовать при разговоре сына с матерью.
Кошуба быстро огляделся. Ничто не подкрепляло его подозрений. Он безмолвно поклонился и вышел в соседнюю комнату. Здесь было почти темно, так как масляный светильник едва теплился. За низеньким сандалом, пряча руки под тяжелым ватным одеялом, сидел длиннобородый старик и, очевидно, дремал. Он не шевельнулся, когда командир поздоровался с ним по-узбекски и, сев рядом, закурил.
Из приоткрытой двери струился полоской свет и были явственно слышны голоса разговаривавших. Женщина сказала:
— Подойди, сын мой, и обними свою мать. Она поцеловала его и горестно воскликнула:
— Вай, сыночек мой! Что с тобою сталось, бедненький мой...
261
— Матушка, что вы меня оплакиваете... Я живой ведь...
Разговор продолжался вполголоса. Кошуба задал старику вопрос:
— Скажите, уважаемая госпожа здорова?
— Да.
— Матушка Санджара давно живет в этом доме?
— Да.
— Она замужем?
— Да.
— Муж ее жив?
— Да.
— Не будет невежливым спросить, чем занимается ее почтенный муж? Не земледелец ли он?
— Да.
— Может быть, он садовод? Здесь прекрасный сад.
— Да.
Видя, что от неразговорчивого собеседника ничего не добьется, Кошуба замолчал. Он курил папиросу за папиросой и думал. В мозгу его созревала нечеткая, расплывчатая, как дым, мысль, но он никак не мог уловить ее. Он все больше приходил к заключению, что, оставаться в этом домике не следует. Почему,— он долго не мог сказать и, лишь нечаянно взглянув на столик, понял: стоявший на скатерти большой круглый поднос был пуст...
Пустой... Только самому жестокому врагу узбек отказывает в простейшем проявлении гостеприимства, в хлебе... На подносе ничего не было.
Командир посмотрел на благообразное холодное лицо старика и поймал его блудливый убегающий взгляд... Командир стремительно встал. Столь же стремительно вскочил и старик. Он раскрыл рот не то для того, чтобы сказать что-то, не то, чтобы закричать. Тогда Кошуба шагнул к нему и мрачно проговорил:
— Молчите!
Кошуба действовал безмолвно и быстро. Одним движением он извлек из-за пазухи несловоохотливого своего собеседника револьвер и засунул себе в карман. Он сразу же определил его британскую марку. Затем, слегка подтолкнув старика к сандалу, заметил:
— Ну, отец, не подымайте крика.
Но старик был настолько ошеломлен, что не промолвил ни слова.
262
Тогда комбриг спросил его:
— Эта госпожа подлинно мать командира Санджара?
— Да.
— Кто же ее муж? Старик замялся.
— Кто ее муж?— повторил Кошуба.
— Бек... хаким денауский.
— Вы знаете, что полагается за хранение оружия без разрешения?
— Как всевышнему будет угодно,— голос старца даже не дрогнул, но глаза бегали, выдавая беспокойство.
Тогда Кошуба, не спуская глаз со старика, подошел к двери. До него донеслись взволнованные, несколько повышенные голоса Санджара и его матери. Не очень громко Кошуба сказал:
— Санджар, брат мой, пора ехать.
— Хорошо.
...Всадники медленно ехали по дороге. Свежий ветер дул им в лицо. Оба молчали.
Только на следующий день Санджар рассказал Кошубе содержание своей беседы с матерью.
Разговор начался с того, что Кошуба очень осторожно, обиняками повел речь о молчаливом старичке и отобранном у него оружии. Тогда Санджар счел нужным передать все, что произошло между ним и матерью.
Мать долго охала и причитала над сыном, любовалась им, хвалила его за мужественную внешность. Расспрашивала о его жизни с тетушкой Зайнаб. Неожиданно она задала ему вопрос:
— Мусульманин ли ты, мой сын?
Захваченный врасплох, Санджар растерялся; сам он никогда не задумывался о религиозных делах. Он попытался выйти из неловкого положения:
— Походная жизнь не способствует выполнению обрядов.
— Не в этом дело. Я спрашиваю о твоих мыслях. Веруешь ли ты в единого, всемогущего бога и следуешь ли заветам его пророка?
Чувство раздражения начинало подниматься в груди Санджара; он не хотел при первой же встрече ссориться с матерью и поэтому постарался уклониться от прямого
263
ответа. Он невнятно пробормотал какие-то слова, которые, при желании, можно было счесть за утвердительный ответ.
— Хорошо, — продолжала мать, — хорошо. Но почему же сын мусульманина и мусульманки идет против мусульман?
И Санджар понял тогда, что перед ним сидит чужой человек.
Кошуба не присутствовал при разговоре матери с сыном, но он отчетливо и образно представил его себе после отрывистого, немногословного рассказа Санджара.
Никогда еще молодому воину не было так тяжело.
Он находился весь во власти проснувшейся детской мечты о материнской ласке, дремавшей многие годы. Перед ним была его матушка, которую он считал давно умершей. Он стремился к ней всей душой... Он так хотел броситься к ней, прижаться лицом к ее рукам, но ее слова, произнесенные ровным холодным голосом, воздвигли между ними стену.
И Санджар обрадовался, услышав голос Кошубы, звавший его.
— Ты уходишь, мой сын? Когда я увижу тебя? Да, у меня к тебе есть дело. Ты большой начальник, и ты имеешь большого друга из этих... большевиков. Помоги одному человеку, почтенному человеку, уехать. Он теперь не может здесь жить...
— Кто он такой?
— Он твой отец.
— Мой отец давно умер. Вы сами мне говорили, и тетушка Зайнаб говорила.
— Нет, он твой отец, отчим.
— Почему и куда он хочет уехать?
— О, не будь таким строгим, сынок. Этот человек был здесь хакимом.
Возникло молчание. Что мог ответить Санджар на просьбу матери?
Она снова и снова повторила свою просьбу. Санджар стоял, и неровный свет лампы заставлял плясать на стене тень от его крупной, застывшей в позе мрачного раздумья, фигуры.
— Где он этот человек?— наконец спросил он.
— Он здесь, в Денау.
264
— Пусть уходит, уезжает. Только скорее. Только потому, что вы, родная мать, просите. Я ничего не знаю, ничего не слышал...
— Но ему нужна бумага, охранительная грамота, иначе его не пропустят за границу. Его схватят, убьют,— в голосе ее послышались теплые нотки, поразившие Санджара.
Санджар колебался. Мать встала и, подойдя к нему, положила ему руки на плечи.
— Сынок мой!
Командир шагнул к столу и на листке бумаги быстро написал несколько слов.
— А печать?
— У меня есть только своя.
— Приложи свою.
Мать протянула руки, чтобы обнять сына, но он бережно отстранил ее, закрутил головой и быстро, не произнеся ни слова приветствия, вышел.
IV¹
Курбан и Джалалов медленно ехали по большой каменистой равнине, к подножию холмов. Светало. Лошади, весело потряхивая гривами, трусили мелкой рысцой по твердой, хорошо утрамбованной неширокой дороге, тянувшейся вдоль глубокого русла горной реки. Далеко снизу доносился шум невидимой бешеной стремнины. Здесь же наверху потрескавшаяся, побуревшая земля кое-где изъязвленная громадными размывами, обнажала самое нутро гигантских отложений и наносов. Почва, покрытая местами белыми лысинами солончаков, была настолько бесплодна, что здесь не росла даже самая неприхотливая колючка. Такие безотрадные места горцы называют сангзор — что значит каменный цветник.
Подавленные безотрадной картиной, всадники ехали молча, лишь изредка перекидываясь словами. Курбан был озабочен заданием, полученным от командира — разведать кишлаки, лежащие к югу от дюшамбинского тракта.
— Ого,— вдруг воскликнул Джалалов и привстал на стременах,— оказывается, в этом каменном цветнике есть свои садовники.
_________________
¹III глава пропущена, возможно, перепутана нумерация глав (Д. Т.)
265
— Где, где? — тревожно подхватил Курбан.
— Клянусь всеми черепахами и скорпионами этой чертовой степи,— продолжал Джалалов,— идут люди. Ого, они действительно садовники, у них есть кетмени. Что им нужно тут копать? А ну-ка, давайте, догоним их.
Он подхлестнул своего низкорослого мохнатого конька.
Впереди, по дороге, широким размашистым шагом шли пять стариков с кетменями на плечах.
Стук копыт даже не заставил их обернуться.
— Это,— заметил Курбан,— идут аксакалы. Им, как уважаемым лицам селения, не подобает проявлять любопытство.
Поравнявшись, всадники почтительно приветствовали стариков. После ничего не значащих, но очень необходимых изъявлений любезности и взаимного уважения, Курбан, как бы невзначай, поинтересовался, куда дехкане направляются и зачем им понадобились в этой бесплодной, забытой аллахом пустыне кетмени.
Старики были немногословны.
— Идем взять воду.
— Какая здесь вода?
— Вон видишь, там, у самого холма, чинар. Там плотина, там вода.
— Так, так... и вы хотите...
— Да. Дехкане нашего кишлака сегодня утром собрались и решили, что раз эмирские времена сгорели, а Кудрат-бий трусливо забился в кротовую нору, то земля теперь стала нашей, а не хакима денауского. Земля же без воды ничто. Вот мы, старики, и отправились на плотину, от которой идет наш большой арык, чтобы владеть, распоряжаться и охранять воду, дающую жизнь нашим полям и нашим душам.
Старики замолчали и продолжали идти так быстро, что не отставали от всадников.
Солнце взошло над плоскими бабатагскими горами и залило равнину потоками расплавленной стали. Теперь стал виден проложенный вдоль подножья холмов арык, обсаженный молодым тальником. Джалалов подумал о том, какие огромные усилия должен был приложить кишлачный люд, чтобы выкопать канал в каменистом грунте и заставить воду течь на плодородные земли, лежащие где-то далеко внизу на расстоянии многих верст.
266
— Когда выкопан канал? — спросил Джалалов одного из стариков, бодро шагавшего рядом с его конем по придорожной тропинке.
Но старик не ответил. Он был чем-то озабочен. Прикрывая рукой глаза от низко стоявшего солнца, он тревожно вглядывался в одну точку. Потом быстро сказал:
— Слушай, молодец! С высоты своего седла посмотри, что там, около чинара, есть люди?
Курбан начал вглядываться. Тревога старика передалась и ему. Джалалов взялся за бинокль.
— Все в порядке,— сказал он старику,— там, около чинара, какой-то человек работает кетменем.
— Работает кетменем?— удивленно спросил бородач.— Зачем он работает?
Старики забеспокоились. Не останавливаясь, они оживленно начали совещаться. Вдруг один из них подбежал к Джалалову и, ухватившись рукой за стремя, с мольбой в голосе сказал:
— Хозяин! Ты красный воин. Помоги нам.
— Что вам надо?
— Мы не знаем того человека, который копает около плотины. Там нечего копать. Зачем он копает? У вас кони, быстроногие кони. У вас оружие. Прогоните этого человека, он недобрый человек.
Столько мольбы было в голосе старика, что Джалалов ни секунды не колебался. Он и Курбан во весь опор повскакали к чинару. Оглянувшись, Джалалов с удивлением увидел, что старики бегут за ними изо всех сил, растянувшись в цепочку по дороге.
У чинара Джалалов сразу понял, что сельские старейшины взволновались не напрасно.
Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что неизвестный человек с кетменем делал черное дело.
Глубокий, почти с отвесными склонами овраг, похожий на огромную трещину, пересекал в этом месте пустырь. У самого дерева начиналась плотина, сложенная, очевидно, в недалеком прошлом трудолюбивыми руками земледельцев из огромного количества камней, хвороста и глины. Сотни людей должны были трудиться многие месяцы, чтобы воздвигнуть это несовершенное сооружение, преграждающее путь горному потоку, вырвавшемуся из груди горы и настойчиво стремившемуся в пропасть разверзшегося оврага... Только ценой невероят-
267
ных усилий можно было без сложных механизмов, голыми руками создать преграду бурному потоку, повернуть его и заставить течь по арыку, прокопанному в каменистом склоне горы.
Когда смотришь на такие сооружения, то не веришь, что их могли выстроить люди. И недаром в прошлом на людей, по инициативе и под руководством которых создавались оросительные каналы, смотрели в Бухаре, Фергане, Междуречье, да и во всех восточных странах, как на святых, и священная память о них бережно сохранялась в народе столетиями. И здесь, у подножья мощного, в десять обхватов, ствола чинара, стоял небольшой мавзолей, сложенный из новеньких кирпичей. Только отсутствие ячьих хвостов на высоких шестах показывало, что будущий святой — строитель плотины,— еще не почил в этом месте вечного успокоения; однако благодарные односельчане отдают ему долг величайшего почтения и, прижизненно строя мазар, возводят человека в ранг святого.
На гребне плотины стоял высокий старик в чалме и белом халате и методично наносил по ней удары кетменем. Работал, он, видимо, уже несколько часов и произвел в слабо скрепленном теле плотины серьезные разрушения; в прокопанную им брешь с угрожающим ревом рвалась вода.
Из-за шума падающей воды старик не слышал, как подъехали всадники.
— Стой!— крикнул Курбан, снимая с плеча винтовку.
— Подожди,— остановил его, Джалалов,— живым взять сына борова и обезьяны. Давай быстрее, а то он все разрушит.
Прыгая по камням, они добрались до старика. Он заметил их только тогда, когда на его плечи опустились тяжелые руки.
Старик обернулся и ощерил желтые зубы... Испуг исказил его благообразное холеное лицо. Он замахнулся, но вдруг рассмеялся торжествующе, злобно.
— Хаким,— испуганно закричал Курбан,— его высокопревосходительство денауский бек...
По гребню плотины уже бежали аксакалы. Они яростно размахивали кетменями и выкрикивали проклятия. Но и старейшины замерли, увидев перед собой самого всемогущего хакима, наместника эмира бухарского. Двое
268
стариков бросились на колени. При виде их согбенных, подобострастно склонившихся фигур, хаким самодовольно улыбнулся и, выпрямившись во весь рост, величественно отдал приказ:
— Схватите этих собак, красных солдат. Слушайте меня, старики: бросьте их в поток, и пусть их тела покроются смертельными ранами.
Старики заколебались... Почтение перед эмирским чиновником было сильнее разума, сильнее страха смерти. Они видели, что брешь в плотине силой напора воды расширяется, что стремнина, обретая все большую разрушительную силу, разворачивает камни, вымывает глину, выхватывает связки хвороста, что поток разрушает плоды их гигантского труда,— и все же они застыли в безмолвном, покорном отчаянии, потому что путь им преградил старик, жалкий, ничтожный, но все еще олицетворявший в их глазах власть эмира священной Бухары.
И тогда Джалалов, мягкий, спокойный юноша, никогда не решавшийся на резкие поступки, обрел вдруг силу и волю к действию. Он схватил хакима за воротник белоснежного халата и потащил по плотине к чинару.
Поступок Джалалова мгновенно отрезвил стариков. Они бросились к прорыву. В золотых лучах утреннего солнца заблестели кетмени.
— Свяжи его,— сказал Курбану Джалалов,— и пойдем помогать старикам. Боюсь, дела у них пойдут неважно. Смотри, что наделал подлец...
Работа спорилась. Камни, земля, пучки соломы и хвороста летели в прорыв, и вода несколько сбавила свой шумный бег.
Возникла надежда, что плотину удастся спасти.
Старики позволили себе немного передохнуть. Джалалов, от усталости валившийся с ног, поражался выдержке почтенных дехкан, самому молодому из которых было по меньшей мере семьдесят лет.
Один из старейшин подошел к сидевшему в тени хакиму и сдавленным от ярости голосом спросил:
— Это ты сделал, бек-бобо?
— Молчи, раб! Я построил, я разрушил.
— Как ты построил? Как можешь ты говорить такое?
— Да, я. По моему приказу строили плотину, и я своими руками разрушу ее, чтобы ни одна капля воды не досталась народу, позволившему опутать себя большевикам. —
269
Он расхохотался:— Да, пусть дехкане без нас, своих благодетелей, грызут сухую землю, пусть давятся ею.
— Но земля орошена нашим потом! Мы строили плотину своими руками. Мы строили, мы — народ. Полгода строили — умирали, исходили кровавым потом и слезами... Мы строили. А ты пытаешься лишить нас и наших детей хлеба и жизни только потому, что ты воспользовался плодами нашего труда, что ты пил нашу кровь...
Вмешался другой старик:
— Ты бек... Но не ты задумал строить. Вот он,— и он указал на первого старика,— задумал строить плотину и показал народу как работать. Он, почтеннейший и уважаемый. А ты, ты отобрал у нас три четверти воды и земли и держал нас впроголодь, вытягивал из нас жилы. Ты...
— Молчи, дурак! Какое мне дело до ваших рабских разговоров? Ползай, лижи следы моих ног.
И, взглянув на плотину, он торжествующе засмеялся.
— Вот, смотрите. Теперь пусть сотни дехкан, сотни баранов придут с кетменями... Поздно. Нет вам воды.
Старейшины, как один, обернулись и с горестными воплями кинулись к кетменям.
Но труд их был напрасен. То ли в разговоре с хакимом они затянули перерыв в работе, то ли вода уже с самого начала произвела слишком большие разрушения, но сейчас поток неистовствовал... Очевидно, невидимые струи пробились в глубь тела плотины и начали размывать ее со страшной силой. Сооружение разваливалось на глазах. С грохотом и треском отваливались уже не отдельные камни, а большие сцементированные известью глыбы. В несколько минут высокая величественная плотина была размыта.
И на уцелевшем куске ее, нависшем над оврагом, стояли, горестно подняв лица к равнодушному сияющему небу, пять старцев, пять скорбных фигур, напоминающих плакальщиков, оплакивающих дорогого покойника.
Так продолжалось несколько минут. Затем один из стариков протянул руки вперед и шагнул в поток... Он перевернулся в воздухе и, раскинув руки, погрузился в пучину.
Джалалов бросился к краю обрыва, но тотчас понял, что он беспомощен. Сердце его сжалось от боли и жалости. Над ухом прозвучал голос Курбана.
270
— Так нужно было... Нужна жертва, иначе воду никто не усмирит.
— Да, нужна жертва,— прокричал Джалалов,— я своими руками утоплю сейчас проклятого хакима.
Он повернулся и бросился к чинару.
Хакима под деревом не было... Не было его и в кустарнике. Правитель исчез. Позади мазара в заброшенном саду, нашли следы подков и свежий конский навоз. Бек ускакал, по-видимому, в тот момент, когда произошла катастрофа.
Около чинара Джалалов нашел небольшой бумажник, перевязанный шнурком. В нем лежали бухарские бумажные, очень грубо отпечатанные деньги, николаевские ассигнации, документы и среди них записка, написанная твердой рукой Санджара.
В ней говорилось о том, что податель этого письма должен беспрепятственно пропускаться по дорогам Восточной Бухары. Написанное было скреплено личной печатью Санджара.
Джалалов ничего не сказал Курбану. Только лицо его еще более помрачнело. Он предался самым грустным размышлениям. И в тон им были рассказы старейшин. Они собирались идти в свой родной кишлак сообщить трагическую весть о том, что посевы их в этом году не получат влаги, что сотни, тысячи танапов хлеба, хлопка, садов и виноградников обречены на гибель, что богатый цветущий оазис, созданный двадцать лет назад руками тысяч людей и кормивший тысячи людей, погиб, что нужно уходить, иначе всем грозит голодная смерть.
И все это сделал один человек — мстительный и злобный, бывший хаким денауский, распоряжавшийся по праву эмирской деспотии жизнью дехкан, их очагами и достатком. Народ изгнал его, и он в последнюю минуту злобно и гнусно отомстил народу, как мстит раздавленный скорпион, вонзая в расплющившую его босую ногу свое ядовитое жало.
Джалалов молчал. Он почти не слушал стариков. Он думал о Санджаре, которого уважал и любил, перед которым преклонялся.
...Когда он передал записку Кошубе, командир мельком взглянул на нее и спросил:
— Что ты хочешь сказать, товарищ Джалалов?
— Прочитайте. Ведь... очень странно.
271
— Вот что, пусть все останется между нами. Санджар рассказал мне. И о записке тоже...
V
В горах темнота особенно густа и непроницаема. Нет ничего легче как сбиться с дороги, попасть на край скалы, сорваться в пропасть.
Но тем не менее всю ночь небольшая группа всадников настойчиво, неутомимо уходила в глубь гор, подымаясь к границе вечных снегов.
Уже перед рассветом всадники наткнулись на пастуший стан. Угли костра едва тлели.
Всполошившийся чабан отогнал бесновавшихся зевластых псов и поднес кисленький, пахнувший шерстью айран. Гости напились, не сказали ни слова благодарности и продолжали сидеть в угрюмом молчании.
— Разрешите, господин, принести поздравления,— осторожно заговорил один из проезжих, обращаясь к толстому, закутанному в белый уратюбинский шерстяной чекмень, человеку.
Тот, кого назвали господином, буркнул что-то неразборчивое себе в бороду.
— Поздравления со счастливым избавлением от опасности,— закончил говоривший.— Теперь ваша звезда воссияет на небосклоне побед и воинских подвигов с еще большей яркостью, господин парваначи.
— Что с вами, Ниязбек?— слабым голосом спросил Кудрат-бий.— Что это на вас напало придворное красноречие в такой момент... когда... О, как он перехитрил меня... Мы ошиблись в нем, в этом русском. Я думал, что он только отчаянный рубака, слепой в ярости, а он еще умен... да, умен. Господи, два года я бьюсь с ним не на жизнь, а насмерть, и не смог пальцем его тронуть...
— Еще время не ушло, господин. Мы еще соберемся с силами...
— С силами... с силами... Уйдите все,— приказал Кудрат-бий.— А вы останьтесь, Ниязбек.
Когда они остались у костра вдвоем, Кудрат-бий заговорил вполголоса:
— Мы соберем еще джигитов, вы правы. Ко мне прибегут эти трусы — курбаши, побросавшие свое оружие, едва на них прикрикнули там на площади. Да, мы еще будем стрелять, скакать, мучить, убивать... Но зачем?
272
— Как зачем?
— Вот и я спрашиваю... Наше дело кончено. Я говорю вам — кончено! Черный народ полон ненависти к нам, люди стали большевиками. Нет разницы между батраками гиссарцами и большевиками, между юрчинскими чайрикерами и большевиками, между денаускими... пусть будут прокляты они, денаусцы, пусть знают: если у меня, Кудрат-бия парваначи, будет хоть сотня, хоть две сотни верных бойцов, я прискачу в Денау и перережу их всех до единого. Я прикажу вырвать из утроб денауских потаскух младенцев, чтобы искоренить проклятое денауское семя до одного, до последнего...
— Вы меня задушите, господин,— робко прервал его Ниязбек, так как в припадке бессильной ярости парваначи схватил своего собеседника за борта халата и начал трясти.
— Бог мой, ты видел? Они смотрели на мой позор и смеялись. Они могли смести с помоста этого Кошубу-безбожника с его людьми и разорвать в клочья, и они не сдвинулись с места. Я тебе говорю, они стали большевиками... всех... всех уничтожу! Всех!..
Он долго не мог успокоиться. Вдруг Ниязбек схватил его за руку.
— Слышите?!
— Что?
— Кто-то едет.
Кудрат-бий вскочил; несколько мгновений тревожно вглядывался в тьму.
— Боже... они,— простонал курбаши,— и сюда они пришли...
— Скорее,— шептал Ниязбек,— скорее к коням... Мы успеем... Уйдем...
— Нет... пропали. Все пропало. Нет сил, — всхлипывал Кудрат-бий.— Пусть придут... Пусть хватают. Пропал, пропал...
Парваначи снова опустился на землю у потухшего костра, и видно было при свете гаснущих звезд, как сидит он — раздавленный, жалкий, обхватив голову. Плечи его судорожно вздрагивали. Ниязбек то начинал бегать по площадке, то принимался теребить курбаши, стараясь сдвинуть с места его тяжелое тело.
Далеко, далеко заржала лошадь. Жалобно подвывая, Кудрат-бий распластался на земле и скреб камни ногтя-
273
ми, как будто пытаясь втиснуться в ничтожнейшую из расщелин.
Вдруг тихо прозвучал его слабый голос. Он жалобно молил:
— Когда меня схватят, ты быстро скачи в Дюшамбе. Боже, успеешь ли... Там... Наклонись ко мне!
Он долго шептал что-то склонившемуся над ним Ниязбеку. Наконец поднял голову и сказал громко:
— Там есть наши люди. Перед нами откроются все двери, падут все запоры.
Приближалось утро. Светало. Стали видны горные склоны, темные провалы ущелий. Внизу у говорливого ручейка спали прямо на траве беглецы — басмаческие курбаши. Поодаль паслись лошади. Шерсть их стала мокрая и блестящая от холодной росы.
Мирная картина тихого горного утра вдохнула бодрость и силы в грузное тело Кудрат-бия. Он сел, подбросил в костер несколько сучьев. Грея руки над огнем, курбаши, как бы невзначай, проговорил:
— Не думал, друг, что вы такой нервный. И все только вам мерещатся красные звезды. Никого нет на нашем пути, а? Да если и появится кто... Мы еще посмотрим!.. Да, пора трогаться. И помните, Ниязбек, если мы не сможем собрать джигитов, мы пойдем за Пяндж и предадимся там отдохновению. Что вы ухмыляетесь?'
Ниязбек не стал напоминать Кудрат-бию о недавнем припадке малодушия. Он предпочел заговорить о другом:
— Еще есть силы у истых мусульман. В Фергане идет борьба. Из Кашгарии помогает консул... как его, Эстертон. Из Афганистана от инглисов идет целый караван с винтовками, патронами и индийскими рупиями. Вот-вот будут они у нас. Военный министр Надирхан плюет на своего Амануллу и обходится без его разрешения, хоть этот почтенный король заигрывает с большевиками и заключил договор с Москвой. А за Надиром стоят инглисы. Чего же падать духом...
— Кто сказал, что я пал духом?
Низким поклоном Ниязбек скрыл наглую усмешку:
— И потом, чего же нам бояться? Неужели великий назир народной республики не снизойдет до нас в случае беды? Он, вы сами знаете, не такой уж и друг большевиков, как прикидывается...
274
— Дела у него осложнились,— возразил Кудрат-бий.— Приезжал из Москвы один умный грузин и все проверил. Он заставил выгнать из правительства Бухарской республики всех родственников и друзей великого назира и потребовал, чтобы все назиры были не из почтенных людей, а из этой голытьбы, дехкан и рабочих... Сам великий назир чуть не попался. Теперь он поспешил отправиться в путешествие по Гиссару. И ясно — даже если на его глазах будут перерезать глотку его родному брату, и то он пальцем не пошевельнет... Женоподобный этот бача эмирский только и думает как бы спасти свою шкуру, и давно бы смылся за границу, если бы ему разрешили его хозяева инглисы. Тьфу!
Он поднялся и пошел по мокрой траве вниз к ручью. Уже когда они отъехали немного от пастушьего становища, Ниязбек сказал:
— С вашего позволения, господин парваначи, я вас оставлю.
— Это еще почему, господин бек?
— Хочу, господин парваначи, съездить в Тенги-Харам, домой...
— Разрешите, господин бек, вам сказать, что вас схватят едва вы посмеете показаться на большой дороге... Вы, господин бек, забыли, что после Денау к большевикам перебежали многие, кто хорошо знает вас и ваши дела. И вам, господин бек, остается отныне состоять при нашей особе...
— О, господин парваначи, вы преувеличиваете опасность для нашей скромной особы.
— Почему же, господин бек?
— Да потому хотя бы, что нас не посмеют пальцем тронуть.
— Почему же, господин бек? Или вы наденете шапку-неведимку, или у вас среди большевиков есть друзья? — Почувствовав, что опасность не угрожает ему непосредственно, Кудрат-бий снова обрел величие.
— Да потому нас не тронут, что мы предусмотрительны и не являемся подданным Бухарской, Народной Республики.
— Как так?— Кудрат-бий не сдержался, изумление появилось на его лице.
— А так, что мы позаботились получить у афганского посла в Бухаре Абдурарул-хана хорошенькую, изящ-
275
ненькую книжечку, называющуюся афганским паспортом. Так что мы, господин парваначи, являемся афганским гражданином и вольны ехать куда нам заблагорассудится. И никто, ни большевики, ни воины ислама не вправе нас останавливать или задерживать во избежание дипломатических осложнений с Кабулом. Так-то, господин парваначи.
— Хорошо. Тем более вы нам нужны. Отныне вы наш первый помощник. Назначаю вас главным курбаши всех верных мусульманских воинов Локая...
Ниязбек безмолвно склонился в полупоклоне. Он ничего не ответил, только чуть скрипнул зубами.
Когда он отъехал, Кудрат-бий подозвал к себе Рыжего ясаула и негромко сказал:
— Видишь того чернобородого?
— Как же! Господин Ниязбек...
— Я тебя спрашиваю про чернобородого. Мне нет дела до его имени. Я говорю — чернобородого?
— А-а,— протянул ясаул,— вижу чернобородого.
— Так вот, чернобородый должен быть там, где будем мы. Чернобородый будет есть из одной чашки со мною, пить чай из одной пиалы со мною, ходить рядом со мною, ездить, не отдаляясь ни на шаг от нас. Понятно?
— О, да! Понял. Это великая милость. И только неблагодарный посмеет пренебречь ею.
— Ну, на то ты при мне состоишь, чтобы такой милостью не побрезговали.
VI
Преследование в предгорьях Гиссара — далеко не легкое и не простое дело. Быстрая скачка здесь совершенно невозможна из-за крутизны бесчисленных подъемов и спусков. Всякая попытка заставить коня двигаться более быстрым аллюром, нежели обыкновенная рысца, приводит к самым печальным последствиям.
Группа всадников, цепочкой двигавшихся по тропинке, пересекавшей гигантское брюхо Черной горы, издали напоминала мирных кишлачных жителей, направлявшихся на базар в Каратаг. Только вблизи можно было разглядеть, что едут вооруженные люди, что они не мирные путники, а охотники, идущие по горячему следу.
Далеко впереди на добром горном коньке размашистой ходой двигался Курбан. Он сменил буденовку на
276
белую войлочную шляпу с черными бархатными отворотами, а шинель — на коричневый уратюбинский чекмень.
Озабоченное, напряженное выражение мгновенно слетало с его лица, как только в пределах видимости на дороге появлялся путник. Чем ближе был встречный, тем добродушнее делалось лицо бойца и громче разносилась по холмам и долам его гортанная песня.
В нескольких шагах от ехавшего или шедшего навстречу Курбан вежливо умолкал, а затем разражался целым потоком изысканных приветствий и добрых пожеланий.
Нет нужды, что Курбан первый раз в жизни видел человека: он в совершенстве владел искусством разузнавать новости и выведывать сведения, которые могли быть полезны отряду.
— Во имя бога всеблагого, всемилостивейшего, всеразумнейшего! Кого я вижу, о господи! — восклицает Курбан с таким видом, как будто бы он по меньшей мере родной брат коренастого, обросшего волосами локайца, мрачно восседающего на рослом осле бухарской белой породы.— Какое замечательное совпадение, что вы избрали ту же дорогу, по которой всемогущий аллах направил меня, смертного. Как здравствуют драгоценные отпрыски вашей достопочтенной милости? Уж не из Каратага ли вы поспешаете?
Изысканная вежливость может растопить и лед.
Локаец напряженно копается в памяти, стараясь, припомнить, где он мог видеть эту добродушную и вместе с тем лукавую физиономию. Но поток слов льется и льется, и начинает казаться, что с этим балагуром и несомненно благочестивым мусульманином приходилось встречаться не раз.
Боясь обидеть Курбана, встречный, обходя вопрос о знакомстве, в свою очередь старается ответить любезностью на любезность. Он останавливает осла, и завязывается оживленная дорожная беседа, та беседа, которая обеспечивает на Востоке продвижение всех новостей по лику земли с быстротой телеграфа.
— В нашей семье, благодарение аллаху, всё тихо, если не считать печального происшествия с нашим братом. Велик аллах в своих милостях и в своем гневе правосудном.
277
— Неужели с братом вашим, достойнейшим и мужественнейшим человеком, приключилось такое?
— Да будет милосерден тот, кто взирает на нас всевидящим оком. Презренная кафирская пуля поразила его в живот, пониже пупка, и он стонет и кричит уже седьмой день. Я еду за Нуреддин-табибом.
— Помилуй нас аллах! Неужели вы хотите прибегнуть к помощи подобного наглеца, возомнившего себя Ибн-Синой и Лукманом. Нет, я бы пошел за Абдукахар-табибом. Он так хорошо излечивает раны...
— Великий пророк послал вас мне навстречу. А где же живет Абду... Абду... Как вы его назвали?
— Абдукахар? Он обитает совсем близко, в Казак-баши.
— Слава пророку, слава аллаху, еду сейчас к нему. Брат очень мучается.
— Спешите, спешите,— говорит Курбан,— только прошу вас, ничего не говорите людям, которых вы сейчас встретите, о вашем брате, о пуле, о том, что вы едете за табибом.
Напуганный собеседник широко открывает глаза.
— Да, да,— продолжает Курбан,— за мной едут нехорошие люди. Особенно молчите, если они будут спрашивать о том, не проезжал ли здесь кто-нибудь, похожий на хакима сарыассийского и денауского.
— О, они злые люди, значит? Неужели они злоумышляют на такую высокую особу...
Курбан пробует рискнуть:
— Меня очень беспокоит, достаточно ли далеко уехали их высокое достоинство хаким? Если они уже проследовали через Каратаг...
— Велик аллах! Я тоже беспокоюсь.
— Почему?
— Они еще не проехали Каратага.
— Клянусь, они медлят. Почему же они так медлят?..
На гребне горы в голубом небе возникают силуэты всадников. Словоохотливый локаец и Курбан торопливо, прощаются.
Снова в воздухе звенит песня...
Не надо думать, что Курбану очень везло, что у первого же встречного он сумел раздобыть столь важные сведения.
278
Кто знает, сколько таких бесед пришлось ему вести за последние два дня, сколько любезностей расточать перед самыми разнообразными путниками: купцами, загорелыми дочерна горцами, медлительными дехканами, пронырливыми и подозрительными молодчиками без определенных занятий.
Но таков был Курбан,— он умел развязать языки самых недоверчивых, самых молчаливых людей.
И если отряд не сбился с пути, если Санджар не потерял следа, то это в значительной мере нужно объяснить исключительными способностями Курбана. Он вел Санджара по горячему следу.
Санджар увлекся преследованием. Он дал себе слово, что хаким будет взят, что хаким не сумеет пробраться за кордон.
Санджара мучило не только то, что он написал денаускому хакиму пропуск, нет. Санджар пришел в ярость, когда узнал, что хаким разрушил плотину и оставил дехкан без воды.
VII
В стороне от шума и толпы по тенистому берегу хауза прогуливались двое. Одного из них не сразу можно было узнать. Просторная ниспадающая свободными складками белая одежда и большая белая чалма делали Кудрат-бия неузнаваемым.
Он ходил, сгорбившись, тяжелой походкой бесконечно утомленного человека. В его осунувшемся, подернутом нездоровой бледностью лице, обрамленном сильно поседевшей, видимо, давно некрашеной бородой, ничего не осталось от злобного высокомерия главаря басмаческих банд. Страдальчески опущенные уголки губ, обвисшие усы, суетливо бегающие глаза придавали Али-Мардану сходство с затравленным зверем. Даже и голову он держал как-то слегка набок, словно прислушиваясь, не прозвучит ли где-то далеко лай охотничьих псов. Иногда парваначи вздрагивал, и губы его беззвучно шевелились. Иногда он начинал разговаривать сам с собой, споря с невидимым противником и отвечая совсем невпопад своему собеседнику.
Рядом с ним ковылял, тяжело опираясь на костыль, ишан Ползун. Одет он был на первый взгляд очень
279
скромно, но все — и дорогая кисея чалмы, и тончайшее сукно халата, и шелк рубашки, и лакированные ичиги, и даже запах индийских духов,— все говорило о том, что горбун не забывает о мирских благах, хотя по своему положению наставника дервишского ордена ему подобало больше думать о делах божественных. Но почтеннейший богослов, несмотря на свое уродство и седую бороду, недавно в третий раз сочетался браком.
Всякий, кто посмотрел бы на мирно прогуливающихся Кудрат-бия и Ползуна, решил бы, что разговор вращается вокруг тем, навеянных красотой священной рощи мазара и только что состоявшимся по случаю праздника торжественным всенародным молением — намазом аид. Собеседники говорили вполголоса, усиленно перебирали четки, громко вздыхали и поглядывали на голубое небо, просвечивающее сквозь густую листву столетних вязов.
Но беседа их вращалась вокруг тем очень земных.
— Гияс подходит, хотя неудачи и преследуют его. Он подобен человеку, набравшему камей в подол халата и швыряющему их куда попало. Каждый, даже самый маленький камешек, долетит и кого-нибудь ударит. Тогда про него скажут: вот молодец, какая меткость глаза. Пусть останется там, где он сейчас...
Али-Мардан поморщился:
— Бек оказался слабым. Для такого человека нужен ловкач, настоящая лиса. Проклятый Санджар совсем стал большевиком.
— Пусть Гияс продолжает свое дело. Он обещает... Ведь лучше, если этого проклятого Санджара сами большевики заподозрят и уберут.
Али-Мардан в раздумье кивнул головой. Он прошел через сад в небольшой дворик. Здесь он сел, поддерживаемый слугами, на коня и, наклонившись к Ползуну, сказал:
— А все же пусть Гияс, бросая камни, не забывает смотреть что делается за спиной. Если что, пощады от Санджара он ждать не может. И, наконец, в том письме Саид опять пишет: «Когда вы, наконец, уберете его?»
В сопровождении нескольких нукеров Али-Мардан уехал.
Сильно хромая, Ползун вернулся назад через рощу и, сдержанно отвечая на многочисленные приветствия,
280
вошел под низкий кирпичный свод, переходивший в длинный коридор. Здесь было шумно и оживленно. Десятки и сотни богомольцев стояли, ходили, сидели у высеченных в стенах сорока ниш, по числу сорока чильтанов, таинственных покровителей правоверных мусульман в области самых разнообразных видов человеческой деятельности. Почти в каждой закопченой нише горело две-три, а кое-где и больше свечей, в зависимости от многочисленности или набожности представителей той или иной профессии, посетивших сегодняшнее моление. Перед нишей чильтана — покровителя цеха нищих — толпилось так много народа, что трудно было протолкаться среди всего этого тряпья и зловонных рубищ. Вопя и стеная, нищие протягивали изъеденные язвами и болячками черные руки, Рядом одинокий писец, одетый очень чисто и даже изящно, изредка снимал щипчиками нагар с горевшей в нише единственной восковой свечи и обращался к каждому проходящему с вопросом: «О почтеннейший, нет ли у вас желания занести на бумагу ваши уважаемые мысли для пересылки их уважаемым вашим родственникам? А в то же время вы совершите угодное богу дело и позволите возжечь новый светоч». За этой витиеватой формулой подразумевалось дело очень простое: писец, или как его называют на востоке — мирза, предлагал свои услуги, чтобы написать письмо или заявление за соответствующую мзду. Но так как здесь был не базар, а святое место, то предложение облекалось чуть ли не в форму молитвы, обращенной к загадочному и могущественному Хызру, покровителю всех путешествующих и, в то же время, господину сорока чильтанов.
Дальше по коридору толпились дервиши — странствующие монахи в расшитых островерхих шапках, отороченных мехом халатах, с длинными узорными посохами в руках и ладанками из скорлупы кокосового ореха. Они возносили молитвы своему чильтану крикливо, с подвываниями, сами свечей не зажигали, а насильно заставляли это делать первого попавшегося наивного богомольца. Но едва только дехканин отворачивался, свеча исчезала в сумке странствующего монаха с тем, чтобы через минуту вновь быть проданной какому-либо простаку.
Много свечей горело в нишах чильтанов — покровителей мясников, базарных перекупщиков, ростовщиков, менял и всяких прочих лиц купеческого звания, больших
281
и малых. Сами купцы, своим дородством и холеными бородами резко выделявшиеся из массы богомольцев, солидно и с достоинством шествовали по коридору, не задерживаясь у своих ниш и всем своим видом показывая, что они люди просвещенные и стоят выше всяких там глупых суеверий... Но времена и для купцов наступили тревожные, никакое правоверие не предохраняло торговые караваны от грабительских нападений со стороны воинов ислама, хотя сам Ибрагим-бек отдал на этот счет строжайший приказ. Но ни приказы, ни фетвы — охранительные грамоты с огромными печатями — не гарантировали от разграбления и разорения. Быть может, тут сказывалось сомнительное прошлое грозного Ибрагима, начинавшего свою карьеру с профессии конокрада. Так или иначе, купцы, посетившие сегодня мазар святого Хызра, украдкой вручали расторопным, шныряющим в толпе мальчикам-прислужникам деньги на покупку и возжжение жертвенных свечек чильтанам-покровителям торговли.
Много было всякого народа, пришедшего на поклонение святому. Но больше всего здесь было согбенных тяжелым, изнурительным трудом дехкан, не видящих света ремесленников, гнущих свои спины за примитивными станками от восхода солнца до вечерней зари, байских слуг и батраков, ищущих в религии облегчения и выхода из беспросветной нужды и пришедших сюда, в священную рощу, по примеру своих предков, искать прибежище в молитве, читаемой на непонятном языке арабов.
Было так много народа, что, знакомые в этой толпе должны были искать друг друга целую неделю, а может быть, и больше. И весь этот люд шумел, кричал, стонал, отнюдь не боясь нарушить благолепие святого места. Только временами в коридоре все стихало, и толпа шарахалась в стороны, очищая путь здоровым, краснорожим крепышам, у которых под халатами явно обрисовывалось оружие. Они шли, не глядя по сторонам и не замечая робко кланяющихся людей. А стоило кому-нибудь зазеваться, и увесистый пинок моментально выводил человека из рассеянности. Тогда в толпе слышался робкий, почтительный шепот: «Курбаши такой-то!»
Время близилось к вечеру, когда сквозь шум толпы откуда-то донесся протяжный не то призыв, не то стон.
282
— «Хызр! Хызр!» — завопили и нищие, и купцы, и босяки, и богачи. Толпясь, ругаясь, все ринулись к выходу в мазар; через минуту коридор опустел, стало тихо, только потрескивали слабо теплившиеся огоньки в черных прокопченных нишах чильтанов...
Быстрой, суетливой походкой по коридору прошел Гияс-ходжа в дорожной одежде. Видно, он только что сошел с коня.
Мутавалли оглядывался по сторонам, разыскивая кого-то. Перед самой дверью он остановился. В темном углу зашевелилась груда тряпья и кто-то хриплым голосом совсем непочтительно спросил:
— Чего тебе, ходжа?
— Это ты, байбача?
Тот, кого иронически называли байбачей — сыном богатого купца, и кого бесчисленные нищие, бродившие по городам и кишлакам знали как своего всемогущего старосту, бобо-камбагала — деда-бедняка, выполз из угла и, не находя нужным даже поздороваться с почтенным духовным лицом, грубо повторил вопрос:
— Что тебе?
Нищенская одежда байбачи вся была в грязи. Видно, он спал там, где его сваливал сон. Весь левый бок халата обгорел; повидимому, ночью, во сне, нищий слишком близко привалился к очагу, к раскаленным углям.
Глаза байбачи были прищурены и слезились; взгляд его был диким взглядом вечно голодного человека. Всякий, кто хоть немного знаком с местными нравами, понял бы, что байбача — завзятый курильщик анаши.
Стоя перед Гияс-ходжой, нищий покачивался, кашлял и плевался. Он ждал подачки.
— Вот что,— сурово проговорил Гияс-ходжа.— Иди в рощу, сядь у хауза и смотри во все глаза.
Байбача молчал.
— Ну, ты меня понял?
Байбача хихикнул:
— Можно сидеть, можно смотреть, и ничего не высидеть, ничего не увидеть.
— Чего ты хочешь, чтобы увидеть: монету или еще что-нибудь?
— Только блюдо плова. Одному мне блюдо плова,— он облизнулся и потер живот обеими руками.— Там
283
столько котлов с семью ручками. А мне, ходжа, только одно блюдо.
— Ладно,— Гияс-ходжа наклонился и вполголоса продолжал:— Так вот, как только увидишь, что приедут всадники в кафирской одежде, проскользнешь во двор молитвы и шепнешь правоверным, сидящим в кругу моления: «Кафир, идолопоклонник приехал осквернить священное место, где в земле лежит нетленный прах пророка Хызра».
Анашист, усиленно шевеля губами, шепотом повторил:
— ...Осквернить священную землю... с прахом Хызра...
— Вот-вот, с нетленным прахом...
Гияс-ходжа поднялся по ступенькам и вышел в четырехугольный двор, окруженный зданиями ханаки. На двор выходили сводчатые двери келий, где жили мюриды — ученики и последователи ишана мазара Хызра-пайгамбара. Двор был пуст. Только в сторонке, на небольшом возвышении сидели музыканты — карнайчи, сурнайчи и барабанщики. В ожидании окончания моления они от скуки играли в кости. Увидев Гияс-ходжу, музыканты вскочили и, прижав руки к груди, стали отвешивать поклоны.
— Салом алейкум!
— Ва алейкум ассалом.
Гияс-ходжа быстро пересек двор, но в самом конце его остановился и поманил к себе старшину музыкантов.
— Вот что, Надир-карнайчи. Тут приедет один... богоотступник. Будет смятение в мазаре. Если он побежит через этот двор, загородите ему дорогу. Понятно?
Старшина молча поклонился. Он давно знал Гияс-ходжу как человека власть имущего, а всем власть имущим надлежало подчиняться беспрекословно.
Моление уже началось, когда Гияс-ходжа, через большую сводчатую галерею, окружавшую с трех сторон мазар, вышел на площадь, окаймленную могучими, в десять обхватов, чинарами. Несмотря на то, что здесь сегодня собрались сотни людей, только незначительная часть этого обширного пространства была занята богомольцами. В самом дальнем конце в громадных очагах пылали целые стволы деревьев под неимоверной величины котлами, имеющими действительно, каждый по семи
284
ручек. Семь — магическое число, и котлами с семью ручками можно пользоваться только при изготовлении пищи на священных пиршествах. Дым очагов, смешиваясь с запахом жареного лука и тмина, почти заглушал терпкие ароматы многочисленных курильниц, которыми размахивали перед лицами верующих дервиши, тут же шепотом требуя «худой». Всю эту гамму запахов покрывал своеобразный сладковатый запах анаши, которую курили в чилимах паломники, не принимавшие участия в молении.
Особняком держалась группа хорошо одетых юношей в полосатых халатах, подпоясанных желтыми платками, по-видимому, золотая молодежь, байские сынки. Не обращая внимания на благочестивую, весьма торжественную обстановку, они веселились от души.
По красным, напряженным лицам, заплетающимся языкам и веселым возгласам чувствовалось, что жидкость в их чайниках имеет очень мало общего с чаем.
Проходя мимо этой группы, Гияс-ходжа опустил глаза и вполголоса заметил:
— Тише, друзья... Приближается момент испытания. Когда он отошел на приличное расстояние, один из юношей процедил сквозь зубы:
— Mo-мент ис-пы-та-ния! Испытывай самого себя, ходжа любезный, а я лучше испытаю вот этого пузанчика.
Он похлопал ладонью по чайнику и наполнил свою пиалу.
Из-под сводов галереи слышались ритмичные, выкрики: «Хувва-ха! Хувва-ха, хув-ва-ха».
Сидя на подогнутых под себя ногах, широким кругом расположились богомольцы. Посередине восседал седой пир — хранитель мазара — с бородой до пояса. Он молча раскачивался, как бы дирижируя радением. Сидевшие в кругу ритмично, но с огромной энергией раскачивались вперед и назад, касаясь лбом пола, одновременно с силой выкрикивая два слова: «Хувва-ха! Хувва-ха!»
В период, о котором идет рассказ, такие зикры — религиозные радения — были широко распространены по всей Средней Азии, а руководители басмачества поощряли их, стремясь подогреть фанатические чувства верующих.
Зикры устраивают, как правило, дервиши — мусульманские монахи.
Когда правоверный желает вступить в члены дервишской общины, он должен стремиться постигнуть бо-
283
га. Но сделать это, как внушает мюриду наставник-пир, можно только путем бесконечного повторения имени божества, сопровождая его физическими упражнениями «над сердцем, имеющим форму шишки, помещающейся в левой части груди и содержащей в себе всю истину». Мюрид должен развить в себе способность сосредоточиться в сердце, отстраняя все посторонние мысли и обращаясь всецело к богу, то есть, получая дар откровения, вразумления или то, что называется «зикр». При помощи зикра, якобы, и достигается цель всех стремлений дервиша — восторг, экстаз, блаженство, в состоянии которого дервиш становится властителем идеи божества.
Люди, способные доводить себя во время дервишских радений до такого состояния невменяемости, были наиболее слепыми и безрассудными басмаческими воинами.
Участники зикра продолжали выкрикивать:
— Алла-ху! Алла-ху! Хувва-ха!
Гияс-ходжа посмотрел на равнодушное, утомленное лицо дряхлого пира и недовольно поморщился. Около него вдруг выросла согбенная фигура Ползуна.
— Вы чем-то недовольны, господин мутавалли?— спросил он.
— Надо подогреть этих людей,— сердито заметил Гияс-ходжа.— Он подумал и вдруг сказал:
— Сейчас я скажу слово.
Раздвинув ряды, мутавалли вошел в круг. Все сразу замолкли, только двое или трое продолжали механически твердить слабеющими голосами: «Ху, ху!»
Закатывая глаза и подвывая, Гияс-ходжа заговорил:
— О ты, многожеланный! Ты, который служишь в час смятения! В глубочайшей темноте ты видишь все вещи. В час стыда и смущения только ты один можешь защитить меня. В час опасности твой верховный разум поддержит меня. Пророк в суре бакрэ изрек: «Порицающие религию да будут уничтожены». О бог! Алла-ху, алла-ху!
Участники зикра, точно бесноватые, завопили: «Ху, ху!» В круг начали подсаживаться зрители, до сих пор равнодушно взиравшие на радение. Крики усиливались, на покрасневших лицах появились крупные капли пота. Многим стало невмоготу сидеть. Они вскакивали и, про-
286
должая кричать, надвигались на старика пира. В радение втягивалось все больше и больше людей. Некоторые, окончательно впав в экстаз, уже не кричали, а дико рычали: «Ху, ху!»
Перебирая четки, Гияс-ходжа похаживал позади теснившейся вокруг пира толпы, с удовлетворением прислушиваясь к яростным воплям. Уже больше часа шло радение.
Но вот взгляд мутавалли упал на группу веселящихся юношей, и лицо его помрачнело. Размеренным шагом он подошел к ним и холодно сказал:
— Что это значит? Вы, сыновья правоверных... Тогда один из пировавших хихикнул и, подняв пиалу, нараспев начал декламировать.
— Чаша любовная, чаша угощения, очередная чаша беседы, чаша дружбы, напои его допьяна.
Он встал, пошатываясь, подошел к Гияс-ходже, фамильярно взял его под руку и, дыша винным перегаром прямо ему в лицо, забормотал:
— Как вы смотрите, о святой, на хорошенькую, полненькую, веселенькую...
— Нечестивец! В таком месте... в такое время!
Он резко вырвал руку и в бешенстве зашагал к ковылявшему навстречу Ползуну. За спиной его грянул взрыв хохота.
— У нас свой зикр! Зикр! Ху-ва-ха. Хува-ха-ха! — вопили юноши .
— Слушайте!— крикнул Гияс-ходжа Ползуну.— Откуда они, эти?
Внезапно он замолк.
Через толпу двигалась группа людей. Впереди шел, как всегда спокойный и слегка улыбающийся, Санджар. За ним следовал Курбан в одежде джигита добровольческого отряда.
Гияс-ходжа стремительно наклонился к Ползуну:
— Ну, на этот раз наш дорогой Санджар попался.
— Как... Санджар здесь?
Ползун резко обернулся. При виде Санджара и его спутников он смертельно побледнел: посох нервно запрыгал в его руке. Горбун обернулся к Гияс-ходже. Во взгляде его можно было прочесть растерянность и гнев. Он прохрипел:
— Это ваша затея? Кто вам позволил?
287
Санджар, повидимому, ничего не замечал. Он с простодушным любопытством взирал на толпу, на беснующихся дервишей, на чинары, на гигантские котлы. Весело переговариваясь с Джалаловым, он шел прямо к пирующим юношам, которые уже успели раздобыть блюдо с дымящимся пловом и делали Санджару гостеприимные знаки.
Ничто не показывало, что Санджар встревожен и даже напуган, хотя впоследствии он признавался: «Я знал, что надо немедленно бежать, бежать к лошадям и скакать во весь опор, спасая свою жизнь, свою душу! Я сразу увидел, что попался в вырытую нам яму. Но я думал только об одном — кто же предатель...»
Он узнал об опасности не здесь на дворе, где происходил зикр, а раньше. Едва Санджар вошел в коридор с нишами чильтанов, как к нему подскочил анашист байбача и загнусавил:
— О пастух, вот ниша чильтана, покровителя пастухов. Дай мне худой и убирайся из нашего святого места.
Он не побежал предупреждать Гияс-ходжу и тогда, когда Санджар, сунув ему несколько монет, вошел во двор ханаки. Тут поднялся карнайчи и, подойдя к командиру, пробормотал в полной растеряньости:
— Санджар-ака, зачем вы здесь, не ходите на пир, не ходите!
Командир похлопал его по плечу и засмеялся:
— Ну, Надир-карнайчи, если там пир, то и я там. А ты дуй в свой карнай. Да поскорее начинай!
Уже тогда Санджар сообразил, что посещение мазара Хызра-пайгамбара может кончиться трагически. Но он не повернул назад, а бросил как бы вскользь:
— Ну, товарищи! Молитва, кажется, будет очень крепкой.
Вид беснующейся толпы убедил его, что здесь оставаться опасно.
Но и тут он не захотел отступать.
Санджар шел к веселым юношам и улыбался.
В этот момент вой, рев и выкрики «ху! ху!» оборвались и воцарилась тревожная тишина. Прозвучал резкий голос:
— Правоверные! Имейте страх божий в самом сердце вашем, пусть страх руководит вашими поступками! Дервиши! Люди! Я спрашиваю, что надо сделать с по-
288
клоняющимися вере Карахана, то надо сделать с признающими Лата, верящими в Маката, молящимися золотому тельцу? О, мусульмане, что мы сделаем с затесавшимся в наше моление поклонником солнца, огня и четырех серебряных идолов. Сюда! Вот он, чтящий медного пророка, святых из железа, идолопоклонник проклятый...
Раздвигая толпу, прямо на Санджара шел Гияс-ходжа, обличающе протянув руки и кликушески выкрикивая угрожающие слова. Молча, хрипло дыша, шли за ним бледные, потные, с судорожно искаженными лицами фанатики, прервавшие зикр. Они шарили глазами, подбирали с земли камни, комья глины, палки.
Тогда Санджар быстро сказал, обращаясь к вскочившим на ноги и сразу ставшим очень серьезными юношам в богатых халатах:
— Ну, как, где у вас винтовки?
— Здесь.
— Будьте наготове.
Он сделал шаг вперед. Лицо его было мертвенно-бледно.
...Отчаянно взревели карнаи, тонко запели сурнаи, оглушительно забили барабаны.
Около котлов с пловом запрыгали поварские помощники, звонко застучали ложками о подносы и, перекрывая шум, завопили:
— Готов, готов, плов готов!
Между группой Санджара и толпой фанатиков побежали вереницей прислужники с высоко поднятыми блюдами янтарного пахучего плова, направляясь к разостланным в тенистых местах на кошмах и циновках длинным скатертям. Подавальщики нараспев кричали:
— Готово! Готово! Просим! Просим!
Десятки мальчишек с кувшинами и полотенцами в руках рассыпались в толпе и, приветствуя правоверных, предлагали им омыть руки перед трапезой.
А среди прислужников ковылял со своим посохом Ползун и, расточая любезности, лично приглашал наиболее почетных гостей отведать угощение.
И голодная, алчущая толпа ринулась к блюдам плова, увлекая отбивающегося Гияс-ходжу. Он очутился рядом с Ползуном и, брызгая слюной, крикнул;
— Кто распорядился подавать плов?
289
Презрительно взглянув на его потемневшее, искаженное лицо, Ползун ответил:
— Потом поговорим. Идите, кушайте.
Сам он, давая знаки слугам, запрыгал к возвышению, около которого стоял Санджар. Мгновенно была постлана скатерть. Появилось все, что полагается в таких случаях. Сам Ползун усадил Санджара и Курбана и, изобразив подобие улыбки, начал угощать дорогих гостей.
Он закатал длинный рукав халата и протянул руку, чтобы взять горсть рису. Глаза его встретились с остановившимся взглядом Санджара, устремленным на его руку, где была вытатуирована арабская надпись.
Еще не оформившееся воспоминание мелькнуло в мозгу командира. Где и когда он видел нечто подобное? Где же? Он не вытерпел:
— Домулла! Простите неприличие вопроса: что у вас написано на руке?
Ползун усмехнулся:
— Глупость молодости... А написано: «Нарушитель обета прогневит его!»
— Какого обета?— поинтересовался Курбан. Ползун ответил уклончиво.
— Вообще обета...
Угощение было в полном разгаре. Горы плова исчезали на глазах. Но недаром ишан мавзолея Хызра-пайгамбара славился своим широким гостеприимством. Слуги несли все новые и новые блюда, и каждый мог насытиться вволю. С завидным аппетитом ел и Санджар. Но в то же время он напряженно думал: где же он видел надпись? Но так и не припомнил.
После ужина ишан пригласил к себе Санджара.
— Ты смелый воин,— сказал ему старец,— но ты сошел с пути, предначертанного отцами и дедами. Кто становится на новый путь, того ждут суровые испытания, сын мой.
Посмотрев на окружавших ишана прихлебателей, мюридов, слуг, Санджар упрямо тряхнул головой:
— Отец мой, о каких отцах и дедах говорите вы, о каком предначертанном пути говорите вы мне? Если те отцы и деды были эмиры, хакимы, помещики,— народу не по пути с ними. Если те отцы и деды — дехкане и пастухи, то народ идет по их пути, и я с ними...
Пир ужаснулся;
290
— Но где же найдешь ты, сын мой, всеблагую мудрость и благочестивое наставничество? Среди грубых пастухов, среди невежественных пахарей? Только мужи, преисполненные святыми изречениями пророка нашего, стоят в твердыне истины.
Санджар ответил резче, чем позволяли приличия и тревожная обстановка:
— Пусть... Пусть отец мой, пусть дед мой были неграмотны и невежественны. Пусть уступали они знаниями даже ничтожнейшему ишану и имаму, пусть. Но у народа нашего, у простого народа есть мудрейшие из мудрейших, светлейшие из светлейших, отцы, которые нас учат и направляют в наших поступках...
— О ком ты говоришь, сын мой? Речь твоя неясна и непонятна.
— Вы отлично знаете, мой пир, о ком я говорю. Только язык ваш не решается шевельнуться, чтобы произнести их имена и смутить покой вот их, этих ничтожных лизоблюдов.— Не обращая внимания на злобный шепот окружающих, Санджар закончил:— Кто они наши отцы? Имена их будут жить в народе вечно. Это они сделали нас людьми, это они помогли нам прозреть, это они дали нам счастье и радость.
— Я не знаю их имен, сын мой,— слабым голосом проговорил пир и, опустив голову, зашевелил губами.
— Ленин — имя его, Сталин — имя его!— сказал Санджар.
Вздох смятения пронесся по комнате.
После долгого молчания старец с трудом поднялся. Его свита замерла, ожидая знака.
Санджар тоже встал с места. Его лицо стало суровым и мрачным.
Тогда пир сказал:
— Ты святотатствуешь, сын мой. Как может быть отцом и наставником мусульманина неверный кафир? Мусульманский народ не пойдет по пути нечестия. Берегись!..
— Мой пир! Не запугать вам народ такими словами. Тысячу лет его морили голодом, заставляли слизывать грязь с сапогов беков и ханов, предавали мучительной смерти, и во имя чего?.. — Он горько усмехнулся. — Нет, Санджар-пастух не пойдет больше по пути горя и рабства, предписанного мусульманскими мужами мудрости из
291
Мекки. Нет, путь Санджара-пастуха — это путь Москвы, путь Ленина и Сталина.
Он поклонился пиру и пошел к двери, высоко подняв голову и не глядя ни на кого.
Все собравшиеся в комнате молниеносно расступились перед ним. «Их как ветром сдуло»,— рассказывал потом Курбан.
Уже переступая порог, Санджар услышал за собой голос пира.
— Горе нам! Он — большевик... Горе! Яд большевизма проник в сердца правоверных...
Ползун проводил Санджара и его спутников через двор ханаки, по коридору чильтанов, священной роще, и только тогда вернулся обратно. Пиршество продолжалось. Подошел слуга и почтительно доложил, что ишан зовет к себе его и Гияс-ходжу. Когда они вошли в келью, старец спросил:
— Кто привел сюда воина?
Гияс-ходжа низко опустил голову и еле выдавил из себя:
— Мы с Ниязбеком решили: так будет хорошо. Он ищет денауского хакима. Мы подослали человека сказать, что он здесь.
— Зачем?
Едва заметным движением руки Гияс показал, какая участь готовилась Санджару.
— Почему вы не посоветовались с нами?
— Мы думали...
Тогда вмешался Ползун. Говорил он холодно, но голос его дрожал от ярости:
— Неужели вы думали, Гияс, что мы допустим это? Как можно допустить, чтобы разрушили ханаку и мазар Хыра-пайгамбара, последний оплот ислама в Гиссаре?
— Но...
— Если бы с Санджаром что-нибудь случилось, разве его молодцы не разнесли бы и мазар и ханаку по камешкам, а?
— Он прав,— прохрипел старец.— Он прав, здесь нельзя было.— Его голос вдруг сорвался в визг: — Вы, вы ничтожества, вы ослы... Вы допускаете, чтобы такой человек шлялся по миру, оскверняя своим дыханием нечестия и богохульства мусульманскую Бухару. Он сто тысяч раз опаснее, этот молокосос, чем все русские-кафиры.
292
Он, ничтожный, стал дверью для заразы большевизма, дверью в народ. Он — ужасный и гибельный пример... Убрать его... Скорее, завтра... я приказываю... Смерть... Смерть... Спешите, а то поздно... Убейте его... Приказываю...
Старец забился в припадке.
А Санджар, покачиваясь в седле, все думал: «Где же я видел такую надпись, на чьей руке?»
Внезапно он встрепенулся. В темноте на дороге послышался топот многих коней. Курбан, следовавший поодаль, подъехал ближе.
— Кто идет?— крикнул Санджар.
— Мы идем, поступью барса,— ответил чей-то голос.
Тогда командир остановил коня и резко сказал:
— Вы джигиты, а ведете себя, как дети. Я послал вас в мазар совсем не для того, чтобы вы там пили водку, да еще во время зикра.
— Но это была военная хитрость,— простодушно возразил один из джигитов.— Дервиши и всякие ишаны подумали: «Это мюриды из басмачей, опьяневшие от близости к аллаху». А мы знали, что было очень опасно. Вот и придумали: ведь ангел смерти Азраил — правоверный мусульманин, коему вино запрещено. Ну, он и не захотел бы прилететь и оскверниться общением с нами. А потом... ведь нельзя же спокойно смотреть на этих дервишей. Они кричали и ревели, как быки, завидевшие корову. Недаром у нас есть пословица: «Пир — корова, мюриды — быки».
И он хихикнул, очень довольный своей шуткой.
VIII
«Живописная альпийская природа, патриархальные пастушеские нравы, тонкие красивые лица, цветущее здоровье аборигенов,— вот что характеризует эту, открывшуюся перед изумленными пионерами культуры, счастливую горную страну...»
Николай Николаевич перевернул измятую страницу книги, посмотрел на обложку и снова прочитал, уже про себя, о пионерах, цветущем здоровье и патриархальных нравах. Затем он обвел глазами невзрачную, слепленную из грубо отесанных кусков гранита, вросшую в скалу клетушку — обычное жилище горца — почти отвесно ухо-
293
дящий ввысь оголенный склон горы, начинающейся прямо со двора, и хаотическое нагромождение пиков и зубчатых вершин под ногами. Кругом камни и скалы — угрюмые, неприветливые. Взгляд его задержался на пожилом горце, зябко кутавшемся в халат, вернее на его руках, покрытых толстым слоем коросты.
— Интересно, что сказал бы этот писака, нацарапавший в угоду своим высоким покровителям вот эти самые мармеладные строчки, очутись он лицом к лицу вот с этаким дядей, которого разъедает чесотка, сифилис и черт его знает еще что? Что бы он сочинил, этот царский холуй, о «счастливой стране»? Не беспокойтесь,— усмехнулся Николай Николаевич, заметив смущение на лицах собеседников,— он по-русски ничего не понимает. Так вот представьте... кстати, его именуют Наджметдином... какой конфуз у меня с ним получился вчера. После неисчислимых изъявлений благодарности он взял у меня лекарства и отправился... Куда бы вы думали? Прямехонько в мечеть к имаму, который занимается по совместительству врачеванием. И заметьте: гонорар, уплаченный табибу — николаевский серебряный рубль и две курочки. Мне же он хотел презентовать десяток яиц. Так котируется в сем тихом селении знахарства и современная, передовая научная медицина. Ты зачем опять пришел?
Последний вопрос относился к горцу в рваном халате. Тот живо поднялся на ноги и, отвесив почтительный поклон, проговорил:
— Помогите, доктор. Надо лекарство, много лекарства.
— Не буду я тебя лечить. Пусть тебя лечит имам. Горец поклонился еще ниже:
— Ой, господин доктор. Не меня нужно лечить, жена у меня умирает.
— Что с ней?— встревожился Николай Николаевич.
— Бог знает. Только недавно я женился на ней...
— Недавно женился?— вырвалось у доктора.— А сколько лет ей, твоей жене?
Горец с достоинством выпрямился.
— Не знаю. К тому же спрашивать о возрасте жены постороннему мужчине се подобает.
— И кафиру вдобавок,— добавил Николай Николаевич.— Понятно. Но как же я, кафир, буду лечить твою жену? Ты же не позволишь мне взглянуть на нее...
294
— Она протянет тебе руку, и ты по руке определишь болезнь.
— Тэ-тэ-тэ! Номер не пройдет.— Николай Николаевич опустился на камень.
— Ей очень плохо,— забеспокоился горец.— Она умирает. Хорошая жена. Молодая...
Он сел на землю и начал картинно всхлипывать.
— Так вот: прежде чем лечить, я должен буду посмотреть больную. Понятно?
Горец медленно соображал. Затем он поднялся на ноги и проскрипел:
— Ты можешь ее смотреть всю, но лицо она тебе не откроет.
— Хорошо, идем,— сказал доктор, снимая с седла хурджун, где лежал его чемоданчик с хирургическими инструментами. — А вы, товарищи,— обратился он к бойцам,— скажите командиру, когда он придет, где я...
Прошел час, другой, а доктор не возвращался.
Хотели уже идти на поиски, когда прибежала девочка и стала о чем-то шептаться с хозяйкой дома — маленькой добродушной старушкой.
Та долго качала головой, расспрашивала и, наконец, сказала:
— Русский табиб лечит жену Наджметдина. Табиб хочет разрезать живот женщине. Он сказал, что если не разрежет живот, то она умрет в страшных муках к утру. Русский табиб говорит, что если сделать так, как он говорит, то, во славу аллаха, она будет жить. Пойду посмотрю своими старыми глазами, что там такое.
Старушка ушла, а через несколько минут по дороге, проходившей над самым обрывом, промчались во весь опор несколько всадников, и почти тотчас во дворе появился Кошуба.
Командир был взволнован.
— По коням!— отрывисто бросил он.
И вдруг заметил отсутствие Николая Николаевича.
— А где этот оглашенный доктор? Опять ушел в горы цветочки собирать? Когда он к порядку приучится!
Кошуба сразу же забеспокоился, потому что Николай Николаевич был «гражданским лицом» и в горы с отрядом поехал по собственному желанию «для врачебной практики».
Кошубе объяснили, что доктор ушел к тяжело боль-
295
ной. Спешно, пока шли сборы, послали за Николаем Николаевичем. Посыльный вернулся почти тотчас же.
— Что? Записка?! — закричал Кошуба. — А ну, давай-ка записку. Черт! «Ехать не могу, приступил к операции. Перитонит. Больная очень плоха». Он с ума сошел... Идем!
Около ворот дома Наджметдина толпились женщины. На зов командира в дверях появился хозяин.
— Где русский табиб? — спросил Кошуба.— Позовите его сюда.
Горец ушел. Минуту спустя он вышел снова.
— Он говорит, что не может.
Кошуба стремительным шагом направился к двери, но хозяин преградил ему дорогу:
— Не ходи, командир! Только доктор может видеть мою жену, лишенную покрова. Ты не должен входить.
Кошуба торопливо раскрыл планшет и написал на клочке бумаги несколько слов.
— Отдай ему, скорее.
Он вернулся к воротам и тихо сказал вестовому:
— Скачи к околице, там, около большой мечети с белым камнем, наши люди. Скажи, пусть держат дорогу.
Ни на шаг назад не отходят. Понятно? Вестовой ускакал.
— Все планы этот доктор спутал,— пробормотал сквозь зубы Кошуба.— А, наконец-то...
Но готовая вырваться брань замерла на его губах при взгляде на Николая Николаевича. Доктор был мертвенно бледен. Руки его и рукава халата были в крови. Усталым, каким-то пустым голосом он спросил:
— Зачем вы отрываете меня от дела? Больная очень слаба.
— Мы уходим,— вполголоса сказал Кошуба.— Через двадцать минут здесь будут басмачи.
— Я читал вашу записку.
— Так едем же!
— Не могу.
— Поймите: вы срываете крупную операцию. Здесь будет сам Кудрат-бий. Мы завлекли его в ловушку...
— Не могу. Если я уеду, она умрет.
В голосе Кошубы зазвучала мольба:
— Но они вас растерзают...
— Я остаюсь,— равнодушно проговорил Николай Николаевич и повернулся к двери.
296
Кошуба схватил его за руку повыше локтя. Доктор, гневно сказал:
— Уберите руки! Вы внесете инфекцию.
Он исчез в темном провале двери. Перед Кошубой вырос вестовой:
— На дороге басмачи...
Будто в подтверждение его слов, где-то близко раздались выстрелы. Женщины, стоявшие у ворот, в страха разбежались.
— Скачи,— сказал быстро Кошуба.— Скажи нашим, чтобы немедленно выбирались из кишлака.
Затем он обратился к почтенным бородачам, сидевшим в углу двора на паласе и бесстрастно глядевшим на происходящее.
— Старейшины, может моя душа быть спокойна за русского табиба?
Плотный, невысокий старик, с мрачно горевшими глазами, угрюмо сказал:
— Туварищ, где и когда ты слышал о неблагодарности жителей гор? Даже слово такое нам неизвестно. Русский табиб ради доброго дела забыл о своей жизни. Тот, кто сделал добро бедному таджику, становится его единоутробным братом. Поезжай спокойно, командир, и займись своими важными делами на пользу народа...
— О-омин! — сказали другие старейшины и провели руками по бородам.
Через минуту отряд Кошубы скакал по головоломным кручам, как будто за ним гнались тысячи горных джинов.
А Николай Николаевич остался.
Кошубе казалось, что он совершил подлость, оставив самоотверженного врача на верную гибель. И даже большой успех операции не радовал Кошубу. Басмачам пришлось туго. Уверенные в том, что сам легендарный комбриг попал в их лапы, они кинулись, очертя голову, в расставленную им ловушку и спустя несколько дней были истреблены почти поголовно. К сожалению, в шайке на этот раз не было самого Кудрат-бия. Он уехал на богомолье.
IX
Когда отряд Санджара выехал на большую дорогу, навстречу стали попадаться толпы разряженных людей. Полосатые, ярко красные, зеленые, голубые халаты,
297
пестрые поясные платки, белые, пунцовые, синие с блестками чалмы,— у одних маленькие, у других огромные, с добрую папаху,— все, что одевалось только в дни особых праздников, было извлечено из обитых цветной медью сундуков.
С удивлением Санджар и его воины смотрели на оживление, царившее на подступах к городу Каратагу. За годы жестокой басмаческой войны глаз отвык от нежных красок шелков и бархата. Суровые дни одевали людей в темные тона; дехкане, боясь грабителей, скрывали свои достатки.
Пыля, скакали от толпы к толпе расторопные гонцы. Бежали люди с кетменями, равняли дорогу, поливали водой...
Бойцы Санджара сидели на изнуренных горными тропами и злыми перевалами конях.
Сегодня утром у селения Казакбаши произошла короткая, но жестокая стычка с бандой помощника Кудрат-бия — Садыка безглазого.
Посеревшие от пыли лица бойцов были безразличны, тяжелые веки смыкались от усталости.
Старый Мадали, раненый у Казакбаши, стонал, покачиваясь в седле, и пытался сорвать заскорузлую, почерневшую повязку со лба. Поддерживая с двух сторон, везли верхом испытанного воина Салиха-Наби, бойца из кермининского коммунистического отряда. Удар сабли рассек ему плечо. Раненый бредил прохладными садами своей родины, сочными сахарными дынями и голубизной далеких гор. Временами отрывистые фразы вырывались из его груди, мешаясь с тяжелым хрипом:
— Воды... воды... Прозрачная, ледяная... Дай мне своими белыми ручками пиалу... Браслеты, серебряные браслеты... напои меня своими губами...
Два молодых конника, поддерживавшие раненого, отворачивались, пряча слезы, оставлявшие грязные дорожки на загорелых щеках.
У других бойцов головы были повязаны окровавленными тряпками. Вели на поводу коней без всадников. Жаркую схватку пришлось выдержать отряду Санджара. Головорезы Садыка безглазого дорого продали жизнь.
Медленно шевеля ссохшимися, обветренными губами, Санджар спросил спешившего куда-то встречного человека.
298
— Что за праздник сегодня?
Сумрачное лицо дехканина противоречило его праздничному наряду. Он с недоверием оглядел Санджара, его кожаную порыжевшую куртку, перекрещивающиеся на груди пулеметные ленты с патронами.
— Неужели не знаешь, зачем нас пригнали сюда? Великий назир едет. Великий назир.
Санджар переспросил.
— Великий назир? Какой назир?
— Едет, едет. Приказал надеть шелк и бархат. Ха, шелк и бархат!
Он отвернулся и зашагал прочь.
У селения толпы дехкан стали гуще. Народ стоял вдоль дороги, многие сидели на обочинах. Лица у всех были усталые, злые. Но санджаровский отряд встречали приветствиями, добрыми пожеланиями. Мальчишки бежали вприпрыжку, восхищаясь винтовками, серебряными ножнами сабель, боевыми конями.
Под большими вязами в двух шагах от старенькой покосившейся мечети, из скалы вырывалась прозрачная струя ключевой воды. Лошади, фыркая и храпя, кинулись к желобу. Произошло замешательство. Спешившиеся бойцы зачерпывали воду тюбетейками и с наслаждением тянули ледяную влагу. Раненым смачивали горячие, набухшие кровью повязки. Из калитки мечети вышел слепой старец в белой чалме, с длинным посохом. Протянув руки, он пошел навстречу бойцам, громко говоря:
— Здравствуй, храбрый богатырь Санджар-справедливый! Много лет жизни тебе, защитник сирот и вдов.
Он обнял Санджара.
— Зайдите к нам! Здесь ожидает вас тень и уют, облегчение от забот... Ахмед, Закир, несите пиалы, напоите воинов.
Слепец распоряжался быстро и умело. Принесли хлеб. Сбежались дехкане, дорогу запрудили любопытные.
Внезапно за поворотом послышались резкие крики.
— Берегись! Пошел! Пошел!
Звуки ударов, брань, проклятия повисли в воздухе.
— Дорогу, дорогу, очистить дорогу! Где старшины?— вопили охрипшие голоса.— Дорогу! А, чтоб вас!
Люди, собравшиеся у источника, шарахнулись в стороны и вытянулись рядами вдоль дороги.
299
Всадники в новенькой полувоенной одежде, на прекрасных откормленных конях, размахивая длинными плетьми, ворвались на площадку, где расположились воины Санджара.
— Дорогу! Дорогу! Очистите дорогу!
Всадники вертелись на месте, подымая на дыбы коней, и напирали на отдыхающих бойцов.
Из селения навстречу глашатаям торопливо шли баи в великолепных халатах, перепоясанных широкими бархатными с серебром поясами, с саблями в разукрашенных ножнах. Они подгоняли дехкан, расстилавших прямо в пыль ковры, красные локайские кошмы и шелковые блестящие сюзане, развертывавших целые штуки шелка, ситца, тика. За взрослыми бежали девочки, разбрасывая по устланной коврами дороге полевые цветы. Все спешили. Распоряжался встречей роскошно одетый, могучего телосложения пожилой бай.
Увидев Санджара, он бессмысленными глазами уставился на него и тупо закричал:
— Кто таков? Отойди!
И побежал вперед. Он проявлял, несмотря на свой огромный вес, такую прыть и исчез так быстро, что Санджар, уже побледневший от душившей его злобы, не успел даже раскрыть рта.
Глашатаи с криками и ругательствами проскакали мимо, в кишлак.
На смену им появилась пышная группа всадников. Они были одеты в отличные суконные синие и зеленые казакины, в белые индийские чалмы. У всех за плечами на новеньких желтых ремнях висели карабины. Сбруя на лошадях сверкала серебром. Впереди, важно подбоченившись, ехал на танцующем жеребце седоватый рыжий сотник. Голову его венчала огромная чалма. Оружие и амуниция блестели особенно ярко, шерсть вороного коня лоснилась.
Увидев воинов Санджара, сотник завопил:
— Кто такие? В чем дело? Где начальник?
Неторопливо цедя слова сквозь зубы, Санджар спросил:
— А ты кто такой, фазаний петух? Ты чего орешь?
Но рыжего было трудно смутить.
— Почему обмундирование в грязи, где парадные одежды?
300
Стараясь перекричать его, Санджар заорал:
— Мы из боя, только вышли из боя.
— Что мне за дело? Тогда сойдите с дороги в сторону.
— Да убирайся...
Послышался мягкий усталый голос:
— Что случилось?
Всадники раздвинулись и на площадку выехал великий назир, министр Бухарской республики.
Это был женственный, изящный юноша с красивым, совсем еще безбородым лицом. Он сидел в золотом седле, небрежно опираясь украшенной драгоценными перстнями рукой о колено. На голове его была шелковая чалма, вся осыпанная самоцветами. Плечи назира прикрывал халат изумительной расцветки: розовато-телесные цвета чередовались с золотистыми, переходящими в тончайшие сиреневые. Только у колибри можно найти такое сочетание красок.
Конь чистейших кровей нес этот букет одежд, благоухавший на десяток шагов ароматами изысканных духов.
Двое юношей вели коня под уздцы. За назиром, шелестя шелками, бряцая дорогой сбруей, плыла в облаке золотистой пыли многочисленная свита, столь же пышно одетая.
Великий назир столкнулся лицом к лицу с Санджаром, стоявшим на дороге. Взгляд командира был отнюдь не приветлив, и рука, в которой он держал плеть, резко подергивалась.
Вид Санджара, как и всех его бойцов, был так неуместен в этой пышной процессии, что назир растерянно натянул повод, и конь, кося белками глаз, фыркая и храпя, начал рыть землю копытом.
— Кто это?— слегка шепелявя, тревожно спросил, ища глазами кого-то в толпе приближенных, великий назир.
Тронув коня и приблизясь на несколько шагов, худощавый сотник почтительно промолвил:
— Что угодно, таксыр?
— Кто он? Вот этот?— и назир небрежно ткнул мастерски выточенной ручкой камчи в лицо Санджара.
— Кто он? Кто ты? — закричал сотник.— Отвечай великому назиру Бухарской Республики... Ну!
301
Санджар мрачно шагнул вперед. Губы его перекосились от бешенства, мелкая дрожь пронизывала тело. Говорить он не мог; туман застилал сознание.
Что только не передумал он в этот момент?.. Измученные израненные бойцы, умирающие товарищи, а тут же рядом эта парадная роскошь, этот блеск двора восточного князька. Неужели это народный избранник? Эта кукла, нарядившаяся в байские одежды? Кто выдумал это подражание торжественным выездам средневековых восточных тиранов?
Но пока Санджар соображал, как порезче и пояснее высказать свою мысль, высокий черный человек с великолепной бородой скороговоркой пробормотал, опасливо поглядывая на Санджара:
— О, это наши мужественные добровольцы... Кажется, командир их, Санджар-бек из Вабкента. Участвовали, по-видимому, в бою.
— А, хорошо, хорошо.— Назир, успокоенный, благосклонно эакивал головой. — Вы сражались сегодня? Благодарю, славные воины, благодарю от имени республики.
Он пристально взглянул на Санджара. Взоры их скрестились. И тут Санджар с удивлением обнаружил, что изящный юноша имеет свинцовый, неприязненный взгляд, полный глубокой затаенной злобы. Губы юноши улыбались, а взгляд пронизывал, уничтожал...
Впоследствии Санджару вспомнился этот взгляд, и только тогда ему все стало ясно, тогда только он понял, какую подлую роль играл великий назир в те дни, и посмеялся над своей простотой и наивностью.
Блудливо опустились тяжелые веки, обрамленные девичьими ресницами. Великий назир, отвернувшись, протянул:
— Товарищ военный назир, примите командира, ну, сегодня вечерком и доложите мне... Если отличились, наградим.
Он протянул руку. Но так как этот жест был похож на приглашение вельможи приложиться к руке, Санджар не двинулся с места. Снова глаза их встретились. Великий назир запоминал. Санджар пытливо знакомился.
Досадливо морщась, назир сказал, тихо, но так, чтоб слышал и Санджар:
— Почему они такие оборванные? Встречают... э... не в параде.
302
У этого источника, у этой старой замшелой мечети Санджар получил серьезный урок политической мудрости. Оказалось, что даже великие военные подвиги, беззаветное мужество, самопожертвование, пролитая за свободу народа горячая кровь могут быть не замечены. Можно, оказывается, видеть тяжелые кровавые раны, свежие рубцы, изможденные, опаленные порохом лица, несмываемые следы скитаний по горам и пустыням и намеренно равнодушно пройти мимо всего этого. Такое отношение к людям, жертвующим жизнью ради великого дела, может быть порождено только смертельной враждой. Но почему же великий назир мог питать к Санджару и его бойцам ненависть?
Немало времени понадобилось, прежде чем подлый путь предательства интересов трудящихся привел назира к логическому жалкому концу.
То, что Санджар увидел дальше, повергло его в еще большее удивление.
Пышная кавалькада не проехала и несколько шагов, как навстречу великому назиру из кишлака вышла делегация почетных старейшин — аксакалов. Все это были глубокие старики. Опираясь на суковатые палки, по-стариковски семеня ногами, они несли подарки и возглашали приветствия могущественному. Они рысцой подбегали к назиру и целовали, униженно и подобострастно, кончик его сапога.
И Санджар увидел, что великий назир не только не попытался прекратить эту безобразную сцену, а напротив, поудобнее вытянув ногу для поцелуев, самодовольно поглядывал на окружающих. Столь же благосклонно он выслушал напыщенную речь старосты кишлака и принял дары.
Сам он не нашел нужным ничего сказать. Слабым жестом он поманил кого-то к себе из обступившей его свиты.
Санджар не поверил своим глазам: то был Гияс-ходжа.
На белом коне, в белоснежном одеянии мутавалли выехал вперед. Речь его была похожа на проповедь с минбара в мечети, хотя у Гияс-ходжи хватило такта на приводить ни одной цитаты из корана.
Кавалькада тронулась вперед и потонула в облака пыли.
303
Снова появился рыжий сотник. Он с яростью накинулся на старейшин, на дехкан:
— Плохо встретили, возмутительно встретили! Их высочество обиделось на вас за то, что пришлось вдыхать пыль. Эй вы, шакалы, собирайте ковры, сюзане! Марш бегом вперед, грузите на арбы... Нам еще сколько встреч надо устраивать.
Сотник хлестнул лошадь и ускакал.
К Санджару подошел пожилой дехканин.
— Сынок, я не понял, что говорил мулла в белом. Не скажешь ли ты? Когда нам, батракам и беднякам, великий назир даст землю? Земли бы нам...
Вопрос не застал Санджара врасплох. Вопрос о земле он слышал повсюду: и в каменистой долине Сурхана, и в горных ущельях Гиссара, и на холмах Локайского Бабатага, и в Миршадинской степи... Всюду дехкане спрашивали, затаив дыхание, когда же наступит долгожданный счастливый день, когда начнут раздавать байские земли.
— Землю,— сказал Санджар,— вы получите и очень скоро. Только...— Он хотел сказать: «Только вряд ли вы получите ее от великого назира», но сдержался и проговорил:— Советская власть, большевики дадут вам землю.
Громко прозвучала команда:
— Становись! По коням!
X
Дверь скрипнула, и в михманхану вошел Николай Николаевич. Пробормотав «Здравствуйте!», он поискал глазами на стене колышек и повесил на него свою фуражку. Потом, не торопясь, прошел через комнату, сел поудобнее и, ни слова не говоря, принялся за ужин...
Только тогда Курбан обрел дар слова. Странно выпучив глаза, он спросил, заикаясь:
— Это... вы?
Николай Николаевич, не переставая жевать, пробормотал:
— Д-да... Это я, кажется.
Этот глупый диалог привел в себя присутствовавших. С криками «ура» все бросились поздравлять Николая Николаевича со счастливым возвращением.
— Как ты спасся?
— Кто тебе помог?
304
— Где вы прятались?
Не обращая внимания на расспросы, Николай Николаевич продолжал, не спеша, насыщаться. Только утолив голод, он рассказал о своих приключениях.
Все произошло совсем иначе, чем представлялось напуганному воображению друзей Николая Николаевича.
Ворвавшись в кишлак, басмачи бросились искать красноармейцев и большевиков. Узнав, что отряд ушел вверх по ущелью, основная масса головорезов поскакала вдогонку. Оставшиеся — больные, усталые и вообще нерадивые — больше думали об еде, чем о врагах.
Как рассказали потом Николаю Николаевичу, несколько басмачей, привлеченных толпой женщин и стариков, явилось во двор Наджметдина. На вопрос — что здесь происходит, старейшины заявили: «Приезжий знахарь выгоняет из тела больной злых дивов».
Возможно, что отсутствие самого Кудрат-бия, вневапно подвергшегося приступу благочестия, притупило внимание басмаческих нукеров и сделало их менее бдительными. Иначе чем объяснить, что никто не обратил внимания на позабытую посередине двора лошадь врача. Так она и стояла до вечера у всех на виду.
По окончании операции Наджметдин, ни слова не говоря, отвел Николая Николаевича на женскую половину и посадил за обильный дастархан.
Однако, прежде чем начать есть, доктор выглянул в окно и ужаснулся. Два вооруженных человека сидели около ворот на глиняном возвышении и усердно пили чай.
В десяти шагах от них стоял конь Николая Николаевича, и казенного образца кавалерийская сбруя лоснилась и поблескивала при свате большого смоляного факела, горевшего в глубине двора...
— Отойдите от окна,— вполголоса сказал сидевший с другой стороны дастархана Наджметдин,— может получиться нехорошо.
Как во сне Николай Николаевич ужинал, как во сне отвечал на вопросы. Такое состояние бывает у человека, на которого надвинулась неотвратимая беда, и он чувствует свою беспомощность...
Дребезжащий голос хозяина вывел доктора из раздумья.
— А? Что? — спросил Николай Николаевич.
305
— Скоро все будут спать. Мой племянник выведет тебя из кишлака и покажет дорогу через Зеленый перевал. Он пойдет с тобой...
Николай Николаевич угрюмо спросил:
— Хочешь ты, чтобы твоя жена жила?
— Бог мой! Она красивая женщина... Но разве ты еще...
— Мне отсюда нельзя уезжать, иначе она умрет.
— Бог мой! Жаль такую красивую женщину. Но завтра сюда ждут самого парваначи.
— Ну и что же? Вы меня спрячете... Я не уеду.
Лицо у Наджметдина совсем искривилось. Глубокой ночью доктора разбудил лай собак и громкий стук. Назойливо стучали в ворота; несколько человек кричали разом:
«Эй, Наджметдин, отдай нам проклятого русского».
— Выдали,— мелькнуло в голове Николая Николаевича, и он поспешно начал шарить под подушкой, отыскивая свой старенький револьвер, о котором, кстати, все в экспедиции говорили, что он страшен только для того, кто из него стреляет.
Затем послышался голос хозяина; он пререкался с басмачами.
В конце концов завизжали ржавые петли ворот.
Сердце Николая Николаевича сжалось.
— Это его лошадь,— закричал кто-то срывающимся дискантом.— Где он? Показывай?
— Ты, молокосос, утри губы,— скрипел Наджметдин,— уезжай, с чем приехал. Нет у меня никакого уруса.
— А лошадь?
— Лошадь бросили красноармейцы, забыли...
— Нет, он у тебя!
— Ну, ищите.
Голоса зазвучали у самых окон.
— Слушай,— хрипел хозяин,— если ты мусульманин, разве ты поступишь так?
— Как так?
— Разве ты переступишь порог стыда моего дома и осмелишься зайти на женскую половину!
— А, здесь женская половина?
— Да, и в этой комнате лежит больная. Шаги и голоса начали удаляться. Все стихло.
306
Прибежал Наджметдин и зашептал:
— Сам рыжий ясаул приходил. Требовал: «Покажи русского табиба». Кто-то ему сказал, выдал. Ох-ох, что будем делать? Уезжать тебе надо...
Голос его звучал неуверенно, и Николай Николаевич с тоской подумал, что приключение, кажется, кончается неблагополучно.
Внезапно за дверью комнаты раздался женский голос:
— Эх ты, собака! И ты еще смеешь называть себя горцем!
Хозяин стремительно обернулся. При слабом огне светильника можно было видеть, что глаза его округлились от испуга.
— Только такой вор, как ты, может осмелиться выпроваживать гостя из дому,— продолжал тот же голос. В комнату с трудом передвигая ноги вошла старушка. Космы седых волос падали на лицо из-под белого платка.
— Смотри, — угрожающе протянула она в сторону Наджметдина,— смотри, чтоб я не слышала таких слов от тебя, не то я сама наплюю в бороду и тебе и твоему рыжему ясаулу. Подожди, я доберусь до тебя, трус ты и бездельник. И кто только наворожил тебе... Разве ты достоин такой красавицы, ты — старый, шелудивый, глупый.
Бормоча извинения, Наджметдин, пятясь, выскользнул из комнаты.
— Сынок,— сказала старуха,— ложись и спи спокойно, и не обращай внимания на этого запаршивевшего человека. Хоть он и мой сын, но я прямо скажу: короста разъедает не только его лицо, короста гложет и его душу.
Утром выяснилось, что рыжий ясаул увел лошадь Николая Николаевича.
На третий день совершенно неожиданно во двор въехало несколько вооруженных всадников. Николай Николаевич не успел скрыться на женской половине. Он сидел на возвышении и играл в шахматы со старейшиной селения Муэтдином-бобо и так увлекся партией, что не услышал топота копыт. Правда, на докторе был ватный халат, а на голове дехканская тюбетейка, но белесые брови, розовое лицо, усеянное веснушками, и
307
светлосерые глаза исключали всякую возможность быть принятым за узбека или таджика. Да к тому же первый из спешившихся всадников оказался Ниязбеком — тенгихарамским помещиком. Он тоже сразу узнал доктора, но и виду не подал. Поздоровавшись и приняв из трясущихся рук Наджметдина пиалу с чаем, он подсел к шахматистам и стал безмолвно наблюдать игру.
Тем временем Николай Николаевич мучительно строил предположения, как будет вести себя этот «друг советской власти». Среди членов экспедиции ходили слухи о подозрительном поведении Ниязбека, но никто толком не мог сказать, в чем его обвиняют. И вот он среди басмачей...
«Ну, теперь, кажется, и законы гостеприимства мне не помогут»,— думал Николай Николаевич.
Он взглянул на Наджметдина. У того был испуганный, жалкий вид. Напротив, Муэтдин-бобо был все так же невозмутим и спокоен.
— Однако вы не только отличный врач, но и хороший шахматист,— прервал молчание Ниязбек.— Ого, папаша, этот петербургский домулла сейчас вам устроит шах и мат.
— Не мешай играть, сын мой,— прервал его старик,
— Да, игра у вас очень сложная, а особенно у доктора.
— Чем сложнее игра, тем интереснее,— отпарировал Муэтдин-бобо.
— Но в сложной игре легко запутаться, а путаная игра грозит гибелью.
Хотя Николай Николаевич не очень хорошо знал язык, он все же рискнул вмешаться в разговор. С трудом подбирая слова, он заговорил:
— Некоторые мои друзья... бывшие друзья, не побоявшиеся опасностей, играют очень сложно. Слишком сложно.
Муэтдин-бобо подхватил:
— Если человек попал в сложную игру из-за хорошего своего поступка, то ему бог поможет. А вот затеявший сложную игру ради своей выгоды, действительно, кончит плохо.
— Слушайте,— красивое лицо Ниязбека исказилось злой гримасой,— разговор разговором, но... знаете вы, русский: достаточно мне мигнуть глазом, и...
308
— Сын мой, ты не мигнешь,— все так же спокойно проговорил Муэтдин-бобо.
— Если найду нужным...
— Нет. Ты узбек, а узбеки, как и мы, горцы, чтут своего гостя больше, чем родного отца. Или ты не узбек?
Несколько минут молчание никем не прерывалось. Снова заговорил Ниязбек, но уже спокойно, обращаясь к Наджметдину:
— Как здоровье нашей дочери?
— Ее болезнь — причина пребывания здесь русского доктора.
— Как так?
Тогда Наджметдин рассказал об операции. Ниязбек встревожился.
Он расспросил о подробностях и закончил совершенно неожиданно.
— Клянусь, если с ней что-нибудь случится... Муки грешников в аду ничто в сравнении с тем, что испытаете вы.
— Уходи,— вдруг рассвирепел Муэтдин-бобо,— уходи отсюда!
— Зачем вы грозите?— стараясь сохранить спокойствие, заговорил Николай Николаевич.— Я лечу эту женщину потому, что она больна, а вовсе не потому, что боюсь чьих-нибудь угроз. Разве я остался здесь по чьему-либо приказу или принуждению?
Вечером Ниязбек в самых искренних выражениях благодарил Николая Николаевича.
— Оставайтесь у нас,— говорил он,— вы будете богаты и уважаемы. Что вам, ученому, дадут большевики? Они сами нищи, бездомны. Вам не надо даже принимать веру Мухаммеда. Ваше дивное искусство есть уже печать божьего благословения.
Отказ Николая Николаевича искренно удивил Ниязбека. Он долго еще уговаривал доктора и в конце концов не утерпел:
— Как вы можете не соглашаться? Все равно вам отсюда не выбраться. На всех дорогах наши нукеры. Будь у вас даже сорок четыре жизни, и то, если двинетесь отсюда, не сумеете сохранить ни одной.
Николай Николаевич остался еще на сутки, чтобы окончательно увериться в результатах операции. Весь
309
день он с гнетущей тревогой прислушивался к малейшему шуму в кишлаке. Вечером приходил Муэтдин и, ругаясь и плюясь, сообщил, что у ворот дома поставлен караул и что русский табиб никуда не имеет права выходить...
И тем не менее Николай Николаевич ночью уехал из кишлака.
В полной тишине лошадь вели под уздцы два молодых парня. Подъем в гору длился бесконечно, угрожающе шуршали камешки.
Рассвет застал доктора и его спутников в диких горных дебрях, среди арчевого леса. Столетние деревья достигали нескольких обхватов в толщину. В воздухе пахло смолой.
Весь день путники брели по скалам и только ночью заметили огонек.
Окрик «Стой! Кто идет?» прозвучал в ушах доктора райской музыкой.
Когда Николай Николаевич окончил рассказ, кто-то задумчиво произнес:
— Это вот подлинно славное дело! Остаться в пасти зверя, чтобы выполнить долг врача...
Николай Николаевич поспешно перебил:
— Извините, так должен был сделать каждый. А вот поругать меня некому — ведь операцию такую я делал первый раз в жизни, да еще в ужасной антисанитарии.
XI
Въезд отряда Санджара в город Каратаг, после торжественного прибытия великого назира, прошел незамеченным. Город был полон базарного шума и бурного оживления. По улочкам и закоулкам сновало множество пестро одетого народа; бесчисленные ослы, лошади, верблюды поднимали тучи пыли. Купцы ласково зазывали покупателей в свои коробочки-лавки, продавцы вареного гороха и лепешек неистово вопили, разносчики каратагской воды нараспев восхваляли ее чистоту, льдистую свежесть, владельцы харчевен нарочито гремели посудой, бродячие монахи устраивали на перекрестках целые молитвенные концерты... Врезаясь в толпу, расталкивая людей, вызывая брань и крики, проезжали на прекрасных
310
гиссарских конях загорелые, широкоплечие горцы в полосатых шелковых халатах, расцветкой своей затмевающих краски радуги.
В этой сумятице никто не обратил внимания на усталых, запыленных всадников Санджара.
Горный ветер рвался по тесной долине, свистел в ушах. Бурные стремительные воды реки мчались среди гранитных стен. Под обрывами бились и пенились водовороты: огромные валуны, поблескивая черным лаком, рвались навстречу воде, разрывая на части стремнину.
На помостах над самой водой сидели сотни каратагцев и наслаждались прохладой.
И тут, в Каратаге, Санджар убедился, что след потерян, что денауский хаким сумел перехитрить преследователей.
Никак не мог примириться Санджар с мыслью о неудаче. Он стремился в шумный, людный Каратаг, он безжалостно гнал коня — до хрипа, до пенистого пота, он не жалел своих спутников, друзей. Он шел по следу. И там, где все пути сходились, где все нити, по-видимому, связывались в один узел,— там все оборвалось в круговороте восточного базара, в лабиринте тесных улиц.
Бойцы уехали на ночлег в гарнизонные казармы. Курбан повел Санджара закоулками через весь город.
— Поедем ночевать в пригород. Там есть один караван-сарай. Мне говорили про него по дороге...
Как всегда, в конце пути усталость свинцовой тяжестью придавила плечи. Навалилась она и на лошадей. Они еле брели, спотыкаясь и испуганно храпя при виде каждой темной фигуры, безмолвно скользившей вдоль стен. Курбан привел своих друзей к лачуге, служившей одновременно и чайханой, и караван-сараем, и гостиницей, и игорным домом, и опиекурильней...
Он долго и нудно объяснялся с хозяином, затем громко проговорил:
— Слезайте, приехали...
Бормоча приветствия, подошел хозяин.
— Вот упрямый человек,— сказал Курбан,— очень упрямый. Но ничего, корм для лошадей есть. Чай есть. Только вот кушать ничего нет. Поздно, говорит. В эту грязную полуразвалившуюся конуру никто, кроме погонщиков ослов и бабатагских угольщиков, оче-
311
видно, не заглядывал. В чайхане было мрачно, неуютно. Заскорузлые паласы, засаленные одеяла сулили не очень приятную ночь. Философически пожав плечами, Медведь принялся устраиваться на ночлег. Больше всех злился Джалалов.
— Ложиться на голодный желудок? Чтобы я, Джалалов, допустил нарушение всех законов гостеприимства? Нет!
И он решительными шагами направился в темную каморку, откуда доносилось кряхтение и покашливание. Курбан стоял около двери и прислушивался к разговору. Он покачивал головой в такт грозным раскатам мужественного баритона Джалалова и хриплым причитаниям хозяина.
Вскоре Курбан вернулся:
— Ничего не будет... Это какой-то басмаческий выродок.
Он постоял посредине чайханы и вдруг начал нюхать воздух. Огонек масляной коптилки освещал его приземистую, маленькую, но очень плотную фигуру, его небольшую бородку и карие, поблескивающие хитрецой глаза. От напряженной работы мысли морщины круглыми валиками взбегали вверх по лбу, и от этого движения черная видавшая виды тюбетейка сдвигалась все дальше и дальше на бритый затылок.
Вдруг, Курбан громко проговорил: «Я сейчас», и выскочил из чайханы.
Джалалов вернулся от хозяина совсем помрачневший.
— Или он дурак, или у него действительно ничего нет, или он сам басмач и не хочет нам услужить... Вообще, мы попали в неладное дело. Уедем-ка отсюда.
— Ну! ну! Куда в такую темень!— проворчал Санджар.— Лучше всего спать.
Попили мутного, пахнущего болотом чая. И откуда здесь быть болотной воде? Кругом горы, на каждом шагу родники, с улицы доносится гул горного потока.
Когда все улеглись, послышался шум шагов. Кряхтя и сгибаясь под тяжестью какого-то большого предмета, в дверь ввалился Курбан. Он запыхался, лоб его лоснился от пота, но лицо было освещено торжествующей улыбкой.
312
— Хозяин!— заорал он. — Блюдо побольше!
В нос ударил запах жареного мяса, лука, еще чего-то очень вкусного.
— Прошу, пожалуйста!— рассыпался в любезностях Курбан.— Плов, которому позавидует сам халиф правоверных. Сюда, сюда! Эх! и тарелочка у вас, хозяин. Получше нет? Ну, давайте. Осторожнее. Так, так. Бисмилля и рахман... И представьте, рис поспел в самый раз.
Присевший тут же хозяин исправно отправлял в рот горсть риса за горстью, но на его лице была столь откровенно написана растерянность, что Курбан, хлопнув его по плечу, с притворным сочувствием сказал:
— Ну, конечно! Какой ты хозяин — это сразу видно по твоей лачуге. В Самарканде в ней не стали бы и паршивого козла держать, не то что людей принимать. Верно я говорю? А? Где уж вам, каратагским козлятникам! Да разве вы можете так быстро, да еще из воздуха и небесной сырости, сготовить такой плов, как мы! Да ты, мышиная ты голова, имея рис...
— У меня нет риса, нет даже одной рисинки,— запротестовал хозяин.— И это, я скажу, просто неприлично так поступать, как вы. Приехали ночью, кричите: «Дайте то, дайте это!»
— И масла у вас нет?
— Нет, я говорю.
— А мяса?
— Нет.
— Смотрите...
Курбан соскочил с помоста и выбежал во двор. Через минуту он вернулся держа в одной руке тыквенную бутыль с маслом и ляжку вяленого мяса, а в горсти другой руки — рис.
— Бить тебя надо,— мрачно заявил Курбан.
Плов, которым угостил друзей Курбан, долго вспоминался всеми участниками неожиданного пиршества.
В самый разгар ужина, когда Курбан, искоса поглядывая на хозяина, начал рассказывать о Насреддине-апанди, который один съел целый котел плова, за стеной караван-сарая послышался шум, голоса. Хозяин поднял вверх замасленную бороду и прислушался. Лоснящаяся рука с комком риса на ладони застыла на полдороге от блюда ко рту.
313
— Кушайте, кушайте,— добродушно заметил Курбан,— что это вы остановились? Так ведь и с голоду помереть можно.
Но хозяин все прислушивался; рот его искривился, глаза стали совсем круглые.
— Вай дод,— кричал женский голос,— ловите, ой, ловите... Ой, мой котел, ой, мой ужин...
Не вытирая рук, хозяин начал подниматься. Он переводил злобный взгляд с блюда плова на стену, из-за которой доносились брань, крики.
— Что с вами?— властно остановил хозяина Курбан. — Кушайте... Где ваши понятия о приличиях, а? Разве воспитанный человек убегает среди трапезы?
Хозяин все порывался встать, но Курбан держал его железной рукой.
— Кушайте, кушайте!
Однако аппетит у хозяина исчез. Лицо его, по мере того, как вопли и крики за стеной нарастали, все мрачнело.
Курбан принялся его уговаривать.
— Разве плов плохой? Какое мясо... Чистейшая баранина. И не вяленая, а свеженькая, так и тает во рту. А масло! Наверно, оно было прозрачно, как янтарь. А лук? Это был, я думаю, роскошный, величиной в дыню наманганский лук. А перчик жгучий! А пахучий тмин! А прозрачный, как слеза, рис! О, это был, несомненно, пенджикентский рис!
Вдруг он изменил тон:
— Вы знаете, уважаемый владелец караван-сарая, историю, случившуюся с Насреддином-апанди, когда он обиделся?
— Нет,— буркнул хозяин. Он все прислушивался к крикам и шуму в соседнем дворе.
— Апанди женился на дочери богатого купца. Был свадебный пир. В беготне и в заботах о знатных гостях все забыли о скромном Апанди и даже не принесли ему плова. Огорченный, разобиженный, Апанди вышел на улицу и, пригорюнившись, сел у калитки, на завалинке. Вдруг прибегают за ним: «Апанди! Иди скорее, невесту уже повели на брачное ложе. Тебя ждут, иди!» Апанди мрачно ответил: «Пусть идут те, кто плов кушал...»
Все весело смеялись. Не смеялся только хозяин. Когда блюдо было опорожнено, он забрал котел и ушел,
314
не говоря ни слова. Долго еще за стеной шумели и причитали.
От двери неслышно отделилась тень и придвинулась к Курбану. Прозвучал хрипловатый голос.
— Выйдем! Есть дело.
Даже не повернув головы в сторону расплывшегося в сумраке силуэта человека в чалме, Курбан спустил с помоста ноги, не торопясь поднялся и промолвил, как бы невзначай: «Ну, что ж, пошли!»
Шли по улице не больше десятка шагов. Было по-прежнему темно и безлюдно. Лишь одинокая женская фигура, укутанная, как кокон, в паранджу, крадучись, точно стараясь втиснуться в стену, проскользнула мимо.
— Вот,— прозвучал все тот же хрипловатый голос,— посмотри наверх. Туда... выше... видишь? Подыми же выше голову...
Высоко в небе горел огонек. Со звездой его нельзя было спутать — слишком велик он был, да и цвет его,— оранжевый, почти красный, был слишком земной. Только отведя глаза в сторону, можно было понять, в чем дело: на черном, круто падающем склоне горы, нависшей над сонным городом, горел костер.
— Видишь?
— Вижу. Костер.
— Там... на горе...
Серая фигура растворилась в безмолвии стен, сжавших глухой коридор улицы. Курбан сделал энергичный жест, словно пытаясь задержать незнакомца, но тот уже исчез, и где-то за углом затихли его шаркающие крадущиеся шаги. Да и кто знает, может быть, это шел кто-нибудь совсем другой.
В чайхане Курбан спросил хозяина, вновь забравшегося в свой закуток позади двух гигантских холодных самоваров:
— Кто живет на горе?
— Где, господин?
— На горе. Там сейчас горит костер.
— Костер? Это очень интересно. Кому это понадобилось в такой поздний час разжигать костры на горе? Пастух какой-нибудь.
— Значит, вы не знаете, кто это может быть?
— Нет. Старый папаша Мурад знает всех, кто и на горе и под горой.
315
— Кто этот папаша Мурад?
— Это ночной сторож.
— А где он сейчас?
— Ходит по улице и крутит свою трещотку. Курбан уходит и пропадает минут десять. Снаружи доносятся голоса. Курбан возвращается с маленьким человеком, одетым в жалкие отрепья. По раздраженному голосу Курбана и по тому, что он уже начал вспоминать тексты из корана и молитв, видно, что дело двигается плохо. Папаша Мурад не столько рассказывает, сколько расспрашивает сам. Его интересует решительно все: и зачем путешественникам надо знать, кто зажег на горе костер, и что они будут делать, если узнают, и не нанесут ли они вреда тому почтенному человеку, который, может быть, сейчас сидит в благочестивых размышлениях у огня того костра, а нет сомнения, что он благочестив, ибо что, как не благочестивые мысли, мешают ему спать? И кто они такие, и зачем они приехали в город, и откуда?
Глазки-щелки Мурада шарят по лицам, ищут, изучают. Нет, он вовсе не так дряхл, не так прост, как может показаться на первый взгляд.
— Так кто же наверху?
— Где, господин?
Приходится вооружиться терпением.
Вдруг папаша Мурад очень нелогично вспоминает:
— Когда не было войны, жизнь была очень спокойная.
— И люди были э... не такие.
— Какие же?
— Щедрые...
— А!
Послышался хрустящий шелест бумажек. Папаша Мурад глубокомысленно откашлялся.
— Тот костер, тот самый, что вы сейчас видели на горе... Там есть небольшой такой садик, совсем маленький садик, дачка. В этой даче господин проводит свой досуг летом. Отдыхает. Он очень любит в часы благочестивого раздумия, э... в часы раздумия, сидя у холодного ключевого источника, взирать с вершины горы на наш шумный город. Нет предела вашим щедротам, господин...
— Но как его зовут, этого владельца сада?
316
Старичок закашлялся.
— Возьмите, тут еще,— сердито сказал Курбан. Санджар сидел молча и не вмешивался в разговор. Папаша Мурад наклонился к уху Курбана и свистящим шопотом выговорил:
— Там живет Исмаил-бай!
— А кто такой Исмаил-бай?
— Тсс! Вы не знаете, кто такой Исмаил-бай? Да откуда же вы? Разве можно не знать Исмаил-бая? Его знают и Каратаг, и Дюшамбе, и Денау, и Гиссар.
— Ну, а мы не знаем. Кто же он? Тут речь перешла в едва слышный шепот.
— Он отец достопочтенного хакима денауского. Весь загоревшись, Санджар вскочил на ноги:
— Едем!..
Тогда папаша Мурад, смиренно склонив голову, проговорил:
— Тропинка очень крутая. Только хорошо знающий те места может найти дорогу.
— Седлайте лошадей. Да не забудьте расплатиться с хозяином за плов и остальное.
Улицы еще спят. На каждой плоской крыше сидит собака, провожающая злобным лаем отъезжающих. Лошади недовольно пофыркивают. А темная масса гигантской горы мрачно взирает красным глазом костра на группу всадников, упрямо пробирающихся среди скал вверх, к вершине.
Все говорило о том, что в саду и в доме есть люди: и запах дыма, прозрачным облачком стоявший над очагом, и блюдо с рисовой, еще горячей кашей, и небрежно разбросанные под урюковым деревом одеяла, и зеленые гиссарские калоши, стоявшие у порога.
И все же в саду на горе не оказалось никого. Только с крутого каменистого склона, тихо шурша, сыпались мелкие камешки.
Санджар смотрел вверх, на упирающиеся в утреннее розовое небо пологие стены ущелья.
— Ушли...
Он бегал по открытому дворику, сжимая в ярости кулаки и, отплевываясь, повторял:
— Ушли! Ушли!
317
Ничего удивительного не было в том, что денауский хитрец скрылся. Из садика, повисшего на огромной высоте над самым Каратагом, была отлично видна поднимавшаяся из города тропинка, окрестные вершины и ущелья.
Осмотрели каждый закоулок, каждую щель, каждый кустик.
Шелковые сюзане и одеяла, бархатистые кашгарские ковры, дорогая фарфоровая посуда, запас продуктов, сундуки с утварью и одеждой,— все свидетельствовало о зажиточности владельца сада. Прозрачный ручей струился среди деревьев и виноградных лоз, соловьи разливались волшебными трелями, порывы ветра приносили прохладу с высящегося на севере хребта.
Медведь расставил треногу и ловил в объектив великолепные пейзажи Каратагской долины.
— Что ж, отдохнем...
Санджар, расстегнув пояс, бросился на одеяло. Он закинул руки за голову и стал смотреть вверх, сквозь листву дерева, на горные вершины. И почти тотчас же он вскочил и с торжеством воскликнул:
— Вот они... Они от нас не уйдут. Санджар указал рукой на крошечные фигурки всадников, яркими пятнами вырисовывающиеся высоко на темном фоне скал.— Они не уйдут...
И хотя лошади так устали, что даже не прикоснулись к корму, Санджар увлек часть своего отряда в дальнейшее преследование.
И, конечно, кони сдали через несколько шагов. Они едва волочили ноги, спотыкались и не делали ни малейших усилий, чтобы удержаться на тонкой ниточке тропинки, шедшей зигзагами почти по отвесной скалистой стене. Пришлось тащить лошадей на поводу. Движение замедлилось.
Люди тоже вскоре выдохлись. Горький пот струился по лицу и едкими ручейками скатывался за воротник рубашки. Сердце отчаянно колотилось в груди и замирало, ноги стали как бы чужими. Сиплое дыхание с хрипом вырывалось из груди.
Когда, наконец, выбрались на гребень горы, внезапно открылась неглубокая лощина, окруженная корявыми, приземистыми деревьями шелковицы... Невысокий сивенький крестьянин жал серпом пшеницу. Пока участники
318
этого безрассудного похода, совершенно обессиленные, валялись на траве, командир вел разговор с землепашцем.
Сверху видны были могучие плечи Санджара, перекрещенные широкими ремнями, и его покачивающаяся голова в меховой шапке. Крестьянин все мотал головой и после каждого слова порывался вернуться к своему прерванному занятию.
Слов нельзя было разобрать, но видно было, что Санджар взволнован. Наконец он повернулся, безнадежно махнул рукой и тяжело зашагал по полю.
— Нет, он ничего не знает,— проговорил командир, грузно опускаясь на траву.— Говорит, никого не видел.— После небольшого раздумья он прибавил.— Как не видел? Они в двух шагах должны были проехать. Вот упрямый старик...
Здесь, высоко, зелень на склонах была особенно густая и свежая, струился прохладный ветерок, и серебристые волны пробегали по высокой траве. Город Каратаг спрятался где-то далеко за крутым плечом горы, а напротив, через ущелье, в сиреневой дымке виднелся, будто нарисованный тонкой кистью художника, небольшой кишлак, чудом висевший над пропастью. Казалось — стоит лишь протянуть руку, чтобы достать его игрушечные чинаровые сады, домики, мечети и минареты, хотя, по меньшей мере, верст десять до него по прямой линии. А чтобы попасть в него, нужно было потратить целый день: спуститься вниз на дно ущелья, пересечь Каратаг, переехать реку и подняться снова наверх, преодолев пару-другую трудных перевалов.
Мирное созерцание горных пейзажей было прервано раздраженным голосом Санджара.
— Ну, наши кони окончательно выдохлись. Слабая скотина оказалась. Жалко, Тулпар не со мной. Теперь...
Он не договорил. Но ясно было, что он хочет сказать: денауский хаким ускользнул.
Но никто не подозревал, что в тот самый момент, когда Санджар разговаривал с крестьянином, дичь и охотник поменялись местами.
Когда после небольшого отдыха всадники перебрались через лощину и поднялись на небольшой хребет с покатыми боками, перед их глазами открылась вереница плавно снижающихся на юг гор, похожих на застывшие
319
голубовато-зеленые морские волны. Далеко-далеко за широкой туманной долиной высилась другая гряда причудливых горных вершин, тонувших в золотых лучах солнца.
Внезапно Санджар громко выругался. В первый момент никто не понял, что встревожило командира. А он нервно кусал губы и показывал рукой вниз, вправо, влево.
Бойцы Санджара стояли на небольшой вершине. Ближайшие холмы вокруг были покрыты правильной сеткой темных бугорков. Они были разбросаны по лугам, как шашки на доске, и двигались со всех сторон к холму, на котором стоял Санджар со своими друзьями. Десятки пеших людей, ведя на поводу коней, шли к возвышенности. Стволы винтовок поблескивали искорками в голубом воздухе. Басмачи приближались не стреляя.
— Хотят взять живьем...— сказал кто-то.
Только сейчас Санджар понял, как опрометчиво он поступил, отправившись в глухие горные дебри с кучкой людей, не предупредив никого ни в гарнизоне, ни в своем отряде.
Все так же ласково дул горный прохладный ветерок. Все так же зеленели луга и в бездонной голубизне у самых снежных вершин парили орлы, пели жаворонки. Цветы тянули свои венчики к июльскому солнцу. А снизу неотвратимо надвигалась гибель.
Увлекшись погоней за хакимом, Санджар дал заманить себя в ловушку. Он упустил из виду, что у Кудрат-бия осталось еще немало приверженцев. В их числе был, видимо, и чайханщик из Каратага.
Еще раз Али-Мардан и Санджар встретились. И на этот раз Али-Мардан торжествовал. Горсточка всадников Санджара стояла лицом к лицу с крупной бандой. На тропинке, которая вела к саду Исмаил-бая, тоже показались басмачи. Путь к главному хребту преграждала узкая глубокая расщелина. Все выходы были закрыты.
Санджар стоял, широко расставив ноги и сжимая в руках винтовку. Глаза смотрели грустно. О чем думал этот человек, собираясь давать последний безнадежный бой?
О чем думали его друзья? Все в голове перепуталось. Только хвастун в такой момент говорит о храбрости.
Басмачи надвигались. Шли не торопясь. Они не считали нужным спешить, вполне уверенные в том, что
320
Санджару уйти некуда. Невдалеке из-за холма выехал на коне Кудрат-бий. Он с интересом разглядывал своего врага.
Медведь кашлянул. Лицо его, бледное, с капельками пота на лбу, было решительно.
— Санджар-ака, друг, мы дорого обойдемся им... Командир кивнул головой.
— Я прошу,— продолжал Медведь,— об одном. Дайте мне рекомендацию в партию.
Это было так неожиданно, что Санджар удивленно посмотрел на старика.
— Да,— сказал Медведь,— я давно уже думал об этом... о партии, и все как-то... не получалось. Я служащий, интеллигент, так сказать, но я... вижу, что только вы, большевики, можете мир переделать, по-настоящему переделать...— Он покосился на неуклонно двигающихся вверх по склону горы басмачей.— Я понимаю, сейчас писать некогда. Скажите только «да»... Мне будет легче тогда... больше сил...— Медведь отвернулся.
— Дай руку,— сдавленным голосом проговорил Санджар,— дай руку, отец.— Их руки соединились в крепком рукопожатии.— А теперь...— Санджар стащил через голову карабин и щелкнул затвором.
Лошадь Санджара вдруг испуганно всхрапнула. У самого стремени показалась голова сивенького крестьянина. Подслеповатыми глазками он разглядывал Санджара.
— Вы кто?— спросил он.— Вы — Санджар? Секунду Санджар колебался:
— Да, я Санджар.
Лицо крестьянина прояснилось.
— Санджар, друг народа, идем,— сказал крестьянин,— идем. Вы, я вижу, заблудились, а здесь есть дорога.
Схватив лошадь Санджара под уздцы, он потащил упиравшееся животное за собой.
— Скорее!
Басмачи заметили неладное. Рев нестройных голосов донесся снизу. Защелкали выстрелы.
— Идем, Санджар-друг,— бормотал крестьянин,— идем, друг... два шага отделяют тебя от смерти, не торопись умирать. Идем, друг, вот сюда, вот вниз, друг...
321
Все так же бессвязно бормоча что-то, он проворно начал спускаться в глубь разверзшегося под ногами узкого ущелья.
Некогда страшный подземный толчок расколол гору Каратаг. Гигантская трещина была так узка, что только в нескольких шагах можно было ее заметить. Казалось, ничего не стоило через нее перепрыгнуть. Но это впечатление было обманчиво. Ширина щели была не менее пяти-шести метров, а глубина такая, что шум мчавшегося по дну потока едва достигал слуха.
— Куда ты нас ведешь?— с тревогой спросил Санд-жар. Он заподозрил ловушку.
Не отвечая на вопрос, крестьянин заставил его спешиться.
— Оставьте лошадей, дальше они не пройдут.
Он схватился обеими руками за острый выступ скалы и, изогнувшись скользнул вниз. Немалую ловкость нужно было проявить, чтобы одним прыжком соскочить на широкий плоский камень, на котором лежали две толстые жерди, переброшенные над еще более сузившейся здесь трещиной. Переход по жердям был не менее труден, чем спуск. Еще мгновение — и все оказались в полной безопасности, скрытые от глаз преследователей нагроможденными в беспорядке гигантскими глыбами камня.
— Постойте, — растерянно проговорил Медведь, — а мои записи, мой аппарат?
И прежде, чем кто-нибудь смог ему помешать, он перебежал обратно по жердям и начал карабкаться по скале.
— Стой, куда?
Скалы закрывали тропинку, по которой поднимался Медведь, и площадку, где были брошены лошади. Но по возгласам можно было догадаться, что там уже находятся басмачи.
Одиноко грохнул выстрел.
— Пропал,— побледнев, проговорил Санджар.— Зачем он побежал туда?
— За своими научными материалами,— сказал Курбан. Голос его дрожал.— У Медведя они в хурджуне всегда лежали.
Ошеломленные, подавленные неожиданно обрушившимся несчастьем, все молчали.
Сивенький крестьянин сказал скороговоркой:
322
— Идите все прямо. А от черного камня сверните вниз,— и побежал назад.
— Тебя убьют,— крикнул Санджар,— вернись!
— Пусть найдут сначала...
Он ловко перебрался на другую сторону щели. То, что сделал он затем, было совершенно неожиданно. Крестьянин наклонился, с силой вырвал конец жерди из щели в камне и столкнул жердь в пропасть. То же он сделал и с другой жердью. И, не обернувшись, исчез.
Все произошло очень быстро. Никто не успел даже сообразить, чем можно помочь Медведю. Все прислушались. С площадки не доносилось ни звука. Далеко внизу шуршал поток. В узкую прорезь скал синело гиссарское небо.
— Пропал Медведь,— горько пробормотал кто-то.
Санджар отвернулся. Всю дорогу он не подымал головы.
Только когда внизу блеснула голубая лента реки, он остановился и, глядя на раскинувшийся у ног город, в раздумье произнес:
— Какой был человек...
ХШ
Но Санджар не был намерен склонять голову под ударами судьбы. В Денау ускакал гонец. Начальник местного гарнизона, состоявшего из нескольких десятков больных малярией красноармейцев, разослал в горы разведчиков узнать о движении басмачей и, если возможно, об участи Медведя. Было решено немедленно связаться по телефону с соседними комендатурами.
В покосившейся хижине коптил и мигал светильник. У ящика полевого телефона склонился человек с бледным лицом и синими тенями под глазами. Прерывающимся, слабым голосом человек взывал:
— Регар, Регар, Регар... да ну, Каратаг слушает, Регар, Регар, Регар...
Шумел за дверьми в густой темноте заброшенный сад, далеко-далеко грохотал бурный поток. В хижине сухо потрескивал фитиль светильника и дребезжал язычок телефонного звонка.
— Регар, Регар, да ну, проснись, Регар... Но Регар, молчал.
— Регар, давай связь, давай связь, Регар...
323
В трубке вдруг зашипело, затрещало. В мембране захрипел громкий голос.
— Миршаде, Миршаде, отвечай, Миршаде. Позовите комбрига, позо...
Телефонист всполошился.
— Да молчи, Дюшамбе, молчи, Дюшамбе, не перебивай... Давай Регар, давай Регар. Молчи, Дюшамбе, выручать человека надо, басмачи захватили человека. Регар, Регар.
В трубке сразу зашумели, закричали.
Заговорило Миршаде, отозвалось Денау, властно кричало Дюшамбе. Из Сары-Ассия взволнованно спрашивали... И все вместе ругали в один голос Регар, ругали заснувшего связиста.
— Регар, Регар...
Два года шла борьба с басмачами. Два года Дюшамбинский тракт, связывавший тоненькой непрочной нитью обширную страну, именовавшуюся тогда Восточней Бухарой, с железной дорогой, подвергался непрерывным и ожесточенным нападениям басмаческих банд, отрядов турецких и афганских наемников Энвера и Сулеймана-паши. Движение по дороге было возможно только большими группами, охраняемыми хорошо вооруженными кавалерийскими разъездами. И в то же время линии телефонной и телеграфной связи на всем протяжении дорог тянулись между гарнизонами в полной неприкосновенности. Ничего не стоило в любом месте оборвать проволоку, вырвать, сжечь столбы. Пока собралась бы с силами охрана, можно было уничтожить десятки километров связи. Но басмачи не трогали телефонную линию.
Пожилой командир, начальник каратагского гарнизона, посмеивался:
— Не верят в связь по проводам... Говорят, большевики — черти, но никакой черт не имеет такого горла, чтобы за сто верст кричать. А если могут так кричать, мы бы услышали... Поэтому не трогают. Ну, а мы не жалуемся. Вот Энвер был, тот портил. Ну, а местные, доморощенные вояки так и не верят.
Снова и снова связист бубнил в трубку:
— Ре-егар, Ре-егар! Ты сонная с... Ре...
— Что ругаешься? Регар слушает. Что надо?
— Проснулся! Регар заговорил.
324
— Передаю телефонограмму. Выступить сорок сабель по дороге Каратагу, точка. Выступить сорок сабель...
— Ну, теперь завертелось,— заметил телефонист.— Теперь занялся Кошуба вашим Медведем по всей линии...
Он наклонился над аппаратом.
Вышли в сад. Все молчали. Каждый перебирал в памяти события ушедшего дня, каждый упрекал себя, что не помог Медведю. Трудно было поверить, что басмачи пощадят его. Так и представлялся он лежащим в высокой траве,— истерзанный, изуродованный, но с иронической усмешкой в серых прокуренных усах.
В чайхане на ночном опустевшем базаре едва-едва теплился красноватый свет лампы. Одинокий человек сидел в углу и, шумно прихлебывая, пил чай.
Санджар всем своим массивным телом грохнулся на палас.
— Хотел бы знать, что с ним?
Никто не успел ответить... Темная фигура в углу шевельнулась, кашлянула, знакомый тихий голос прошелестел чуть слышно.
— Большевик связан по рукам и ногам, живой. Сидит в амбаре в селении Пугнион...
Резко повернувшись, Санджар схватил за руку говорившего и потянул его к светильнику. Это был тот самый сивенький крестьянин, который указал путь через расщелину и спас отряд от Кудрат-бия. Командир в глубоком волнении разглядывал невзрачного человечка.
Едва брезжил над горами свет, когда отряд вновь ушел в горы.
А днем в Каратаг въехала под скрип колес и рев верблюдов шумная, громоздкая экспедиция. Притихший после вчерашнего базара город вновь загудел, как растревоженный улей. Все чайханы, караван-сараи сразу стали тесны. Как мухи на мед, потянулись со всех сторон торгаши, подрядчики, водоносы, кузнецы, плотники. С утра до вечера в чайханах сидели местные имамы, учителя, купцы, жадно ловя новости.
XIV
«У потерянного ножа ручка золотая», говорят узбеки.
Зачем бросился назад по шаткому мостику Медведь, он и сам не отдавал себе отчета. Тетрадь с этнографи-
325
ческими материалами, хранившаяся в хурджуне, была только начата и не представляла особой ценности. Фотоаппарат, оставшийся на седле, был старый, расхлябанный. Как правило, съемку Медведь производил небольшим, более совершенным аппаратом «зеркалка», который он носил обычно с собой на ремне через плечо. Если бы старый аппарат попал в лапы басмачей, потеря была бы небольшая.
Просто жалко стало его, как доброго старого друга.
И вот Медведь лежал в темной клетушке, оплетенный веревками так, что не мог шевельнуть ни рукой ни ногой. Хотелось пить. Тело болело и саднило, и трудно было понять, что именно болит. Боль отвлекала от мрачных мыслей, хотя Медведь в нескончаемом предсмертном томлении понимал, что басмачи не просто убьют его, а нечеловеческими муками постараются сломить непокорный его дух, волю, сделать все, чтобы вырвать у него вопль боли, мольбу о пощаде... И тогда уже прикончат.
Прямой тонкий луч света с пляшущими в нем пылинками пересекал наискось сумрак и медленно передвигался, отсчитывая томительные часы плена. Упорно вертелась в голове мысль: «Как убьют? Долго убивать будут?»
Время шло. По расчетам Медведя, близился вечер. Заскрипела дверь. Стало светлее. Ухмыляющаяся рожа, круглая и лоснящаяся, просунулась в щель. Узенькие, прищуренные, но очень быстрые глазки с интересом разглядывали старика.
Вошедший вдруг заговорил:
— Бедный, бедный! Руки завязаны, ноги завязаны. Неудобно?
Медведь молчал.
— Рукам, ногам плохо, а? Ты чего молчишь? Захочу — веревки сниму.
— Ну, сними!
— Вон какой ты! Я сниму, а ты убежишь. Ай, хитрый старик! — он качал головой, чмокал.
— Уйди!
— Зачем уходить? Пить хочешь? Тут не вода — шербет, вкусная, сладкая. Хочешь водички, а? Холодной, ледяной.
— Хочу.
326
Это слово вырвалось само. Только теперь Медведь понял, что жажда душит его. Огонь палил язык и горло, иссушающим током разливался по телу.
Иссохшие губы Медведя беззвучно шевелились. Он обезумевшими глазами смотрел на радушно улыбавшегося басмача и не верил своим глазам: у него в руках была большая пиала, прикрытая тарелочкой.
Наклонившись вперед, басмач вдруг выкрикнул: «На, пей! На, ешь!» — и взмахнул пиалой.
Медведь с отвращением зажмурил глаза. Что-то жесткое, холодное и в то же время живое, шевелящееся, обсыпало лицо, шею. Дрожь прошла по всему телу от ощущения бегущих по коже лапок. Слышно было, как крупные насекомые с сухим треском падают на глиняный пол.
«Скорпионы!» — замирая от страха подумал Медведь. Ожидание боли укусов было так сильно, что с минуту он ощущал во многих местах на щеках, на груди жгучую, бешеную боль...
— Умираю,— хрипло простонал он.
Хохот привел Медведя в себя. С трудом он открыл глаза. Круглая физиономия басмача расплылась в злорадной улыбке.
— Ешь нашу землю,— зарычал он,— пей нашу воду! Подыхай! Скорпион укусил, будешь крутиться как в аду.
Но тут же он помрачнел, увидев, что перекошенное ужасом и страданием лицо пленника делается спокойным, складки на лбу разглаживаются.
Басмач подошел ближе и стал носком сапога подшвыривать разбегавшихся насекомых к голове Медведя. Но скорпионы, задрав хвосты, то кружились на одном месте, то стрелой мчались в темные углы, подальше от света. Ученый увидел, как последний скорпион, сделав отчаянную попытку взобраться на голенище сапога тюремщика, свалился на землю и стремглав убежал.
Басмач потоптался на месте, пошарил в углу щепкой. Тогда Медведь сказал уже не просительным тоном, а приказывая:
— Развяжи руки! Ну!
Случилось странное. Басмач послушно подошел, приподнял пленника и развязал туго затянутые веревки. Развязывал он медленно, нехотя, бормоча проклятия.
Веревки раздались, ослабели, стало легче дышать, но одеревеневшие члены никак не слушались.
327
— Ну, а теперь принеси воды...
— Что я тебе, слуга?— заворчал тюремщик.
— Принеси воды, говорю... Только не вздумай наливать в эту чашку. Найди чистую.
Силы медленно возвращались в тело Медведя.
Басмач растерянно посмотрел на старика и вышел.
Через минуту он вернулся с чашкой воды.
Вечером Медведя вывели во двор присутствовать при всенародном истреблении «Глаза Советов». Об этом Медведю рассказал тюремщик, оказавшийся довольно словоохотливым человеком.
— Что за «Глаз Советов»? — недоумевал Медведь. Только когда его вывели во двор, он понял, в чем дело.
Басмачи, освещенные пламенем нескольких факелов, полукругом толпились около груды хвороста и сухой травы, на которой, поблескивая металлическими частями, лежал желтый ящик. Медведь без труда признал в нем свой фотоаппарат.
Кривляясь и подпрыгивая, к костру подошел безносый басмач.
— Огонь поджаривает, ветер раздувает! — заорал он.
Басмач поджег солому и отбежал в сторону, любуясь сразу заполыхавшим пламенем.
— Горит, горит,— зашумела толпа.— Бросай в огонь русского! Давай его сюда! Пусть сгорит вместе со своей проклятой машинкой.
Десятки рук тянули Медведя к костру. Вопли стояли в воздухе.
Чей-то властный голос остановил разъяренных воинов ислама.
— Назад! Оставить его.
Басмачи расступились. Перед Медведем стоял сам Кудрат-бий. Он внимательно рассматривал старого ученого.
— Ты боишься? Ты испугался?
Медведь молча помотал головой.
— Да, все вы, большевики, исчадие ада, не боитесь, все вы наглецы, безбожники, хотите смотреть смерти в глаза. Ну, ты не посмотришь ей в глаза. Уж я об этом позабочусь...
И, обернувшись к басмачам, он сказал:
328
— Вот что... Вы хотите убить этого человека, как собаку. Он и есть собака, трижды собака, ибо он нарушил завет нашего всемогущего пророка. Помните что сказал пророк: «Да будет нечистым тот, кто создаст на бумаге или на дереве изображение живого существа. Тот уподобится идолопоклоннику, и его постигнет участь идолопоклонника».
— Смерть ему!— закричали басмачи.
— Да, он достоин смерти, потому что он этим своим ящиком переводил на бумагу лица правоверных, а всем нам известно, что правоверный, попавший на бумагу, в дни страшного суда восстанет из мертвых без лица. Ангелы не смогут признать его, даже если он вел самую благочестивую жизнь, и не впустят в райские сады, а низринут в бездонную пропасть ада, и человек лишится райских восторгов и объятий вечных девственниц — гурий. Как же можно допустить, чтобы по земле ходили такие люди, как этот старик?
— Убить его, сжечь его!
— Вот почему его, как трижды злодея, надо подвергнуть казни трижды, и первая из них будет казнь его глаз, которыми он содеял столько зла мусульманам, лишив их отрад рая. Отведите его! Завтра утром соберите всех воинов ислама. Пусть присутствуют при казни и насладятся зрелищем.
Медведя увели. Он отлично понял все, что говорил Кудрат-бий.
Жадно ловил Медведь малейшие проблески рассвета, зная, что видит их последний раз, что затем наступит вечная ночь.
Под утро усталость сморила его, и он задремал.
Очнулся Медведь от странного шороха. Прохладная струя воздуха освежала его лицо. Дверь была приоткрыта, тихие звезды мерцали в небе. Слышался шепот. Разговаривали двое.
Потом раздался голос:
— Эй, русский, есть хочешь?
Медведь молчал, мучительно соображая, что бы это означало.
Голос повторил:
— Русский! Ты живой? Не бойся.
Глаза Медведя немного освоились в темноте, и он разглядел, что в дверях стоит темная фигура и держит
329
в руках миску, чайник и еще что-то. Ноздри Медведя ощутили запах пищи.
— Вот возьми, тут принесли покушать.
Человек вошел в сарай. Луч света упал на его лицо, и ученый увидел, что это немолодой, бородатый горец.
По-видимому, он сменил дневного сторожа.
Басмач поставил посуду на пол и подошел к двери. Увидев, что Медведь принялся за еду, он сказал:
— Вот какой наш народ. Своего врага, кафира, как гостя, принимает. Еду одна женщина принесла. Пожалел тебя кто-то.
Угощение было на славу: тут был и плов, и жареная баранина с луком, пирожки, чай, сладости.
— Я не враг вашего народа, а друг,— сказал ученый.— Вот народ понимает это.
Басмач хмыкнул неопределенно и промолчал.
— А вот тебе стыдно. Сам, наверно, дехканин, а пошел к басмачам.
— Я не понимал,— нехотя проговорил страж,— а теперь понял. Раньше не понимал.
— Если понял, почему не бросишь Кудрат-бия?
— Нельзя. На руках моих есть кровь. Красные меня расстреляют.
— Не бойся! Простят.
Басмач странно всхлипнул:
— Мой бай тоже тут, при Кудрат-бие состоит. Он мне и еще другим сказал: «Уйдете от нас, все равно поймаем и на кол посадим, а ваших матерей, сестер, жен, невест отдадим воинам на три ночи, а затем живыми вниз головой закопаем на ваших глазах. Ваше семя до третьего поколения искореним».
— Скоро Кудрат-бию конец,— проговорил Медведь.— Отпусти меня, я за тебя попрошу.
— Не могу. Меня казнят страшной смертью. Детей жалко. Да и не уйдешь, кругом стража.
Но Медведь видел, что басмач колеблется. В душе проснулась надежда.
— Так ты хочешь лучше быть палачом и тюремщиком?
Басмач не успел ответить. Где-то невдалеке раздались винтовочные выстрелы. По двору, тяжело топая, пробежал человек, заржали лошади. Чей-то голос сыпал совершенно неслыханными ругательствами.
330
— Помоги! — крикнул Медведь.
Но басмач исчез.
Пересиливая боль в израненных пальцах, Медведь начал развязывать тугие узлы веревок, стягивавших ноги. Но веревки никак не поддавались.
Дверь распахнулась. Несколько человек ворвались в хлев и начали шарить в темноте. Зажмурив глаза, Медведь ждал удара.
Но нет, его подняли и понесли. В лицо пахнуло свежестью горного утра.
Медведь соображал. Его несут, значит, еще не конец. По крайней мере не сейчас.
Стрельба усилилась. Во дворе в отсветах зари метались темные фигуры.
Подтащив Медведя к пятившейся и храпевшей лошади, басмачи перебросили его через луку седла, больно врезавшуюся ему в спину. Голова свесилась, и старику казалось, что вот-вот спинной хребет его переломится.
Кто-то свирепо хлестнул лошадь камчой, и она во весь опор вынеслась на улицу. Впереди и сзади скакали, взволнованно перекликаясь, воины ислама. Медведь со злорадством отметил полное смятение в басмаческом стане.
Проскакав по узким каменистым улочкам Пугниона, кавалькада ворвалась в долину реки и помчалась по проселочной дороге. Медведь с трудом мог разобрать что творится кругом. Он сообразил только, что за басмачами — погоня. Снова захлопали винтовочные выстрелы, послышались возгласы на русском языке:
— Вот они! Вот они!
На какую-то долю секунды, на одно мгновение перед взглядом Медведя мелькнула незабываемая картина. В потоке голубоватых лучей, вдруг брызнувших из-за горы, мчались наперерез всадники в буденовках. Вспыхивали голубые огоньки на обнаженных клинках.
Он не успел даже обрадоваться. Искаженное злобой лицо заслонило всадников. Нестерпимая боль и ослепительная вспышка в глазу... удар падения... Медведь потерял сознание.
Басмач, видя, что с таким тяжелым грузом ему не уйти, ударил пленника ножом в глаз, помня, очевидно, наставления Кудрат-бия. В то же мгновение басмач вылетел из седла, сраженный пулей.
331
XV
Медведя привезли в Регар, в полевой лазарет, помещавшийся в старой мечети. Санджар с посуровевшим лицом сидел у входа в мечеть, прислонившись к резной колонне и молчал, с тоской поглядывая на двери мечети и на пробегавших мимо санитаров и сестер милосердия.
Командир несколько раз порывался что-то спросить, но так и не решился. Иногда он вскакивал, бежал к лошадям, привязанным за оградой, смотрел на них невидящим тупым взглядом и снова возвращался... Наконец на террасе появился пожилой врач.
Смущенно улыбаясь, Санджар спросил:
— Как здоровье нашего друга Медведя?
— Больной чувствует себя прилично... очень прилично.
— А как глаза?
— Что поделаешь... один глаз... э... так сказать... Но зрение мы ему сохраним.
Санджар хотел еще что-то спросить, но в этот момент во дворике появился Кошуба. Он шел прямой, подтянутый, как всегда. Врач засуетился и спустился по ступенькам лестницы к нему навстречу. Кошуба поздоровался с ним, очень сухо ответил на приветствие Санджара и ушел в лазарет.
Полным недоумения взглядом Санджар проводил командира до двери. «Неужели товарищ Кошуба сердится из-за Медведя? Наверно, так и правильно. Не сберег я друга».
Едва Кошуба появился в дверях вместе с врачом, Санджар бросился к ним и, путаясь, бессвязно начал что-то объяснять.
Кошуба резко прервал его:
— Хорошо, хорошо. Все знаю. За Пугнион спасибо, а вот...— Лицо его стало напряженным.— Вы снова товарищ Санджар, за свои старые штучки взялись?
Санджар отступил на шаг. Лицо его еще больше потемнело.
— Сами знаете, о чем говорю!— продолжал веско Кошуба.— Жаль, жаль. Вы же мне обещали...
— Товарищ командир, не знаю, что случилось...
— Не знаете?
332
Кошуба холодно разглядывал Санджара, и под этим пристальным, ставшим таким чужим, взглядом начальнику добровольческого отряда, испытанному, не знавшему страха, воину стало не по себе. Совсем робко, с мольбой он сказал:
— Не сердитесь... скажите, что случилось?
Кошуба исподлобья смотрел на Санджара, пытаясь проникнуть в сокровенные его мысли. Наконец он сказал:
— Где Саодат?
Санджар вздрогнул.
— Саодат? Где она? Что с ней?
Лицо командира смягчилось.
— Так вы не знаете? Саодат пропала. Надо разобраться,— заметил Кошуба, — подумать... Пришел в Каратаг этот, как его, скоморох, или по вашему — кизикчи. Ну, из тех, которые на площади представления устраивают. Ну, пришел, и прямо ко мне: «Важное, говорит, известие». И передает: «Вашу женщину... такую красивую, захватили и увезли в горы Бабатага за реку Кафирнихан». «Откуда,— я говорю,— ты знаешь?» Он отвечает: «Я разговаривал с ней, она просила передать русскому командиру начальнику, что ее увезли санджаровы джигиты».
— Ложь! — заорал Санджар, сжимая кулаки. Громыхая оружием, он грузно сбежал с террасы во двор.
— Куда? Куда вы?
— Ложь! Ложь! — он бежал к своим джигитам. Конь шарахнулся в сторону, и Санджар уже вдевший ногу в стремя запрыгал за ним на одной ноге. Через минуту отряд с дробным топотом ускакал по дороге. Джалалов бросился к своему коню.
— Стойте,— крикнул Кошуба,— да стойте же!
Джалалов нехотя вернулся.
— Нельзя ли поменьше комсомольской прыти? Куда вы поскачете? Там и без вас обойдутся. Для вас у меня есть серьезное дело. Вы слышали наверно, что в кишлаке... завтра выборы казия?— Вы поедете туда. С собой возьмите Курбана. Да снимите с себя всю вашу сбрую и наденьте халат и шапку что ли. Тогда, пожалуй, ни один черт не догадается кто вы... Пойдемте сейчас в Ревком. Там вас проинструктируют...
333
XVI
...Перед стычкой под Пугнионом Гулям Магог проник в кишлак, чтобы разузнать жив ли Медведь и нельзя ли его выручить. Богатая одежда и чалма делали разведчика неузнаваемым. Уже в темноте он пробирался вдоль стен по необычно оживленным улочкам Пугниона. Гулкий топот копыт и звон оружия заставили его свернуть через низенькую калиточку во двор мечети. Толстяк неторопливо поднялся на каменную террасу и, усевшись с достоинством у основания резной колонны, принялся усердно молиться, делая временами перерывы для благочестивых размышлений. Религиозные упражнения отнюдь не мешали ему внимательно приглядываться ко всему, что творилось во взбудораженном, потерявшем сон кишлаке. Много увешанных оружием всадников в богатых халатах проезжало взад и вперед по улице мимо мечети; кругом сновали прохожие, но никто не заглядывал во двор, никто не обращал внимания на усердного богомольца. Магог вскоре так осмелел, что выбрался на обочину дороги и стал заводить разговоры с прохожими. Его способность болтать без удержу пригодилась как нельзя кстати. За время, оставшееся до рассвета, он успел выведать, сколько примерно воинов ислама в басмаческой шайке, куда они намерены двинуться утром, где сидит под замком старый ученый...
Весь пронизываемый дрожью нетерпения, Магог подумывал уже отправиться на выручку Медведя, как вдруг новый отряд конных басмачей с шумом, гомоном заполнил улицу. С необыкновенной для его грузной фигуры легкостью Гулям скользнул во двор мечети и снова уселся на колонны. Недоумевая, что это все значит, он с тревогой вглядывался в остановившихся перед кирпичной оградой всадников. Он не двинулся с места и тогда, когда к нему направились два нукера, хотя сердце его сжалось и ухнуло куда-то вниз. По донесшимся обрывкам фраз Гулям успел только сообразить, что сам Кудрат-бий, проезжая мимо мечети, обратил внимание на некое духовное лицо, молящееся с превеликим рвением в столь неурочный час, и пожелал с ним лично познакомиться.
Очень почтительно, под руки, Гуляма повели с лестницы во двор, где на огромном вороном коне каменной глыбой высилась фигура грозного курбаши.
334
— Кто вы, возносящий в ночной час молитвы к престолу божию?— вежливо спросил Кудрат-бий.
Толстяк растерялся. Меньше всего рассчитывал он встретиться лицом к лицу с самим парваначи.
— Я раб аллаха, ваша милость, пыль на стопах ваших, высочайший из начальников,— набравшись духу, заговорил разведчик.— Возношу молитвы за правое дело мусульманского воинства.
Ответ, по-видимому, понравился Кудрат-бию.
— Приятно видеть такое усердие в делах молитвы.
Курбаши подобрал поводья, намереваясь, очевидно, двинуться дальше, и Гулям Магог внутренне возликовал, надеясь, что его оставят в покое. Но рыжий ясаул быстро наклонился к толстяку и спросил:
— Почтенный, как проехать к сафарбаевскому дому? Вопрос застал разведчика врасплох. Он понятия не имел, кто такой Сафарбай и где он живет. В полном смятении Гулям невнятно забормотал: «Налево... немного направо... высокие ворота». Он чувствовал, что земля уходит из-под ног, что пришел его последний час. Ясаул грубо оборвал его:
— Что вы болтаете? Вы разве не здешний?
— Я... я... Мы...
Гулям, как всегда в минуты расстройства, вспотел. Он только хотел сказать что он местный житель, когда сбоку прозвучал голос:
— Нет, это не здешний человек.
Хорошо одетый селянин, очевидно, кто-нибудь из богатеев кишлака, выступил немного вперед.— Нет-нет,— повторил он,— я не знаю этого человека, господин бек, у нас нет такого толстопузого. Ни у нас, ни в нашей долине. Да у него и разговор не наш, какой-то кашгарскии разговор.
«Пропал, пропал!» — мелькнуло в голове Гуляма.
— Эй, ты! Кто ты?— заорал ясаул. Он наклонился и схватил Гуляма за ворот халата.— Кто ты? Ну?
Горячая волна обдала спину Гуляма. Глаза застлала серая пелена. Мозг лихорадочно работал в поисках выхода.
Положение было совсем незавидное. Кругом теснились вооруженные до зубов нукеры, беспокойно прислушиваясь к разговору. В поведении кудратбиевских головорезов, в их суетливых движениях, бегающих глазах чув-
335
ствовались неуверенность, смятение. Гулям отлично понимал, что достаточно неудачного с его стороны слова, и по знаку Кудрат-бия его разорвут в клочки. Дорого бы дал толстяк за то, чтобы сейчас прогремел выстрел-сигнал атаки на Пугнион.
Но сигнала не было. Кудрат-бий совсем низко склонился с седла, разглядывая Магога, нервно перебиравшего четки.
Молчание затянулось. Его нарушил все тот же ясаул:
— Уж не разведчик ли ты?— рявкнул он так, что Гулям отшатнулся.
Кудрат-бий хрипло рассмеялся.
— Ну, где там, разве на красноармейских щах и каше можно распустить такое торгашеское брюхо! Смотрите, как его разнесло.
Счастливая мысль осенила Гуляма. Он согнулся в подобострастном поклоне и плачущим голосом запричитал:
— Великий из величайших беков! Достопочтеннейший столп веры! Избавьте достойного мусульманина от грубостей бессовестных мужланов. Справедливости! Справедливости!
— О чем просите?— холодно проговорил Кудрат-бий.
— О украшение мира! О великий из величайших!
— В чем дело?
— Ограбили меня, последнее взяли,— стонал Гулям.
Охая и причитая, он начал сочинять историю о том, как его, кашгарского купца, везшего «всемогущему и непобедимому» парваначи Кудрат-бию через долину Алая подарки от ферганского курбаши Исламкула, по дороге сбросили с коня и обокрали... обворовали...
— А не скажете ли, достопочтенный,— нарочно очень громко спросил Кудрат-бий, рассчитывая, что его услышат толпящиеся вокруг нукеры,— а не поведаете ли вы нам, не присылал ли нашему брату Исламкулу наш друг — британский консул какой-либо весточки или еще чего? А?
— О, не только весточку, великий господин! Они прислали все, что душе только может захотеться,— не поперхнувшись продолжал врать Гулям Магог.
— О, слава богу всевышнему, да будет вечен он в мирах,— елейным голосом продолжал курбаши. — Сколько же винтовок привезли мужественному Исламкулу?
336
— Десять, э-э-э,— сказал Гулям и остановился, вконец растерявшись. Судорога свела ему горло.
Выручил его сам Кудрат-бий.
— О верные мои воины, вы слышите? — крикнул он. — Наши друзья и союзники ференги доставили нашим братьям десять тысяч прекраснейших новеньких винтовок, которые так хорошо поражают в сердце, в печень, в желудок. Слава всевышнему!
А Гулям, войдя в роль, продолжал:
— О, еще были пулеметы. И вам, господин, предназначено... э... триста... нет, что я говорю, пятьсот пулеметов. И пушки, сто... двести пушек. И патроны. Миллион, сто тысяч миллионов патронов, английских... настоящих... разрывных...
Чем больше нагромождал небылиц и нелепостей Гулям, тем больше верили ему басмачи. Только ясаул все еще подозрительно посматривал на вздрагивающие, как студень, щеки Магога и вдруг ворчливо перебил:
— А бумага где, письмо? Доставай письмо из пояса...
— Тише, ты, вместилище невежливости. Величие помыслов аллаха непостижимо,— торопливо говорил Гулям.— Нельзя достать, чего нет. Нельзя заставить птицу сесть...
— Как, у тебя нет письма? Какой же ты посланец?
— Отобрали, все отобрали...
Жестом руки Кудрат-бий прервал жалобы.
— Пойдем... Пожалуйте с нами. Дайте посланцу обожаемого брата нашего Исламкула коня... На отдыхе, вы, почтеннейший, расскажете нам.
Чем руководствовался Кудрат-бий? Возможно, он не очень верил словам Гуляма, но весть о том, что где-то есть единомышленники, ищущие союза с ним — Кудрат бием, понравилась парваначи. В дни, когда могущество его падало с каждым часом, когда мысль о необходимости спасать свою шкуру сверлила мозг и днем и ночью, когда нукеры бежали из отрядов и все чаще сдавались советской власти,— такая весть из Ферганы была в тысячу раз ценнее всяких даров. И Кудрат-бий еще раз повторил:
— Подать коня посланцу главнокомандующего ферганской армии ислама.
337
Сам Гулям Магог смутно представлял себе, что ой будет говорить дальше, какое впечатление его рассказ произведет на басмачей.
Но тут на окраине кишлака послышался одиночный выстрел... Волна криков, беспорядочной стрельбы захлестнула кишлак. В темноте заметались всадники. Несколько басмачей подхватили толстяка и с трудом усадили на коня; кто-то сунул ему в руки камчу... Он ничего не успел сообразить; тесно сжав, его увлек поток верховых, с грохотом и треском мчавшийся по притихшим улицам кишлака. Басмачи меньше всего думали о битве. Как свора жалких бродячих псов, при первом тревожном звуке они устремились, куда глаза глядят...
Когда солнце залило трепещущим светом нежно-зеленые холмы долины Гиссара, по белой пыльной дороге тряслись на взмыленных скакунах перепуганные воины ислама и среди них Гулям Магог. Впереди скакал гроза таджикских и узбекских селений, сам Кудрат-бий.
Скакали долго, стараясь оторваться от красных конников.
О том, что Медведя вытащили из темницы, а затем бросили раненого на дороге, Гулям и не подозревал. Это происходило где-то в другой стороне кишлака. Обезумевшие от страха басмачи скакали и скакали.
Гулям, вскоре понял, что погоня отстала. Но он был спокоен. Он знал что должен делать дальше.
Когда загнанные кони перешли на шаг, толстяк поравнялся с Кудрат-бием и почтительно заговорил:
— Разрешите, мой бек, поздравить вас с удачным избавлением от опасности.
Курбаши был вконец измучен скачкой. По одутловатому, бледному лицу его сбегали ручейки грязного пота, дышал он прерывисто. Елейные поздравления Гуляма были приняты очень благосклонно.
Так толстяк и балагур, любитель хорошо покушать и много посмеяться, великан Гулям Магог стал эмиссаром ферганского кровавого курбаши Исламкула при особе Кудрат-бия. Почти наверняка любой другой, более серьезный и умный человек, взявшись играть эту роль, быстро сам разоблачил бы себя. Но именно потому, что Гулям сочинял свои небылицы с обезоруживающим простодушием, Кудрат-бий и его приближенные верили каждому его слову. А может быть, они принимали его
338
вранье за чистую монету еще и потому, что оно отвечало их сокровенным мечтам и надеждам. А Гулям Магог громоздил нелепицу на нелепицу. Менее чем тысячами он не оперировал. Тут были тысячи доблестных джигитов, которых, будто бы, собирается направить Исламкул в Гиссар, и тысячи «истребленных» в последних боях красных конников, и тысячи винтовок, посланных через ледники Памира из Индии для воинов ислама, и тысячи тысяч золотых рупий. Если верить Гуляму, то получалось так, что население кишлаков и городов восстало во всем Туркестане, а воины ислама захватили Ташкент и вот-вот, вместе с львами пророка — солдатами турецкого халифа, вступят в «нечестивую» Москву... Сказки Гуляма заворожили Кудрат-бия, и он требовал, чтобы знатный посланец на остановках рассказывал «великие новости» басмаческим нукерам...
По уши завязший в своих выдумках, Магог не скупился на новые, еще более невероятные подробности, моля бога о том, чтобы выдался удобный случай сбежать.
Но возникло другое осложнение: Кудрат-бий ни на шаг не отпускал своего почтенного гостя и «лучшего друга».
Когда переправлялись через своенравную речку Сурхан, Гулям не устрашился грозной, вспененной пучины и нарочно заставил оступиться своего невзрачного конька. Отчаянно барахтаясь, лошадь начала тонуть в бешеной стремнине, свалив в воду зажмурившегося в ужасе толстяка.
Магог думал, что басмачи, боясь за свои шкуры, не полезут его спасать, махнут на него рукой, и ему удастся уплыть подальше вниз по течению и укрыться в камышах. Но он не доучел, что ледниковая вода реки слишком холодна. Цепенея, со сведенными ногами и руками, великан пошел ко дну. Он чувствовал как одеревеневшее тело его, словно чужое, бьется по камням. Сознание уже начинало мутиться, когда сильные руки подхватили и вытащили его на берег.
Кудрат-бий не на шутку обеспокоился и приказал, чтобы пострадавшему дали теплый ватный халат.
Так и ехал до самого вечера Гулям Магог, злой и расстроенный.
Ехали по холмистой степи с бесчисленными небольшими перевалами. По сторонам от дороги подымались
339
голые, лишенные всякой растительности склоны. Ветер гнал по узким бесплодным долинам тучи красной пыли, разъедавшей глаза, сушившей губы, вызывавшей мучительный кашель...
Поздно ночью добрались до кишлака. Что он из себя представлял, трудно было разобрать. Стало совсем темно. Но, судя по тому, что комната, отведенная Кудрат-бию, по-видимому, самая лучшая в селении, была прокопчена от основания стен до балок потолка, было очевидно, что басмачи забрались в глухие места. Отсутствовал даже сандал. В углу комнаты стояла кровать с золочеными украшениями и со множеством атласных одеял и бархатных подушек, и тут же рядом, на полу, в небольшом первобытном очаге корчились в огне сырые сучья. Комнату наполнял густой дым, для выхода которого в потолке имелось круглое отверстие. И в то же время на стене были развешены тончайшие вышивки, шелковые сюзане, в нишах красовались блестящие серебряные самовары, тонкого фарфора посуда, дорогой граммофон.
Хозяин сидел тут же, на грубом, почерневшем от застарелой грязи, паласе, стараясь держать голову как можно ниже, так как только над полом было невысокое пространство, свободное от дыма.
Кудрат-бий мрачно молчал, лишь изредка неохотно и односложно отвечая на вопросы. Его лицо ничуть не просветлело, когда хозяин дома объявил, что преподносит в дар мусульманскому воинству пятьдесят баранов.
— Невелика твоя жертва всевышнему, Бутабай,— резко бросил Кудрат-бий.
— Но, таксыр, поистине это жертва богу, а разве принято подсчитывать жертву богу? — возразил Бутабай.
— Кто тебе сказал, что жертву не считают?— жестко проговорил курбаши.— Но ты не воображай, что это щедрый дар. Сколько у тебя баранов? Двадцать... тридцать тысяч?
— Воля божья,— промямлил Бутабай,— разве я их подсчитывал? А по поводу жертвы богу святой Гияс-ходжа говорит...
Тут Гулям Магог, у которого глаза слипались и мысли заволакивались сладким туманом, встрепенулся. Знакомое имя Гияс-ходжа... Толстяк стряхнул с себя
340
остатки сна и, солидно зевнув, стал прислушиваться к разговору.
— Ну, а тот приедет? — спросил внезапно Кудрат-бий.
Гулям Магог насторожился. О ком идет речь? Кто должен приехать?
— Он приедет... Гияс сказал: «Конечно, приедет...»
— Ну?
— Приедет. Он без памяти влюблен,— и Бутабай хихикнул,— влюблен, как соловей в розу, в эту продавшую большевикам и душу и тело Саодат.
Имя это прозвучало здесь так неожиданно, что Гулям Магог невольно издал возглас изумления. Почувствовав на себе удивленные взгляды собеседников, он поспешил закашляться.
Потеряв нить разговора, Кудрат-бий и Бутабай заговорили о другом. Толстяк усиленно подливал всем в круглую пиалу чай:
— Семь полных хаузов не затушат огня в моем желудке...
Он смеялся над своими шутками больше всех, но чувствовал себя очень неспокойно. С тревогой ждал он, когда Кудрат-бий и Бутабай вернутся к затронутой теме. Она их, видно, также интересовала. Они вскоре снова заговорили о Саодат.
— Хорошо,— сказал Кудрат-бий,— но тот знает, что она здесь?
— Знает. Я послал верного человека, кизикчи,— и Бутабай опять хихикнул,— он всем рассказывает, что ее украли и увезли сюда. Вот он и прискачет... Он уже скачет...
И Бутабай, приложив просаленную ладонь к уху, картинно прислушался, как будто можно было услышать топот лошадиных копыт за десятки верст.
— Что же вы молчите! Надо предупредить людей,— забеспокоился Кудрат-бий. Надо прикрыть крышку котла, как только в него попадет петух... Так, значит, любовь, говорите? Хорошо! А где же Гияс?
— Он при ней. Ведь она его жена...
— Что же он с ней сделает? Зарежет?
— Зачем же резать такую красивую женщину! У Гияса тоже, хи-хи... любовь. Он за этой Саодат вот уже два месяца ездит. Как узнал Саодат в Янги-Кен-
341
те в караване, среди людей, так и поехал за ней. Все ждал. Даже, хи-хи, совсем сдружился с большевиками. Кудрат-бий впервые за весь вечер захохотал.
— Святой ходжа — друг большевиков! А все-таки, надо было бы с ним поговорить. Да и на эту самую... разводку посмотреть.
— Гияс не позволит. Он надел на нее чачван и сказал, что ни один мужчина до самой ее могилы не увидит ее лица.
— Эти женщины!— заметил Кудрат-бий.— Поистине прав тот мудрец, который сказал: «Три четверти похоти аллах отдал женщине, а также три четверти пороков». Ну, а в могилу она попадет скоро. Не в могилу, а в яму для падали... Да, а живете вы здесь сытно.
Бутабай расплылся в улыбке и хотел разразиться ответным комплиментом, но его прервал маленький старичок, напоминавший облезлого седенького козла. Белая аккуратная чалма, полинявший, но чистый халат, опрятные руки — все выдавало в нем местного домуллу,— учителя духовной школы. Весь вечер он сидел молча и подобострастно улыбался, изредка порываясь что-то сказать.
— Когда же в нашей стране мир будет?— вдруг смело заговорил старик.
Все посмотрели на него с удивлением, а он невозмутимо продолжал:
— Вот вы могущественный начальник, всесильный господин. Вы все можете, и вам все можно в пределах, дозволенных законом ислама, а иногда даже больше...
— Что вы там плетете, домулла?— проворчал Бутабай.
— Так почему же не кончится война? Смотрите вы, имеющие глаза! Вы видели улицы городов, столь оживленных еще недавно? Толпы людей сновали взад и вперед, славословя бога за его милости. А сейчас пусто. Дехкане и ремесленники обнищали. Скота нет. Имеющий двух баранов — богатый человек. Люди бродят, как тени. Взор мутный, лихорадочный румянец на скулах, ввалившиеся щеки. Печальные женщины оплакивают мертвых своих детей...
— Старик,— сказал грозно Бутабай,— к чему такой длинный разговор? — В его голосе звучало суровое предостережение. Но старичок разошелся, и его
342
трудно было остановить. На дряблых щеках его проступил кирпичного цвета румянец.
— А вот слушайте. Когда по кишлаку едет большой курбаши, его слуги кричат: «Пошт, пошт!» и он, конечно, ничего больше не слышит... А стоит послушать, что говорят мусульмане: «Недавно приходили. Отняли корову, забрали лошадь...» О ком говорят эти несчастные? Они говорят о воинах ислама, взимающих налог войны. А дехкане покорно склонились перед ханом-голодом. Больные, умирающие от голода лежат прямо на улице. На кладбище несут чередой трупы один за другим... Обмыватели трупов не успевают ходить из дома в дом, чтобы совершить последнее омовение. И это у нас в горах, где еще недавно, когда дехкан спрашивали: «Какие болезни у вас тут встречаются?», все в один голос отвечали: «Никаких, все здоровы».
— Молчи, старик,— злобно шикнул Бутабай,— или ты сам хочешь быстренько попасть в руки обмывателей трупов? Знаешь поговорку, отец: «Недовольному лучше молчать...»
Но старик ничего уже не хотел слушать. Судорожно дергая плечами, он огрызнулся:
— К обмывателям? Ну и что же! Они теперь самые богатые. Они не успевают таскать домой одежду, которую снимают по закону с покойников. На базаре теперь страшно исподнее купить, обязательно с трупа снято. А воины перестали быть мусульманами.
В течение всей этой длинной речи благосклонная улыбка не сходила с лица Кудрат-бия. Он расположился поудобнее на подушках и добродушно заметил:
— Ну, джигит джигиту рознь. Есть и такие, которые допускают это самое... шалости. Но их нужно извинить, ведь война. Что же, папаша, дехкане думают во время войны сдобные лепешки есть? Придется потерпеть.
Но старику, видно, надоело терпеть, и он не унимался:
— Лепешки, говорите вы, бек? Сдобные лепешки? А при эмире я ел, что ли, сдобные лепешки? Только на свадьбах у баев. Я и вкус забыл сдобного теста. Да разве наш бай оставляет дехканам столько, чтобы они могли кушать белый хлеб? Теперь нам и ячменных лепешек не из чего печь. За время войны у нас большой
343
арык стал сухой, как крыша летом. Плотину размыло, а люди либо побиты, либо с голоду вымерли. Некому починить арык. Вода не на поля идет, а в лягушачье болото. Вот и хлеба нет...
Тогда сидевший тут же за дастарханом курбаши Садык, еще совсем молодой человек, но свирепый и беспощадный палач, вскочил и, шагнув к старику, схватил его за плечо:
— Ты что?— заорал он, сразу нарушив чинную беседу.— Ты что? У тебя тысячи жизней, что ли? Ты что говоришь в присутствии светлого парваначи, командующего армией аллаха? А?
Но и тут старик не испугался. Он резким движением вырвал плечо из рук басмача и в свою очередь напустился на него:
— Ты, молокосос! Недаром говорят: мужчина без бороды — человек несерьезный. Ты думаешь, я затрепетал от твоего неприличного крика? Хрр-ав-ав! Да ты знаешь, кто я? А? Я бедняк. У меня все имущество — вот эта чалма; она мне и подушка, и полотенце, и скатерть. Она и саван. А ты напялил шелковый халат да сафьяновые сапожки и думаешь, что стал обожаемым возлюбленным самого его светлости эмира, тьфу?
Он встал.
— Ну, хайр! Я ушел...
Приложив ладонь ко лбу, он всунул ноги в изодранные калоши, стоявшие у двери, и, что-то бубня себе под нос, вышел. Кудрат-бий громко хохотал.
— Да, Садык! Наскочил глиняный кувшин на чугунный котел, а? Умненький старикашечка?
Но смех Кудрат-бия был невеселый. Он заметил:
— Старичок прав. Надо было бы помочь кое-кому из дехкан. Как там... э... сказано в книге: «Имеющие достаток поддержите неимущих». Брат мой, Бутабай, прикажите выдать вдовам и сиротам, по случаю моего пребывания в кишлаке, зерна... ячменя, что ли...
— Хоп, таксыр.
— Да вот еще прошу объявить через глашатаев по кишлакам, что в воинство ислама призываются храбрые и мужественные мусульмане. Каждый из байбачей, кто достоин званий джевачи, получит в потомственное владение из земель, конфискованных у безбожных собак, предавшихся кафирам, по шесть гау посевов, каж-
344
дый чухра аксы — четыре гау, десятник — по три гау, рядовой джигит — по два гау. И еще объявите, что пока будет война с большевиками, на этих землях мы заставим работать черную кость — людей, не хотящих взять в руки оружие, чтобы помочь нам — воинам ислама, а доходы и урожай мы отдадим нашим верным борцам за веру. Те же из знатных, кто достоин звания мирахура, получат по тридцать гау. И пусть у них не болит сердце. На них также заставим работать дехкан. А наиболее прославленным мы отдадим во владение целиком непокорные кишлаки с землями, с быдлом, с... девчонками в полное распоряжение, в полную власть.
Секретарь подобострастно спросил:
— Прикажите записать это в нескольких списках нашей летописи?
Небрежно махнув рукой, Кудрат-бий благосклонно бросил:
— Конечно, конечно... Только изобразите это высоким стилем, как великую награду героям, а о дехканах... э... не пишите... опустите.
Когда кишлачные заправилы ушли и все начали готовиться ко сну, Кудрат-бий подозвал Садыка и заметил вскользь:
— Умницу-старикашку...
И пальцем провел по горлу.
Садык стремительно бросился к двери. Курбаши остановил его:
— Да нет, не сейчас. Завтра, без шума, когда мы покинем кишлак...


Часть 6

I
Боюсь — и я, и Санджар попали впросак,— проговорил Кошуба.— Пока у меня нет точных сведений, но не ловушка ли это... Кстати, знаете ли вы историю бухарской невольницы Саодат?
В костре трещали и постреливали сырые сучья. Пламя освещало лицо Кошубы.
— Узбеки верят в аджина, то-есть женщин-джинов,— сказал он.— В демонических женщин, женщин неслыханной красоты, одного взгляда на лица которых достаточно, чтобы сделать человека безумным, превратить самого сурового священнослужителя в робкого влюбленного и заставить самого кази-каляна несмело преподносить розу своей беспомощной, несчастной, лишенной всех прав рабыне. Не верите? А вот признаться, я почти поверил, узнав историю Саодат. Да, наша Саодат настоящая аджина. Взгляд ее испепеляет сердца. Вы знаете это не хуже меня по нашему бедному Санджару и еще кое-кому...
И при свете костра в заброшенной горной хижине у подножия черной горы, надвинувшейся на уснувший Каратаг, Кошуба рассказал печальную историю Саодат, историю бухарской невольницы...
История Саодат началась в девятнадцатом году, а надо помнить, что в то время в Бухаре нравы мало чем отличались от нравов эпохи Тимура. Жизнь человека стоила очень дешево и зависела от малейшего каприза боль-
249
ших и малых властителей Бухары. А жизнь женщины расценивалась в меру ее физической красоты и молодости.
Разум, воля в женщине отрицались. «Мужчина с медной головой во сто крат лучше женщины с золотой головой»,— говорили тогда.
Произвол, бесправие, столь характерные для Бухары, с приближением двадцатого года усугубились. Надвигались бурные времена. Бушевали пожары в поместьях баев и помещиков Бухары. По пыльным дорогам рыскали карательные отряды головорезов-ширбачей, набранные из воров, разбойников, байских сынов. Эмир дал им право расправляться с любым человеком, заподозренным в склонности к новшествам.
...Преследуемая собаками, через небольшой кишлак Чархин близ Каршей промчалась группа вооруженных людей. Кто были они, жители кишлака разобрать не смогли, так как лица у всадников были до глаз замотаны платками. Но дехкане сжимали кулаки и посылали вдогонку скачущим проклятья: они разглядели, что на двух лошадях через луки седел были переброшены, похожие на бесформенные кули женские фигуры.
— Не иначе, в Воровскую долину их потащили. Пусть глаза проклятых воров не видят солнца,— бормотали дехкане и спешили закрыть поплотнее ветхие ворота и подпереть их изнутри кольями, хотя и знали, что от эмирских и бекских слуг это плохая защита.
— Плачут матери бедняжек у своих очагов,— бормотали женщины.
Вечер спустился над степью, а всадники все еще не умеряли бешеной скачки. Стало темно, когда, наконец, на фоне потускневшего неба вырисовались темные очертания построек, острые силуэты пирамидальных тополей. Раздался громкий стук в ворота, далеко по степи разнесся лай собак. Кричали нукеры, ржали лошади, слышлся визгливый женский голос. При свете чадящего факела стянули с седел кули и поставили их на землю стоймя. Никто не обратил внимания на жалобный девичий плач. Никому не было дела до женского горя. А на террасе, властно распоряжаясь, стоял высокий костлявый арбоб — хозяин дома с заросшим курчавой бородой лицом. Про таких батраки и чайрикеры говорят: «Толстый бай плох, но худой хуже в семь раз, потому что жрет в семь раз больше, и все впустую».
350
Когда мимо него вели шатающихся от усталости пленниц, высокий слуга с возгласом: «Смотрите, хозяин», сдернул с лица одной из них покрывало. В свете факела блеснули огромные глаза, полные безысходной тоски. Слабый голос беспомощно протянул:
— Господин, отпустите к маме...
Лицо помещика исказилось.
— Ты, собачье отродье, делай, что приказано.
Помещик соскочил с возвышения и грубо натянул девушке покрывало на лицо.
— Отведите в ичкари! — заорал он.
Долго еще хлопали и скрипели двери в доме Сайд Ахмада, крупного скотовода и неограниченного властителя урочища Нишан, известного у населения Карнапчульской степи под красноречивым названием «Воровская долина».
Сам Сайд Ахмад в большой, убранной великолепными коврами, михманхане угощал дорогого и почтенного гостя — восходящую звезду чистой веры, бухарского богослова Гияс-ходжу, возвращавшегося из далекого Кабула в Бухару ко двору эмира.
Грубый и невежественный самодур, степной помещик Сайд Ахмад открыто презирал неженок-горожан; но на сей раз он всячески укрощал себя и в движениях и в словах, стараясь соблюсти известные приличия в присутствии такого важного и достойного гостя. Надо сказать, что несмотря на относительную свою молодость, Гияс-ходжа слыл великим ученым даже среди духовенства Бухары — единодушно признаваемой во всем мусульманском мире центром духовной образованности. Два путешествия к каабе в Мекку, необычайно глубокие познания шариата, аскетический образ жизни создали Гиясу огромный авторитет. Поговаривали, что даже сам пресветлейший эмир избирает его своим ближайшим советником и дает ему важнейшие поручения как внутри, так и вне государства.
После ужина, о котором Гияс-ходжа сохранил воспоминание как о чем-то жирном и грубом, хозяин и гость коротали время за чаем. Разговор шел на самые безразличные темы, и Гияс-ходжа осторожно позевывал, прикрывая рот рукой. «Хотя, что мне стесняться этого мужлана, степного верблюда,— не без раздражения думал гость.— Вот он бесцеремонно рыгнул уже
351
не раз. Очевидно, бараний князек воображает, что это признак изысканного воспитания».
Гияс-ходже очень хотелось спать, и, стараясь расположиться поудобнее, чтобы облегчить тяжесть, камнем лежавшую в желудке, он с нетерпением поглядывал на высокую стопку шелковых одеял, сложенных в небольшой нише в глубине комнаты. Нетерпение, досада росли с каждой минутой. К тому же в комнате становилось холодно. Драгоценные ковры прикрывали обмазанные на скорую руку глиной и саманом шероховатые стены. Сырость пробиралась из всех углов, и сквозняки гуляли по парадной комнате, колебля пламя большой круглой лампы. Степные ветры свободно проникали через щели в больших начинавшихся от самого пола ставнях, покрытых тончайшей резьбой, но очень плохо приспособленных для защиты от холода.
Поеживаясь в своем легком кашемировом халате, Гияс-ходжа думал: «Хоть бы этот ишачий хвост костер приказал разжечь». Но степняк ничего не замечал. Развалившись на подушках, он усиленно подливал себе из маленького чайника желтоватую жидкость, похожую по внешнему виду на чай. Но, судя по терпкому запаху помещик бесцеремонно нарушил одну из самых незыблемых заповедей исламского учения. Осовелые глаза Сайд Ахмада настороженно бегали под тронутыми сединой густыми бровями и упорно ловили взгляд Гиясходжи.
— Вот вы, духовные люди, разбираетесь во всех тонкостях человеческих побуждений,— вдруг заговорил Сайд Ахмад и резким движением придвинулся к Гияс-ходже,— вот скажите, что по вашему, есть любовь?
— Любовь к божеству?— встрепенулся богослов. Сайд Ахмад хихикнул:
— Нет, к божеству это одно, нет, к женщине.
«Твои верблюжьи привычки — и любовь... Дикарь ты»,— подумал Гияс-ходжа. Он сказал лениво:
— Великий господин разума, наш знаменитый поэт Ансари запрещал любовь земную. Воспевая женские прелести, он мысленно пел хвалу духовным красотам и возвышенным качествам божества...
— Так, так,— пьяно ухмыльнулся скотовод.
— Высот понимания достигали наши мудрейшие философы в своих суфийских трактатах,— продолжал Гияс-ходжа и продекламировал:
352
Ты лжешь, если жалуешься на муки любви,
Я вижу, что кости твои одеты мясом...
— Это они... А вы?
— Ваш вопрос не очень ясен.
— Ну, вот вы, ученый, богослов, неужели вы не знали любви к женщине?..
— Оставим этот разговор.
— Хо-хо! И вас не привлекают они?
Гияс-ходжа едва сдерживал раздражение. Ну и неприятный тип этот Сайд Ахмад! Богослов нервно теребил свою бороду и сумрачно разглядывал хозяина. Почти черное с блестящими скулами лицо помещика побагровело, губы лоснились, глазки совсем стали масляными. Он густо хохотал, нелепо взвизгивая, хлопая себя по ляжкам. Он от души развлекался. До него, видимо, дошли слухи о благочестии и аскетизме Гияс-ходжи и он, под влиянием винных паров, затевал какую-то непозволительную шутку.
— А вот я влюблен,— заревел он.— И совсем уже не так, как вы там рассказываете.
— Оставьте, уважаемый Сайд Ахмад, разве вам не известно, что неприлично и неподобающе рассказывать о таких вещах во всеуслышание...
Сайд Ахмад совсем разошелся. Он вскочил.
— Нет человека, который променяет хорошую бабу на ваши духовные бредни... Пошли.
Он грубо схватил под руку упирающегося Гияс-ходжу и потащил его по комнатам и темным переходам.
«Что с ним, бог мой, что он затеял?»— растерянно думал ошеломленный богослов.
Его втолкнули в грязный чулан.
— Смотри, — хихикнул Сайд Ахмад, подводя своего гостя к небольшому круглому отверстию, пробитому в стене. — Смотри на божественную любовь.
Ученый взглянул и сразу же отшатнулся. В большой, залитой светом и богато убранной комнате находилось несколько женщин, которые суетились около двух нагих молоденьких девушек. Одна из них, постарше, сидела на одеялах и горько плакала, другая, помоложе, отбивалась от старух, и глаза ее гневно блестели.
Ошеломленный Гияс-ходжа сделал шаг назад.
353
— Смотри! Что, нравится? Хороши?
Богослов бросился назад в михманхану. Лицо его, обычно бледное, горело, на лбу выступили капельки пота. Он молча ходил по комнате, только губы его кривились.
Хозяин, пошатываясь, ввалился немного позже. Продолжая хихикать, он разлегся на горе одеял и залпом опорожнил пиалу вина.
— Хороши гурии, а? Сестры. Ту, что постарше, приближу сегодня. Помоложе — потом. Любовь божественная, а? Захочу — обеих возьму сегодня же к себе на ложе... Хо-хо!..
Богослов молчал.
— Друг, ты мне должен помочь.
Гияс-ходжа насторожился.
— Помочь... Девушки — свободнорожденные. Могут быть неприятные разговоры с их родителями. Ты — мулла, ты — имам. Дай мне фатиху, что брак состоялся. Твоя могущественная печать...
— Вы с ума сошли! — Гияс-ходжа резко повернулся к хозяину.— Нет, этого не будет, это разврат. По установлениям ислама можно жениться и на сестрах, но так, как вы сказали... это недопустимо, к тому же, где согласие родителей?
Сайд Ахмад снова хихикнул.
— Отец и мать... Хо-хо! Мои джигиты утащили девок из-под носа родителей и всей махалля. Девки — дочери каршинского старшины водоносов, я давно заприметил их. Красивые, не правда ли? Перси, как гранаты, бедра... Халва, шербет, а? Не правда ли, вам теперь хотелось бы наплевать на все божественное, а? Хочешь, отдам старшую, Норгуль, а? Но сначала фатиху. Хорошо, по рукам?
— Я уезжаю, где мои слуги? Пусть седлают...
— Ну, берите младшую, Саодат. Ну? Привезете в Бухару молоденькую жену.
Он снова выпил пиалу коньяка, не поморщившись.
— Ну, а если будут капризничать, не захотят принять столь высокой милости добровольно... Можно ручки, ножки к колышкам привязать. Поплачет немного, да и успокоится. Пишите фатиху... Эй, Гулям, чернильницу сюда, бумагу...
354
— Нет, я писать не буду,— упрямо проговорил Гияс-ходжа.
Он сам не понимал что с ним творится. Вихрь странных, горячечных мыслей беспорядочной чередой мчался в его мозгу. Слова грубого скотовода доносились откуда-то издалека, походили на назойливое гудение шмеля.
Гияс-ходжа был потрясен, взволнован, ошеломлен... Он увидел лицо неземной красоты, глаза — лучистые, бездонные и гневные. Лицо прекрасное и несчастное. Произошло невероятное: Гияс-ходжа полюбил. Полюбил так, как может полюбить сухой законовед, блюститель свирепых законов арабов, всерьез смотревших на женщину, как на «силки дьявола», отказавшийся навсегда от женщин и от ласк даже законных жен. И внезапно нахлынувшие чувства, опалившие его сердце огнем, были совсем иного свойства, чем прилив животной страсти. Ему претили слова, поступки Сайд Ахмада,— так он по крайней мере думал. Мечты любви роем носились перед ним:
«Хорошо бы эту луноликую встретить под цветущим персиком в теплый закат... Взять в свои ладони ее нежные руки, заглянуть в лучезарные глаза... Как она прекрасна!»
Забывшись, он громко прочитал стихи Хорезми:
Твои уста источают сахар,
При появлении твоем расцветают цветы
Грубый голос прервал его.
— Семь раз плюю на твою фатиху,— заорал Сайд Ахмад.— Обойдусь без твоего шариатского крючкотворства...
Он вышел, спотыкаясь и цепляясь непослушными ногами, обутыми в кованые сапоги, за подушки и одеяла.
Почти тотчас же из дальних комнат донесся шум шагов, громкий плач.
Гияс-ходжа стоял, прижавшись к стене, шепча обрывки каких-то персидских и арабских изречений. Глаза его бегали по комнате. Вдруг взгляд остановился на пистолете, брошенном хозяином рядом с подушкой. Протянув перед собой руки, богослов шагнул вперед... Он услышал пьяный голос скотовода: «Ведите их сюда...» и тонкий женский крик.
355
Сжимая рукоятку пистолета, Гияс-ходжа выскочил в коридор. Из соседней комнаты неслись крики, брань, плач.
...Ритмичный, очень громкий стук властно ворвался в сознание.
Гияс-ходжа не сразу сообразил, что это с силой ударяют о створки ворот чем-то тяжелым.
— Эй, эгей, Сайд Ахмад, эй!..
Голос был резкий и властный.
— Эй, Сайд Ахмад! Открывай!.. К тебе от великого эмира. Эй, Сайд Ахмад!
В коридор хлынул красноватый свет. Мимо Гияс-ходжи прошел в сопровождении нескольких слуг хозяин. Увидев оружие в руках богослова, скотовод бросил грубо, но успокоительно:
— Не бойся... Наверно, эмирские люди.
Распахнулись ворота; в багровых отсветах факела Гияс-ходжа разглядел фигуры всадников. Круглый толстенький человек не слез, а скатился с седла и обнял Сайда Ахмада за поясницу — выше он дотянуться не смог. Гияс-ходжа заметил, что степняк проявляет к гостю необычайное почтение.
Снова чинно сидели в михманхане. Снова принесли угощение. На участливые расспросы гостя, оказавшегося эмирским инаком, Гияс-ходжа, все еще не пришедший в себя, едва выдавил слова необходимых приветствий.
Инак — могущественный вельможа Бадреддин, облеченный почти неограниченной властью, ехал в Керки, но имел поручения и к степным владельцам стад. Сайд Ахмад только безмолвно склонил голову, когда услышал приказание перегнать тысячу баранов в Бухару. Он даже не спросил, сколько будет платить за каждого барана эмирский двор и будет ли вообще платить. Он рассыпался в притворных любезностях перед вельможей, который в свою очередь был исключительно вежлив и почтителен с Гияс-ходжой. Хозяин с опаской поглядывал на ученого богослова. Он понимал, что Гияс-ходжа зол на него, и боялся, что он будет жаловаться.
Но Гияс-ходжа менее всего был склонен вовлекать в эту историю могущественного гостя и только нервно вздрагивал всякий раз, когда с женской половины доносились плач и ропот голосов. Сайд Ахмад тоже не был
356
спокоен. Он нарочно повышал голос, стремясь заглушить доносившийся из внутренних комнат шум.
Только раз вельможа поднял голову и прислушался. Как бы невзначай, он заметил:
— Был сегодня в Карши. Какие-то головорезы увезли дочерей у старшины водоносов. Не слышали ли чего-нибудь?
Собеседники промолчали.
Когда утомленного гостя напоили, накормили и уложили в михманхане спать, хозяин и Гияс-ходжа вышли, не сговариваясь, в соседнюю комнату. Сайд Ахмад был растерян; от недавнего высокомерия не осталось и следа. Гияс-ходжа взял хозяина за рукав и отвел подальше от двери.
— Вы оказали мне гостеприимство, брат мой Сайд, и я почитаю своим долгом помочь вам. Если Бадреддин найдет у вас тех, он с вас меньше чем сотен пять баранов не возьмет. Отберет он и девчонок, правда?
Сайд Ахмад молча кивнул головой.
— Если вы будете сопротивляться, то знаете,— Гияс-ходжа многозначительно хмыкнул.— Девушек нам надо сохранить. Оставить их здесь нельзя. Я еду в Кассанский тюмень и возьму их с собой. Прикажите все приготовить. А вы приезжайте завтра, или нет, лучше в пятницу,
— Я бы хотел... я сам отвезу их в дальние кошары.
— Нет, что вы! Ведь без воплей, плача не обойдется. Да и Бадреддин вас сразу хватится. А если из Каршей еще прискачут... Девушки поедут со мной.
— Но они же все равно поднимут крик...
— Не беспокойтесь. Представьте меня как духовное лицо. Пусть только закроют лица. Я уговорю, объясню.
...Сайд Ахмад стоял в сторонке. Он тяжело вздыхал, искоса поглядывая на бесформенные женскиз фигуры, закутанные в неуклюжие жесткие ткани.
Гияс-ходжа спешил и был краток.
— Вас, мои дочери Норгуль и Саодат, противозаконно похитили из лона семьи и привезли сюда, в степь, оторвав от матери и от отца. Властью, данной мне наместником аллаха на земле,— и он молитвенно провел руками по бороде,— я отменяю этот беззаконный поступок.
Хозяин шумно вздохнул и раскрыл было рот, но Гияс-ходжа поджал губы и кашлянул.
357
— Вы поедете со мной в безопасное место. Оттуда Сайд Ахмад доставит вас родителям и будет свататься, как подобает. Он почтенный человек и воспылал желанием жениться, как и надлежит доброму мусульманину, заботящемуся о продлении своего рода.
— Нет,— заговорила Саодат,— он схватил нас, как рабынь, он срывал с нас одежды, обнажая стыд, я не поеду с ним. Верните нас родителям, домулла, мы свободные девушки.
И так горячо говорила она, что Гияс-ходжа чувствовал сквозь сетку из конского волоса огонь ее глаз и сам он искал этого взгляда и проклинал завесу, натянутую исламом на лицо девушки. Впервые в жизни красноречие оставило ученого богослова и доводы его потеряли всякую логичность.
Норгуль и Саодат плакали под чачванами.
— Пусть хозяин уйдет. Он не смеет... не смеет приближаться к нам.
Ненависть звучала в словах Саодат. Норгуль робко вторила ей.
— Молчите, девки!— закричал вдруг Сайд Ахмад и шагнул вперед. Девушки вскрикнули и забились в угол.
Гияс-ходжа со страхом оглянулся на дверь, боясь, что шум разбудит Бадреддина, того самого Бадреддина, который, по рассказам, в своем имении близ Гиждувана «осчастливливал» своим вниманием каждую десятилетнюю девочку.
Повернувшись к Сайд Ахмаду, он злобно прошептал:
— Тише, дурной вы человек, уходите!
Ему пришлось выпроводить из комнаты Сайд Ахмада. Тогда уговоры возымели действие. Девушки согласились ехать. Да и что им оставалось делать? Этот благообразный, с тихой вкрадчивой речью, почтенный человек, благочестиво опускавший глаза и перебиравший четки, так непохож был на разнузданного скотовода, грубого и беспутного дикаря — их похитителя. Гияс-ходжа казался им избавителем от всех горестей и страшных бед, нависших над их беззащитными головами.
Ворота, чуть скрипнув, распахнулись, и темная осенняя ночь поглотила небольшой караван. В степи много дорог...
353
II
Много дорог в каршинских степях. И следы подков не держатся в пыли, так как здесь буйствуют, особенно осенью, сильные ветры...
С трудом дождался Сайд Ахмад отъезда Бадреддина. Еще не скрылись на краю степи черные фигуры всадников, а уж из ворот выезжала кавалькада во главе с самим помещиком. В десяти шагах от высоких стен степного поместья дорога разветвлялась. Куда ехать? Куда богослов повез девушек? Хуже всего — скотовод забыл спросить, в какое из селений Кассанского тюменя он поедет. А степь широка. И тропы идут отсюда на все стороны света.
Сайд Ахмад погнал коня по дороге в Кассан. Он обрадовался, когда, много часов спустя, увидел Гияс-ходжу, сидящего в большой базарной чайхане в кругу самых уважаемых и почтенных людей города. Спрыгнув с коня, степняк зашагал к своему недавнему гостю. Шумно поздоровавшись с ним, он развязно опустился рядом на ковер. Гияс-ходжа мельком взглянул на помещика и, удостоив его кратким приветствием продолжал рассказывать присутствующим о тонкостях толкования восьмой суры книги книг — корана.
Сайд Ахмаду стало не по себе. Он громко потребовал чайник чаю и невежливо дернул за рукав Гияс-ходжу:
— Мне нужно поговорить с вами!
Но Гияс-ходжа ровным голосом продолжал беседу, словно не замечая скотовода. Тогда тот, вспылив, проворчал:
— Ну, как дела?
На него зашикали, зашумели. Несколько человек вскочили, чтобы выгнать грубияна из чайханы. Но Гияс-ходжа остановил их:
— Не надо... Сейчас мы поговорим с этим самонадеянным царем бараньих стад.
Обернувшись к Сайд Ахмаду, ученый заговорил с пренебрежением:
— Живя в хлевах и кошарах, вы привыкли, видно, беседовать с козлами да баранами и, увы, даже попав в общество людей почтеннных, не в состоянии выдавить из своего горла ничего, кроме «бэ» да «мэ». Вы, Сайд Ахмад, идете по пути невежества и дикости, и нам не подобает вступать с вами в разговоры.
359
Ошеломленный помещик молчал. Он все ждал удобного момента, чтобы спросить о девушках. Наконец, когда споры поутихли, он чуть слышно задал вопрос, мучивший его всю дорогу:
— Куда вы упрятали их? Все благополучно? На лице Гияс-ходжи изобразилось недоумение.
— Упрятали? Кого? Что случилось, о чем говорит этот человек?— повышая голос, заговорил он.
— Ну, те самые. Саодат и другая, которых вы видели ночью в дыру, в стене...
— Я? Видел? О чем вы говорите?— Богослов добавил сокрушенным тоном: — Посмотрите как разврат захватывает в свои лапы даже достойных людей... Он пьян.
Сайд Ахмад отлично знал, чем грозит такое обвинение, и поспешил уйти.
Когда позже, при свете фонаря, Гияс-ходжа направился в конюшню проведать, как готовятся его слуги к дальнейшему пути, он встретился снова лицом к лицу с Сайд Ахмадом.
— Почему вы со мной не разговариваете,— петушился скотовод,— где девушки?
— О чем вы говорите? Какие девушки?
— Бросьте шутить!
— Я вас не понимаю. О каких девушках вы говорите? Моему сану не подобает такие... такой тон. Позвольте вам заметить, отсутствие почтения к высоким особам до добра не доводит.
— Не заговаривайте мне язык! Куда вы дели девушек? Где Норгуль, где Саодат?
— Я вас не понимаю. Друзья,— елейным тоном обратился к окружающим Гияс-ходжа,— этот человек одержим...
Степной феодал в ярости забыл о всяких приличиях. Размахивая камчой, он полез в драку. Присутствующие ахнули. Мыслимое ли дело? Оскорбить столь высокопоставленное духовное лицо! Сайд Ахмада грубо оттащили в сторону, усадили на коня и выгнали за пределы города.
Сайд Ахмад понял, наконец, что произошло.
— Ну и Гияс, ну и хитрец, — бормотал он.
В тот же вечер Гияс-ходжа продолжал путь в Бухару. Но он ехал не как обычно по большому степному тракту, а сделал большой крюк — через кишлак Карнап.
По всей видимости, философ поступил правильно. Не-
360
сколько дней Сайд Ахмад с вооруженным отрядом слуг патрулировал большую бухарскую дорогу. Но Гияс-ходжа перехитрил помещика.
Саодат и Норгуль были привезены ночью в загородный сад великого муфтия и водворены в ичкари. Сестрам было разрешено написать письмо родителям о чудесном их спасении из рук подлого насильника, при благословенной и великодушной помощи светоча ислама Гияс-ходжи.
Но письмо было направлено не раньше, чем влюбленный Меджнун — Гияс-ходжа сочетался браком со своей Лейли — Саодат и... с ее сестрой Норгуль.
Ничего предосудительного или противоестественного с точки зрения ислама Гияс-ходжа не совершил. Такие браки были вполне допустимы. Чувства же Саодат и Норгуль меньше всего интересовали богослова.
«Женщина прах следов мужа...»
Он даже любовался своим поступком. Он серьезно воображал, что совершил благородное деяние — спас девушек из рук грубого насильника...
Был как раз сезон браков, и Гияс-ходжа, соответственно своему сану и положению, не пожалел средств. Он считал, что свою возвышенную любовь к Саодат он должен выразить величественным торжеством. Нужно было сделать так, чтобы этот той заставил говорить о себе не только квартал, где жил Гияс, но и всю Бухару. Сотни, тысячи людей должны были разделить великую радость своего духовного наставника.
«Кыз-той» провели согласно всем установлениям. В двенадцати котлах шесть дней варили плов, а в каждый котел входило по пять пудов риса. Десятки красивых юношей вереницами двигались по саду с великолепными китайскими блюдами в руках. Под сенью гигантского карагача на берегу хауза восседал на особо почетном месте имам махаллинской мечети, рядом с ним судья и мударрис из местного медресе, на которое, по случаю радости, Гияс пожертвовал тысячу рублей золотом. Тут же присутствовали ишан, староста, баи. Гости попроще располагались в саду и во дворе. Ревели карнаи, пронзительно стонали сурнаи, далеко разносилась дробь барабанов. Крики временами сменялись почтительным шепотом; свадьбу удостаивали посещением виднейшие государственные мужи эмирата, те, кого называют «оли сарой» — высшие придворные.
361
Гияс-ходжа был поражен неблагодарностью своей юной жены, которая в первые же дни революции ушла из великолепного жилища, ушла совсем...
В коридоре своего дома Гияс-ходжа встретил Саодат — бледную, дрожащую, но преисполненную решимости. Даже в неверном сумраке он видел, как блестят ее полные ненависти и отвращения глаза, обращенные на него...
Гул канонады, гневные крики восставшего народа доносились и сюда, в отдаленный квартал Бухары. По коридору метались слуги. Плакали женщины.
Гияс-ходжа не сразу сообразил, что значит присутствие здесь жены в выходном платье.
— Саодат!
В возгласе его не звучали, как подобало, повелительные ноты. Это был стон человека, терявшего любимую женщину. Гияс-ходжа любил Саодат. Иное дело,— он никогда не искал ответной любви, он даже не понимал слово «взаимность».
Саодат молчала, дыхание с шумом вырывалось из ее груди.
— Любимая, ты испугалась смятения в городе?
Гияс-ходжа цеплялся за последний луч надежды. Он понимал, что говорит совсем не то, что надо, но через силу продолжал:
— Не бойся, я защищу тебя. Я спасу тебя. Кони готовы, мы уедем далеко...
Побледневшими губами Саодат проговорила:
— Я ухожу. Совсем ухожу...
Тогда духовный владыка, слово которого еще недавно было законом для правоверных, начал умолять. Снова и снова, нежно и мягко он говорил о своей любви. Ни единое слово угрозы не сорвалось с его губ, хотя временами ярость душила его. Он унижался, просил...
— Моя любовь неизмерима... Разве я хоть раз, хоть на пылинку обидел тебя, Саодат? Разве я отказывал тебе в чем-нибудь? Разве не было у тебя всего, о чем мечтает первая жена эмира?..
Саодат не слушала его. В глазах ее стояли слезы.
— Вы... Я не переношу вашего лица, я боюсь вас.
— Опомнись, Саодат! Я люблю тебя.
— Что знаете вы о любви? Вы спрашивали меня, люблю ли я вас? Сердце мое расплавилось от стыда.
362
— Саодат!
— Подковами сапог вы топтали мое тело! Вот ваша любовь...
— Поостерегись! Ты забыла о пылавших недавно на улицах города кострах? Ты забыла о несчастных, осмелившихся уйти от мужей, открыть лица? Разве не прибегала ты ко мне в безумном страхе, слыша отчаянные вопли сжигаемых заживо? Одумайся! Или ты хочешь, чтобы и с тобой так поступил народ? Ты едешь со мной!
— Не пугайте меня народом. Кто подговорил народ сжечь несчастных? Имамы и ишаны...
— Ты не уйдешь!
Она шагнула прямо на Гияс-ходжу. Она прошла мимо него, трепещущая от страха. Но он не тронул ее, он не посмел к ней прикоснуться. Он не приказал слугам задержать беглянку. Бессильно опустился Гияс-ходжа на циновку, устилавшую пол, и прислонился горячим лбом к холодной штукатурке стены.
...Костер потух. Только временами разгорались красные огоньки углей. За стенами хижины ровно гудел ветер. В дымовом отверстии шуршали камышинки.
Молчание нарушил Николай Николаевич:
— Этот Гияс все время за нами ехал, путался под ногами. Я думал, что он просто басмаческий шпион. А? Как вы думаете?
Кошуба не ответил.
След Кудрат-бия был потерян...
Теряли его уже и раньше, но тогда встречные дехкане охотно показывали дорогу, по которой ускакали басмачи. Сейчас же местность стала дикой и пустынной. На много верст кругом раскинулись заросли серебристой джиды, тополя и колючего кустарника, перемежаюшиеся с Камышевыми болотами. Дорога сузилась, превратилась в тропинку. Нигде ни души. Круглое красное солнце спускалось в молочную жижу тумана.
Ехали молча. Над болотистыми тугаями висела тишина, только чавкали в черной грязи копыта лошадей да слышалось сердитое пофыркивание.
Вытянувшись в линейку, двигались на почтительном расстоянии от Санджара бойцы. Они страшно устали, но ни одного слова недовольства не раздавалось, хотя ехали без отдыха уже много часов.
363
Впереди покачивался на гладком холеном коне мрачный, свирепый на вид бородач. Под его страховитой внешностью таится душа ребенка. Дехканбай — добродушный весельчак, любитель чайханы, хорошей песни и дружеской беседы. Еще недавно он был, как сам говорит, «ничем». Тот день, когда семья его ела плов с мясом, был большим, радостным праздником. У него, хотя его и назвали при рождении баем,— не было ни земли, ни быков, ни плуга, не было даже кетменя.
Дехканбай был издольщиком. Весной он приходил к помещику и стоял на дворе около верблюжьей конюшни, сложив руки на животе. Шел дождь, шел снег, было холодно, а он все стоял и ловил взглядом, не покажется ли «его бекство» в дверях михманханы. А когда помещик появлялся, Дехканбай подбегал к нему и, переламываясь пополам, кланялся в пояс.
— Что делать?— вспоминал Дехканбай, и картины недавнего прошлого бежали перед ним чередой.— Что было делать? Я был ничтожнее грязи на сапогах хозяина богатства, и я рад был слышать, когда он говорил мне: «А, Дехканбай, ты пришел? Хорошо, хорошо! Только год плохой. И я, пожалуй, не буду сеять. Одни убытки. Но бог велит быть милостивым, и я хочу дать тебе кусок хлеба. Начинай пахать. Шестая часть урожая — твоя». Эх, и бай был у нас!.. Но что было делать с этим жадным волком?
Дехканбай шел в хлев, надевал ярмо на байских быков. Вспахивал девять-десять десятин земли. Засевал их рисом, хлопком, дынями, арбузами. А осенью на току делили плоды трудов Дехканбая. Приезжал господин дехканских душ — помещик. Из каждых шести мешков зерна пять он увозил на своей арбе. А из оставшегося урожая приходилось платить подать бекскому сборщику налогов и за себя и за бая. «У нищего украли грош»,— говорили в народе.
В год плохого урожая помещик чернел лицом. На Дехканбая сыпались проклятия. Вся тощая жатва попадала в байский амбар. Ничего не получал издольщик, а ведь надо было целую зиму и весну кормить семью...
У Дехканбая басмачи не убили ни жену, ни мать, ни детей. И воюет он не из мести. Нет! Он знает только, что басмачи защищают баев и помещиков, хотят заставить таких, как он, работать снова на богачей. Не будет
364
этого! Клятву он дал великому Ленину, что не будут баи больше сидеть на спине трудового люда.
В двух шагах от Дехканбая ехал приземистый некрасивый, с широким лицом, узенькими глазками и длинными рыжими усами Нурали. Он ферганец. Десять лет назад, в голодный год, он попросил у бая в долг сто рублей. Но снова случился неурожай, семья голодала, дети умирали один за другим. Сам Нурали ходил с пустым животом. После многих слезных просьб бай деньги дал, но у судьи записал в долговую расписку в залог все шесть танапов земли Нурали, его мазанку, паласы, одеяла и даже колыбель. В расписке было сказано, что через год Нурали должен вернуть четыреста рублей (а не двести). Через год рассчитаться с долгом не удалось. Еще через год сумма возросла до четырехсот восьмидесяти рублей. Нурали прогнали из дому с женой и пятью ребятишками. Так и батрачил с тех пор ферганец Нурали. За целое десятилетие ничего не приобрел, ничего не заработал. Из пяти детей трое умерли, родилось еще двое. Жена стала совсем больной... Боец Нурали воевал хладнокровно и спокойно, с полным равнодушием к смерти. Пощады врагу он не давал.
Мумин был музыкантом. У него тоже не было личных счетов с басмачами, но с первых дней бухарской революции он стал в ряды вооруженного народа. Его отец, его дед, прадед, братья — все были музыкантами и состояли в цехе музыкантов города Бухары. Главный цеховой старшина Мирзо-бобо посылал Мумина на свадьбу, той, семейные торжества. За каждое свое выступление музыкант получал копеек восемьдесят, рубль, да и то, если пресмыкался перед богатеями. Половину заработка приходилось отдавать Мирзе-бобо, якобы в пользу цеха. Заработанного не хватало на жизнь. Чтобы поправить свои дела, музыканты ходили по улицам и дворам и выпрашивали подаяние. И хоть на Востоке и говорят: «Музыканты — радость народа», но на самом деле и Мумин и его родственники мало чем отличались от нищих...
Боец отряда Абдурасуль, по прозвищу Стрела, работал на Каганской бойне Шаревского. За все тридцать два года рабочей жизни он не имел ни одного выходного дня, если не считать дня женитьбы. В праздники и по пятницам работали, как всегда, в грязи, смешанной с кровью, в зловонных испарениях. Зарабатывал Абдура-
365
суль шестнадцать рублей в месяц, и многие ему завидовали. Но труд был изнурительный. После обеда в понедельник он шел на бойню и, не отрываясь, работал до среды. Двое суток он был на ногах и не имел права прилечь и закрыть глаза хоть на минуту. В четверг Абдурасуль снова шел на работу и возвращался домой только в субботу вечером. Затем снова выходил на работу в воскресенье. Так рабочие бойни из трех ночей спали только две. Шесть мясников должны были за двое суток убить и разделать триста баранов или тридцать-тридцать пять лошадей.
Когда Абдурасулю приносили из дома обед, он засыпал около миски с похлебкой. Он не мог поднести одеревеневшую руку ко рту. Все тело болело. Но Абдурасуль знал, что если он заболеет, Шаревский выгонит его на улицу.
— И я работал и больной и здоровый,— рассказывал Абдурасуль,— лишь бы достать на завтра лепешку, лишь бы набить свой живот постным машевым супом и не подохнуть с голоду.
В бурные дни бухарского восстания Абдурасуль в рядах вооруженного народа бок о бок с бойцами Рабоче-Крестьянской армии штурмовал стены столицы эмира. В отряд Санджара Абдурасуль пришел членом коммунистической партии большевиков.
По доброму своему разумению пришел в отряд Санджара и коммунист Ша-Искандер Чилингар, резчик по металлу. С горечью он рассказывал о своей жизни.
— Я был искусный резчик. Уходил я из дома на рассвете, а прекращал работу, когда нельзя было разглядеть вытянутой руки. Всю жизнь я просидел, не видя солнца и синего неба, в темной закопченной мастерской, поднимая и опуская свой молоток, но никогда не было такого случая, чтобы за день я заработал больше рубля. И как бы сильно и метко не ударял мой молоток, я не был в состоянии выколотить хоть десять копеек лишних. Но и это было хорошо; ведь мардикер зарабатывал пятнадцать-двадцать копеек в день. Пока я был здоров, я был сыт. Но стоило мне как-то недели две поболеть — и моя жизнь и жизнь моей семьи разрушилась. Пришлось продать и самовар, и калоши, и халат, и последнюю кошму. В другой раз, когда я болел, жена взяла деньги у ростовщика.
366
За десять рублей пришлось через месяц отдать тринадцать.
Глаза Ша-Искандера загорались, когда он говорил:
— Санджар воюет против ростовщиков и баев, против беков и налогосборщиков. Я пришел к нему, чтобы помочь большевикам разрушить крепость эмира, так, чтобы никогда она не могла снова подняться.
В отряде Санджара не было военных людей. Но все бойцы — батраки, рабочие, дехкане, кустари, пастухи — сражались храбро.
Каждый, кто приходил в отряд, рассказывал перед строем о своей жизни.
Затем говорил Санджар:
— Вы видите, товарищи, какие жалкие крохи оставил на вашу долю бог и толстосум. Хотите, чтобы и дальше так было? Нет! Посмотрите: вот наше знамя, на нем написаны золотые слова вождя трудящихся Ленина: «Земля крестьянам, фабрики и заводы трудящимся!»
— Помните, что, вступая в наш отряд, каждый должен стать в душе большевиком и на деле большевиком. А что значит быть большевиком? Это значит быть честным перед народом, защищать угнетенных, к какому бы народу они ни принадлежали, помогать беднякам, быть беспощадным к угнетателям и врагам трудящихся — баям, бекам, помещикам и прочим зверям. Поцелуй знамя и поклянись, что будешь воевать, пока ни одного бая или басмача не останется на нашей земле.
Санджар знал своих людей и вел их вперед не оглядываясь.
...Становилось сумрачно и сыро.
— Командир,— сказал Дехканбай,— сейчас будет усадьба, моего дяди Сайфи-дивана. Если его сын Султан дома, он много нам расскажет. Он и его отец знают все, что делается в тугаях, даже куда заяц бежит или где кабан пробирается к дехканской бахче. Все знают.
— Вот куда мы попали! Про Султана я слышал...
Уверенно лавируя среди колючих стен высокого кустарника, Дехканбай вел всадников вглубь тугаев. Через несколько минут отряд выехал на заросшую высокой травой дорогу и оказался перед воротами одинокой усадьбы. Усадьба казалась заброшенной. Глинобитные дувалы оплыли и обрушились, и ворота одиноко поднимались из зарослей колючки. Их можно было свободно объехать с
367
обеих сторон, но Дехканбай с важным видом постучал в створки.
— Кто там?— откликнулся старческий надтреснутый голос.— Сейчас, сейчас...
Послышалось шарканье ног, обутых в калоши, из-за угла мазанки появился старик. Подойдя к воротам, он крикнул сердито:
— Какие там кабаны шляются по камышам ночью?
— Эй, дядюшка Сайфи, открывай!— позвал Дехканбай.
— А, это ты, племянничек!
Зазвенел засов, огромные створки ворот распахнулись. Сайфи обнял спешившегося племянника и ворчливо продолжал:
— Ты все бродишь по свету, наживаешь беду. Забыл, какое наше время? Забыл, что сколько бы ни дружили кувшин с казаном, все же они столкнутся, и тогда...
— Это кто же казан?— засмеялся Санджар.
— Ну, конечно, уж не Дехканбай,— проворчал Сайфи. Он повел Санджара и его спутников через большой, поросший бурьяном и чертополохом, двор. В наступивших сумерках можно было разглядеть, что сравнительно зажиточное когда-то хозяйство дядюшки Сайфи пришло в полное запустение: арба стояла поломанная, без колес, крышу амбара размыло дождями и в стенах зияли дыры, открытые настежь хлевы и кладовые были пусты. Тугайный ветер гонял по двору взад и вперед солому, какие-то клочья тряпок, сухую колючку...
Доведя гостей до дверей михманханы, хозяин вдруг спохватился и засеменил назад. Подбежав к воротам, он начал тщательно задвигать засов и греметь замком. Санджар и бойцы с удивлением смотрели как этот одряхлевший старик трясущимися руками тщательно запирал никому не нужные ворота.
Когда все уселись на заплатанные одеяла, помыв предварительно руки, Дехканбай, пользуясь тем, что хозяин не показывался, начал вполголоса рассказывать.
— Бедный мой дядя совсем выжил из ума, и все теперь зовут его Сайфи-дивана. А какой это был умный и уважаемый человек! Но и мудрость тонет в слезах. Вы видели — вокруг усадьбы сейчас одни тугаи; а два три года назад здесь стояли дома кишлака Яр-тепе. На улицах его бегали детишки. Аист вил гнездо на минарете старой
368
мечети. Мой дядя Сайфи-жил тихо и смирно. Были у него жена, сын и три красавицы дочери. Было у него немного земли и пара волов. В его печи каждый вечер выпекали ячменные, а иногда и пшеничные лепешки. Наступили времена революции. Дехкане прогнали бая Шакар-палвана из кишлака Яр-тепе. Но тогда явился Кудрат-бий и заставил дехкан принять бая обратно. Вскоре народ опять рассердился, уж больно бай стал самовольничать. Не знаю как вышло, но Шакар-палвана нашли на пороге его дома мертвым. Прискакали басмачи, перебили много дехкан, а жен и детей их зарезали, как баранов. Кудрат-бий, да умрет его душа, запретил хоронить убитых: «Пусть эта мертвечина свидетельствует о моей силе и могуществе». Сайфи был старостой в Яр-тепе. Его привязали к столбу на площади, чтобы он смотрел на казнь. И он видел, как воины ислама насиловали его дочерей. Вот на этих самых воротах они повесили за косы голых женщин и девушек... Дома разрушили, все пожгли... А моего дядю оставили в живых, чтобы он всем рассказывал о случившемся; но у Сайфи помутился ум, и он ничего не рассказывает с тех пор...
Появился Сайфи. Он суетился, приходил и уходил, выполняя обязанности гостеприимного хозяина. Он часто поглядывал на Санджара, и взгляд этот, как с удивлением обнаружил командир, был совсем не такой уж бессмысленный.
А Дехканбай продолжал рассказывать вполголоса:
— Сайфи живет здесь со средней дочерью. Она спряталась тогда в камышах и уцелела. Только она тоже стала немного помешанной. Ну, теперь басмачи, хоть и бывают иногда в этих краях, не трогают их. У мусульман, даже не имеющие ни совести ни сердца басмачи, не смеют обижать слабоумных. Они — божьи люди.
Когда уже совсем стемнело, в ворота постучались.
Через минуту Сайфи привел невысокого человека в круглой лисьей шапке.
Переступив порог комнаты, человек долго протирал глаза, слезившиеся от едкого дыма костра, кашлял, поглядывал на хозяина. Пришедший, видимо, никак не решался заговорить.
Тогда Сайфи протянул руку и вытащил из-за пояса нового гостя свернутую трубочкой бумагу. Приблизившись к костру, Сайфи начал читать вслух:
369
«Мусульмане, вы продались и не думаете о будущей жизни. Есть два рода людей: одни — верующие мусульмане, а другие — неверные, которые попадут в ад: Мы раньше думали, что вы наши друзья, а оказывается — вы наши первые враги. Но мы все равно вам отомстим, даже если придется нам погибнуть. Опомнитесь! В вашем кишлаке Гумбазе окружены и издыхают в осаде двадцать красноармейцев. Джигиты нашего верного помощника Ниязбека крепко ухватили их за ворот, но они еще смеют сопротивляться. Приказываю немедля помочь моим воинам, иначе будет вам плохо. Мы не говорим — бог вас накажет, мы сами найдем вам наказание...»
Старик пожевал губами и прибавил: — А подписался кровавой своей лапой: «Командующий всеми войсками Гиссара и Байсуна Кудрат-бий парваначи».
— Ну, и что же? — спросил Санджар пришедшего.
— Кудрат-бий послал с этой бумагой своих конных людей по окрестным кишлакам. Никто из дехкан не послушался. У нас в Гумбазе тоже не нашлось, кто бы пошел помогать басмачам.
— Ну?..— протянул Санджар.
— Уже Шариф-бобо и мельник Башир, за отказ и неповиновение повешенные за шею, кончили свои дни на площади около мечети,— сказал мрачно новый гость.
— А народ молчит? Что у вас, бараны в Гумбазе или люди?
— У нас есть палки. Нет винтовок,— коротко возразил пришедший.
— Что же красноармейцы?
— Они проделали в дувале, окружающем двор ишана Мирзы-бобо, бойницы и перестреляли уже много басмачей. Ночью, когда темно, наши мальчики ползком пробираются во двор и приносят краснармейцам хлеб, воду. Помогите нам! Приезжайте скорее. Наши дехкане не хотят больше слушать курбашей. Сам ишан Мирза-бобо послал меня к вам показать эту бумагу... Приезжайте, иначе красноармейцы пропадут. Трое ранены. Двое все время дрожат в лихорадке.
— Вот что,— сурово сказал Санджар,— сам я с вами не поеду и своих бойцов не пошлю...
— Как?..— разочарованно протянул человек в лисьей шапке.
370
Среди бойцов отряда послышался тихий ропот. Не обращая внимания на это неслыханное нарушение дисциплины, Санджар еще резче бросил:
— Ни одной винтовки не дам вам.
Гумбазец даже потемнел; он потерял дар слова.
— Ни одного патрона...
— Но...
— Молчите и слушайте. Кто водит дружбу с Кудрат-бием, тот враг Красной Армии, враг Советов.
Гумбазец опустил голову и с деланным интересом стал разглядывать узор кошмы.
— Вот мой ответ. Сейчас же скачите к себе в Гумбаз. И чтобы сегодня же басмачей и духу там не было.
— Но как... Что могу я, бедный слабый человек? Вот, если вы со своим отрядом придете, тогда мы... э... поможем вам... э... продуктами, фуражом.
— Слушайте вы, господин Мирза-бобо! Что вы думаете: сняли чалму и в вас никто не узнает ишана? Вы и еще кое-кто из ваших разве не были у басмачей? Вы что же думаете, нам это неизвестно?
Еще ниже опустив голову, гумбазец молчал.
— Вот и все,— продолжал Санджар.— Вы своими руками... Собственными руками должны покончить с басмачами.
— Надо подумать.
— Думать некогда. Будет поздно думать, когда я сам приду туда. Поняли?
— Да понял.
Ишан тихо вышел.
Не обращаясь ни к кому, Санджар заметил:
— Плохо, видно, извергам приходится, если от них ишаны да баи отшатнулись.— Поманив Сайфи, командир спросил:— Никто не приходил еще из Гумбаза?
— Пришли. Два бедняка. Один — сын убитого мельника, другой — активист Бута. Они не хотели заходить, пока здесь ишан был... Не доверяют ему.
— Правильно делают. Позови их.
Когда два бедно одетых дехканина появились на пороге, Санджар вскочил и пошел им навстречу. Он обеими руками пожал им руки и со словами: «Пожалуйте, прошу!»— усадил на одеяло.
Только изучив лица всех присутствующих, Бута заговорил:
371
— Этот ишан, который сейчас был — плохой человек. Сейчас он пойдет к басмачам, к Ниязбеку, и расскажет, чтобы снискать милость, сколько у тебя воинов, и будет кушать за его дастарханом. Покушает и пойдет тайком к командиру красноармейцев с мешком риса и скажет: «Я друг большевиков, вот вам рис, кушайте». У этого ишана два лица, два языка и две души.
— Чего же вы его держите?
— О, этого ишана все очень уважают. Он излечивает болезни одним только прикосновением руки... Он...
— Ладно,— перебил дехканина Санджар,— потом разберемся, как лечит ваш ишан. Сейчас не до того. Расскажите, что думают дехкане.
— Дехкане?— переспросил пришедший.— Дехкане ждут помощи. Если только ты, Санджар, нам поможешь, мы ударим собак Ниязбека. В кишлаке стон и плач от них. И если все красные бойцы не были бы больны, мы давно так поступили бы с насильниками и грабителями. Помоги нам, Санджар-батыр.
— Хорошо, Бута. Ты дело говоришь. Но помни: ты и твои гумбазцы очень виновны перед Советской властью, перед народом. Вы, гумбазцы, до последних дней вели себя, как капризные бабы, непонимающие, где вред, где польза и норовящие сесть вместо одеяла на горячие угли очага. Разве вы не помогали Кудрат-бию?
— Мы... мы боялись его гнева.
— А! Вот в чем дело?! Вина ваша безмерна, и я требую, чтобы дехкане Гумбаза искупили ее. Сегодня на рассвете дехкане — и старые, и молодые, и женщины, и юноши — возьмут ножи и кетмени, палки, а те, у кого не найдется палки, пусть наберут за пазухи и в подолы камней и обрушат гнев свой на спящих басмачей. И пусть бьют их чем попало до тех пор, пока они не умрут, или не убегут, или не отдадутся в их руки. Пусть бьют их. Мы вам поможем, хоть вы и не заслужили этого.
Лицо Буты просветлело. Волнуясь, он проговорил:
— И Советская власть тогда простит гумбазцев?
— Советская власть всегда помогает беднякам и батракам... Идите же, поднимайте народ. Пусть сегодня сердце каждого гумбазца станет сердцем льва.
Едва гумбазцы вышли, Санджар подозвал своих помощников и отдал приказание:
372
— Вот что, Дехканбай. Возьми двадцать бойцов и отправляйся на Гиссарскую дорогу. Если басмачи побегут, действуй, не выпускай их. Если до утра в кишлаке будет тихо, ударьте на Гумбаз сами.
— Предупредить красноармейцев?
— А зачем? Вашего гонца могут перехватить басмачи. Бойцы — буденовцы, они сами, когда все начнется сообразят что делать. Выступайте, как только кони немного отдохнут... Через три часа — все равно, воины ислама в темноте не воюют. До утра ничего в Гумбазе не изменится, а к рассвету вы будете там. Абдурасуль подойдет к Гумбазу с восхода солнца и, едва закричат на рассвете петухи, ударит по спящим басмачам. Я же с остальными бойцами подойду со стороны Белого бугра. Все... А теперь часика два поспим.
Когда Санджар уже лежал под одеялом и широко открытыми глазами всматривался в темноту, к нему неслышно подошел Сайфи.
— Девушку увезли за Сурхан,— зашептал он.— Увезли люди Бутабая для одного ходжи. Кишлак Бутабая отсюда за пять ташей. Кудрат-бий уехал из Гумбаза к Бутабаю, там они будут совещаться. Он взял с собой только полсотни нукеров, самых отборных. К Бутабаю ждут людей из-за Пянджа. Должны привезти какие-то бумаги, пулеметы, патроны... Помогают афганцы и, если правду говорят, за Пянджем видели инглизов; они раздают этим проклятым золото и оружие.
Старик еще долго что-то шептал.
— Ну, а Гумбаз?— спросил вдруг Санджар.
— Еще солнце не встанет над горами, а вихрь выметет сор из кишлака Гумбаз.
IV¹
Кони за ночь отдохнули и подкормились. При переправе через веселый Сурхан они искупались в студеной воде, и в их мускулистые, лоснящиеся в первых лучах, утренней зари тела влился огонь озорства. Впереди, грызя удила и вздергивая ежеминутно голову, несся Тулпар. За ним еле поспевали остальные.
Вокруг расстилалась холмистая степь, преддверье таинственного Локая. Где-то в дебрях его, неизвестно — близко или далеко, лежало логовище Бутабая — кишлак
373
_______________
¹III глава пропущена, возможно, перепутана нумерация глав (Д. Т.)
 Шулюм, куда
басмачи увезли Саодат... Санджар хмурил свои густые, широкие брови, сжимал
нетерпеливо губы и старался не думать о ней. Сейчас нельзя было отвлекаться.
Горстка израненных, больных бойцов требовала немедленной помощи.
Шулюм, куда
басмачи увезли Саодат... Санджар хмурил свои густые, широкие брови, сжимал
нетерпеливо губы и старался не думать о ней. Сейчас нельзя было отвлекаться.
Горстка израненных, больных бойцов требовала немедленной помощи.
Внезапно он что-то крикнул и с гиком поскакал к высокому кургану, высящемуся над обрывом, круто падавшим к Сурхану. Храпя и фыркая, Тулпар по крутой тропинке вынес всадника на вершину.
С трудом сдерживая разгоряченное животное, Санджар полной грудью глотнул свежий воздух и огляделся. Влево и вправо уходила блестящая лента Сурхана; за ней желтели обрывы, а над ними — заросли тугаев и далеко, до самого Гиссарского хребта тянулись зеленые камыши.
Пустынной казалась отсюда Гиссарская долина. Не видно было ни домика, ни шалаша, ни живой души. Нетерпеливо перебегая взглядом с одного темного пятна на другое, Санджар искал чего-то, сжимая в руке бинокль. Над самым ухом прозвучал голос Сайфи:
— Смотрите чуть левее. Видите белую полоску? Это Дюшамбинский тракт... вот-вот. А вот ниже... ближе к нам зеленеют чинары. Это Гумбаз.
— Вижу, вижу!— радостно вскрикнул командир,— вижу красное пятнышко.
— Да, это флаг красноармейцев над домом ишана Мирзы-бобо.
— Не пройдет получаса, и мы будем там. Ну, Ниязбек, держись!
Он подтянул удила, и Тулпар затанцевал на месте.
— Минуточку,— проговорил, слегка задыхаясь, Сайфи,— всмотритесь ниже. Видите еще полосу?
— Да.
— Дорога на Гиссар. Следите за ней. Тише. Слушайте.
Оба напряженно, до звона в ушах вслушивались в тонкий посвист степного ветра. Шелестела сухая трава на облысевшей голове кургана, позвякивали удилами кони. Солнце еще пряталось за горами, но стало совсем светло. Высоко в небе кружил орел. Тишина стояла над холмами Локая, над долиной, над Гиссарским хребтом. Внизу, у подножья кургана, застыли маленькие фигурки всадников, их лица были обращены к вершине холма.
374
Бойцы внимательно следили за движениями своего командира.
Санджар снова навел бинокль на белую полоску Гиссарской дороги и вздрогнул от неожиданности. По ней в сторону кишлака быстро двигались темные точки. Одновременно прозвучал сдавленный голос Сайфи.
— Слышите?
Порыв ветра донес сухие, щелкающие звуки... Стреляли из винтовок.
— Это там, в Гумбазе,— благоговейно проговорил Сайфи,— началось.
— Началось,— подтвердил Санджар. И спросил:— А на дороге, видите? — Он протянул Сайфи бинокль. Но старик отстранил его и кивнул головой. Он сказал полувопросительно:
— Дехканбаевские молодцы? Вот они доехали до мельницы, погибшего от притеснений Башира. Вот они съезжают с дороги, там их не видно будет за дувалом. Правильно делают! Оттуда хорошо будет ударить.
Ветер переменился или перестрелка в кишлаке прекратилась, но звуков выстрелов больше не было слышно. Санджар в нетерпении так натягивал повод, что Тулпар то оседал на задние ноги, то становился в ярости на дыбы.
— Ох,— бормотал Санджар,— как долго... как долго! Как они медлят...— И, обращаясь к Сайфи, заметил:— Ну, кажется, обошлись без нас... Теперь им не уйти. Молодец Абдурасуль!
Но Сайфи только улыбнулся в усы. Со стариком произошла разительная перемена. Он сидел в седле выпрямившись, брови его были нахмурены, и ничего нельзя было найти в его лице, оправдывающего прозвище «дивана».
Протянув вперед руку, Сайфи торжествующе закричал:
— Вот! Вот!
Темные пятнышки ползли по белой ленте дороги, выкатываясь из-за группы чинаров. Все больше и больше. Вот потемнела вся дорога. Это басмачи, кто верхом, а кто и пеший, стремительно покидали кишлак Гумбаз. Вновь донеслась оживленная трескотня перестрелки. И стрельба эта звучала в ушах Санджара праздничной музыкой.
375
— Гонят,— шептал он,— гонят! Погнали! Хорошо!
— Смотрите, командир,— прозвучал голос Сайфи,— сейчас ударит Дехканбай.
Напряженно всматривался Санджар в то место, где была засада. И хоть от волнения прыгал и дрожал в руке бинокль, но командир все же разглядел расстановку сил.
Дехканбай расставил своих бойцов на повороте широкой дороги так, чтобы она оказалась под прицельным истребительным огнем. По обеим сторонам дорожной насыпи тянулись болота и заброшенные топкие рисовые поля, почти непроезжие для всадников. И когда басмачам, преследуемым бойцами Абдурасуля и дехканами восставшего кишлака, преградили путь кавалеристы Дехканбая, то лишь очень немногим бандитам удалось ускользнуть в тугаи и заросли камыша.
Не мог, конечно, разглядеть со своего кургана Санджар все подробности славной стычки у мельницы. Но и того, что он видел в бинокль, было достаточно.
Радостный крик вырвался из его груди, когда он увидел, что басмачи мечутся под выстрелами, словно муравьи в горящей соломе. Еще несколько минут — и все было кончено.
Отряд отборной гвардии Кудрат-бия был уничтожен. Дорога почернела от трупов.
— А теперь за головой Кудрата!
Санджар бурей ринулся вниз по крутому склону и с ликующим возгласом «Победа, победа!» помчался по твердой, как асфальт, горной дороге к селению Шулюм...
До поздней ночи гумбазские дехкане и бойцы, вырвавшиеся из железного кольца осады, вылавливали мечущихся по тугаям всадников и собирали оружие.
V
Свеча горела медленно. Фитилек, потрескивая, разбрасывал искры, чадил перегоревшим бараньим жиром. Вся комната тонула в сумраке, только около низенького столика колебался круг желтого света, освещая книги в блестящих кожаных переплетах с цветным арабским тиснением. В руках сидевшего на коврике Гияс-ходжи шуршали пергаментные листы рукописи.
Ходжа был в золотой ермолке, в тончайшего полотна белой рубахе, подпоясанной шелковым платком. Изящ-
376
ные туфли с загнутыми носками аккуратно стояли рядом с ковриком, как раз на грани тени. Богослов расположился с удобством, по-домашнему. Кто бы мог сказать, судя по его невозмутимому виду, что он за двое суток проскакал полтораста верст верхом по холмам, пыльным дорогам, что ему пришлось дважды, боясь погони, скрываться в тугаях Сурхана?
Гияс-ходжа читал, или делал вид, что читает. По крайней мере, вот уже много минут страница книги, которую он держал в руках, так и оставалась не перевернутой...
Изредка он отрывался от рукописи и поглядывал вопросительно прямо перед собой. Потом веки его снова опускались, и только зрачки чуть поблескивали сквозь густые черные ресницы.
У стены на груде одеял лежала женщина, прикрытая расшитым покрывалом. По нервно шевелящимся пальцам обнаженной руки, перебиравшим материю, видно было, что она не спит.
Молчание в комнате ничем не нарушалось. Лишь извне, из глубины ночи, доносился беспокойный лай кишлачных собак...
Свеча медленно таяла. Жир оплывал и желтовато-прозрачными сосульками спускался с розетки фигурного подсвечника.
Внезапно запел сверчок. Женщина вздрогнула. Гияс-ходжа бросил быстрый взгляд в ее сторону. Словно обрадовавшись поводу нарушить тягостное молчание, он заговорил, продолжая давно прерванный разговор:
— Есть много способов заставить вас смириться и выполнять ваши обязанности...
И так как женщина не сочла нужным отозваться, Гияс продолжал:
— Если б я был кровожадным тираном, как вы говорите, я бы нашел много путей. Силу, например... Кнут. Он ведь действует даже на грубые тела крестьянок, а не только на такую нежную кожу, как ваша... А знаете, Саодат,— он откинулся и, прислонившись спиной к стене, беззвучно рассмеялся,— знаете, как поступил наш хозяин, вы видели его, не правда ли, добрейший с виду толстяк, да, наш хозяин со своей новой женой... Она, видите ли, сочла ласки мужа в свадебную ночь слишком назойливыми и прямо с брачного ложа на рассвете убежала.
377
Бутабай поймал ее, бросил в яму и сам, собственноручно, засыпал ее полдня землей. Сначала по пояс, потом по грудь, затем по шею, до рта... да, до рта. Потом она могла дышать только носом. А затем она умирала три дня, эта своенравная локайка... Разве можно перечить мужу, любовь моя!
В бесстрастном голосе Гияса прозвучали нежные нотки.
— Я могу перечислить тысячи наказаний, применяемых к непослушным женам, да еще большевичкам, забывшим закон пророка, из которых смерть прекрасной локайки окажется не самой ужасной. Но нет, я отнюдь не изверг. И зачем? Ведь я муж ваш. И я ничего не сделал, что не соответствовало бы моему положению мужа... моим правам.
— И вы думаете,— глухо прозвучал голос Саодат,— и вы думаете, что я... Нет, вы знаете сами... Я прошу, если вы не зверь, отпустите. Женой вашей я не буду...
— Но вы моя жена по шариату, а по закону женщина не может дать развод мужу. Только муж может развестись с женой. По шариату...
Спохватившись, что он говорит не то, Гияс смолк.
Саодат резко поднялась и села на одеяла.
— Никогда, никогда!— злобно и в то же время жалобно закричала она.— В вас нет и песчинки того, что называется любовью. В вас только одно... только одно. Вы только муж и повелитель, собственник тела, но не души... Никогда, никогда не подчинюсь я воле зверя...
— Зверя?— слово это прозвучало, как рыдание. Гияс вскочил:
— Знаете, Саодат, жена моя,— страстно заговорил он,— пусть я мусульманин, пусть я великий муфтий, пусть законник, но я человек. Да, такой же, как великие наши поэты мусульмане. Да, они были мусульманами, и воспевали любовь, и любили томный вздох девушки, золотые звезды глаз, нежную упругость грудей, аромат кудрей... О, разве Навои не был мусульманин, а Мукими, а...
Протягивая руки, он шагнул вперед. Саодат резким движением закуталась в одеяло, упала ничком на подушки.
Опустив бессильно руки, сгорбившись, стоял над ней Гияс-ходжа. Лицо его подергивалось.
378
— Я не отпущу тебя, Саодат,— глухо сказал он.— К чему привыкло сердце, того оно не оставит, хотя бы вспыхнул пожар.
— Я убегу...
— Мы найдем тебя...
— Я снова убегу.
— Я убью.
— Убей!
— Смерть страшна, Саодат. Тебя поставят на колени. Грубо оттянут твою прелестную головку назад и тупым ножом будут пилить твою нежную шейку, пока не перережут горло и ты не захлебнешься своей собственной кровью...
Саодат молча плакала. Тогда Гияс сказал:
— Ну!..
— Я уйду!
Закрыв лицо руками, Гияс вернулся к столику и тяжело опустился около него.
После долгого молчания он снова заговорил:
— Саодат, неужели я хуже этого грязного пастуха с запахом овечьего пота?..
Саодат отозвалась возмущенно:
— Как у вас язык повернулся говорить подобное о великом воине!
— Ты любишь его? Он твой возлюбленный?
Что делалось с Гияс-ходжой? Куда девался его бесстрастный тон? Голос его дрожал. Он ждал и страшился ответа.
Саодат украдкой наблюдала за ним из-под полуопущенных век, но ничего нельзя было прочитать в ее лице, кроме равнодушия.
— Ты любишь его?
— Отпусти меня или убей...
— Душа моей жизни! Уедем в горные сады Бадахшана, на берег голубого озера Шива. У меня богатства в руках,— он говорил спеша, захлебываясь, боясь, что она не захочет его слушать, ускользнет от него, хотя отлично знал, что двери и ворота на запоре, что верные псы — его слуги не дадут ей сделать и шага.— Ты будешь в шелку, в золоте, как гурия рая.
Он говорил еще долго. Он сулил, он обещал, он умолял. Он ползал перед ней на коленях. И это было страшнее, чем когда он грозил и злобствовал.
379
Саодат молчала. Перед глазами, как в полусне, проходили последние дни. Она с горечью вспоминала все, что случилось так нелепо. И остановившую ее на улочке кишлака старушку, такую добрую и несчастную, и посещение домика этой почтенной бабушки. И свою наивную доверчивость, приведшую к тому, что она попала в крытую арбу, где ее поджидал Гияс-ходжа. И долгую дорогу. И все, что было потом... Ее начинало мутить...
— Ваш дружок скачет сюда... Но он вас даже не увидит. Не успеет... Санджар-непобедимый кончит свою жизнь здесь, в грязном кишлачишке. Неплохой конец для влюбленного дурака... До чего доводит любовь, а?
Вопль Саодат испугал Гияс-ходжу.
— Вот теперь я вижу дно твоей души,— проговорил он.— Санджар — твой любовник... Тебя побьют камнями, как неверную жену... Как вероотступницу.
— Нет, нет... — умоляюще протянув руки к Гияс-ходже, молодая женщина твердила:— Я буду вашей женой... хорошей, любящей женой, но не дайте гневу ослепить себя. Не дайте погибнуть великому воину.
— Ты не обманываешь?
В смятении он бросился к двери, затем вернулся. Снова побежал к выходу, но тут же подошел к Саодат, обнял ее за плечи и, стараясь заглянуть ей в глаза, прошептал:
— Ты меня полюбишь...
Дрожь отвращения пронизала тело Саодат.
Руки Гияса разжались. Он встал и, волоча ноги, прошел через комнату. У двери он остановился и медленно проговорил:
— Все... Саодатхон, я даю тебе развод. Развод вместо ножа... Будь счастлива так, как несчастен я. Утром тебя проводят из кишлака.
Он вышел.
Саодат пыталась вскочить, но силы оставили ее. Где-то далеко в глубине сознания сверлила мысль: «Смерть грозит Санджару! Смерть грозит Санджару!» Она забылась...
Солнце залило золотистым светом резные алебастровые полочки, оплывавшую свечу в медном шандале, старинные книги, резной потолок. Саодат очнулась. В дверях стоял Санджар...
380
VI
Хотя Гуляму Магогу была постлана, как важному лицу, очень мягкая постель в три одеяла (почет неслыханный), он спал плохо, ворочался с боку на бок. Слова Кудрат-бия не выходили из головы.
Откровенно говоря, Гулям не очень верил в то, что такой опытный воин, как Санджар, так наивно полезет в подогретый котел, да еще в качестве «мяса для плова», который угодно было заварить басмаческим начальникам. Нет, Санджар не так глуп... Но все же надо предупредить. И конечно его, Гуляма, послали в разведку совсем не для того, чтобы он тут занимался разговорами.
И все-таки он нечаянно заснул под утро, но очень ненадолго. Что-то заставило его пробудиться. Он сидел на своих почетных одеялах и напряженно смотрел в темноту. Что случилось? Со сна он ничего не мог понять. Что разбудило его? И только когда звук повторился, Гулям сообразил, что это такое. Где-то недалеко призывно заржала лошадь.
Гулям прислушался: если сейчас прозвучит ответное ржание, значит, Санджар близко. Широко раскрыв глаза и рот, Гулям ловил далекие степные звуки. Снова заржал конь, теперь еще ближе.
В комнате храпели и посапывали спящие на одеялах басмачи. Было еще совсем темно. Из щелей в ставнях струился неверный, едва различимый свет утренней зари.
Решение созрело... Толстяк встал, накинул на себя халат и осторожно направился к двери, стараясь не наступить на спящих. Когда створка скрипнула, властный голос спросил:
— Эй, купец, куда вы?
— Не беспокойтесь, ваше превосходительство... Схожу в Верхнюю мечеть. Близится час утреннего намаза...
Не дожидаясь ответа, он вышел. Свежестью пахнуло ему в лицо. На дворе все спало мертвым предутренним сном. В воротах, на небольшом возвышении, в крайне неудобной позе дремал обвешанный амуницией совсем юный, безусый басмач.
Перебирая четки и бормоча молитвы, Гулям шел по широкой кишлачной улице. Он шагал с достоинством и не спеша, как человек, погруженный в благочестивые размышления. Конечно, это нисколько не мешало ему из-под
381
опущенных век примечать все, что творилось в селении. С удовольствием он обнаружил, что басмаческие караульные, забыв всякую предосторожность, спят на глиняном возвышении около мельницы.
— Ну, не очень-то они ждут нашего батыра,— усмехнулся Гулям Магог,— вот бы он сейчас нагрянул на дрыхнущих бездельников...
Но тут же толстяк с необычайным проворством кинулся за угол дома: впереди послышались гулкие шаги. На улице возникла темная фигура. Гулям слегка вобрал голову в плечи. Мимо него, чуть не задев полой халата, проскользнул Гияс-ходжа; лицо его было растерянно, невидящие глаза устремлены в пространство. Гулям вопросительно посмотрел ему вслед. Гияс-ходжа свернул во двор Бутабая.
Тогда толстяк заспешил. Он бросился к мечети. Еще из вечерних разговоров он понял, что Саодат где-то там. А спешить было нужно. Кишлак зашевелился. Откуда-то доносился приглушенный шум, топот копыт, пофыркивание лошадей.
До мечети оставалось несколько шагов. Гулям замер.
Посреди улицы быстро шел своей уверенной походкой Санджар, держа наперевес ручной пулемет. Из-под низко надвинутой меховой шапки поблескивали белки глаз.
— Гулям Магог!
Но когда толстяк сделал радостное движение навстречу командиру, тот резко остановил его:
— Осторожно... Где он?
Гулям показал вниз:
— В доме Бутабая. Саодат здесь... в кишлаке...
— Стой у мечети... Всем передавай, где я. По первому выстрелу бить басмачей!
Санджар пошел вниз, к дому Бутабая, той же уверенной походкой. Только теперь толстяк увидел двух санджаровских воинов, скользивших в тени домов в нескольких шагах от командира, а немного поодаль еще двух, и еще, и еще. Вопреки обыкновению, все они были пешими. У всех в руках винтовки на изготовку, у многих гранаты. Один за другим проходили бойцы мимо мечети, и Гулям тихо передавал им приказ командира... Стало светлее.
«Почему он не ищет Саодат?— недоумевал Гулям.— Надо посмотреть, что с ней».
382
Четкой дробью рассыпалась внизу пулеметная очередь и оборвалась. Грохот и вой наполнили кишлак...
Кто-то шумно вздохнул рядом. Гулям резко обернулся.
Вчерашний домулла, перегнувшись через ограду, смотрел на улицу.
— Что такое?— спросил он.
— Это пришел Санджар.
— Да ну!— обрадовался старик.
Неожиданно легко для своих лет он перебрался через забор и стремительно побежал вдоль улицы, истошно крича:
— Вай дод! Хватайте воров! Бейте воров!
VII
Отряд Санджара собирался в обратный путь. Кони были заседланы. Бойцы осматривали сбрую, бродили по двору мечети, вьючили на запасных лошадей амуницию, винтовки, захваченные в утреннем бою.
Солнце клонилось к западу, когда из ворот дома ишана вышел Санджар в сопровождении Гуляма и Саодат. На голову молодой женщины была накинута паранджа, но без чачвана. Лицо ее было открыто.
Командир хмурился. Бойцы удивленно переглядывались.
И только один Гулям примечал и холодную застывшую улыбку на красивом лице Саодат и странные безразличные взгляды, которые она бросала из-под полуопущенных ресниц вокруг.
Гулям слышал отрывки разговора командира с Саодат.
— Этому не бывать!— упрямо говорила молодая женщина.
— Чем я заслужил такое?
— Я безмерно благодарна вам, друг, но сердцу приказать не властна. Этого не будет.
О чем говорили Санджар и Саодат дальше, Гулям не понял.
Санджар нетерпеливо хлестал камчой камни ограды. Уже подвели его жеребца, и местный аксакал подобострастно ухватился за стремя.
В этот момент с улицы послышались женские голоса, крики. Через узенькую калиточку во двор ввалилась толпа. Все это были по преимуществу молодые, здоровые
383
крестьянки; они тащили круглого, заплывшего жиром человека в дорогом бухарском халате и кричали:
— А ну-ка, а ну-ка иди, вот сейчас тебе тут отрубят голову.
Толстяк жалобно взвизгивал и стонал, но не пытался вырваться из цепких рук.
Женщины подтащили своего пленника поближе к Санджару и, не дожидаясь вопросов, в один голос заговорили. Командир, не понявший ни слова, сокрушенно покачал головой. Тогда рослая загорелая женщина крикнула так, что кони шарахнулись в сторону:
— Молчите, все молчите! Я скажу. Господин Санджар, вот это наш амлякдар Сарыхан... Он вместе с эмиром год назад подобрал свой жирный зад и, растрясая свое сало, удрал к афганам... А теперь узнал про этого подлеца курбаши и притащился к нам собирать налоги. Мы ему покажем налоги! Он опять берется за старое. Всех пугает: подождите, англичане придут! Они всем большевикам покажут... Это он не позволял приступать к жатве, пока посевы не будут обмерены и записаны в его поганую бумагу. Сколько хлеба осыпалось, пропало с тех пор, как его сальное благородие соблаговолило притащить свое девятипудовое пузо в наш кишлак.
Скупая улыбка промелькнула на лице командира. Он молча кивнул головой и одним прыжком вскочил на коня.
— Так ты, господин, разрешаешь?
— Разрешаю. Только, женщина, я не господин, а товарищ.
Амлякдар понял, что это приговор. Он упал в пыль, и, жалобно подвывая, стал умолять Санджара, чтобы он вступился за него.
— Что ты меня просишь? Проси их!
С высоты коня Санджар обвел взглядом двор, толпу, всадников и остановился на бледном лице Саодат. Он спросил ее:
— Саодатхон, а вы что скажете?
Она помедлила и очень тихо проговорила:
— Я не могу... Какую лошадь вы мне дадите?
Тогда та же рослая женщина презрительно фыркнула:
— Она не может... Она, видите ли, такая! Вот отобрал бы последнюю горсть муки этот вонючий козел у твоей малолетней дочери, тогда бы ты запела иначе. Пошли, сестры!
384
Они потащили прочь жалобно скулившего толстяка. Бойцы и дехкане молча проводили их взглядами.
Санджар скомандовал своим бойцам садиться на коней. Внезапно несколько пожилых, очень оборванных дехкан загородили ему путь. Приложив руки к животам, старики молча отвешивали глубокие поясные поклоны. Пришлось заговорить самому Санджару. Он спросил:
— Чего вам, дядюшки?
Выступил сухой, изможденный горец, необычайно высокий, с лоснящимися скулами.
— Разреши, госпо... товарищ-сардар, два-три слова?
— Говори, дядя.
— Первый вопрос: ты уедешь, сардар. Твои воины уедут. В большом сае поселились люди, называющие себя мусульманами. Они с оружием приходят в кишлаки и отбирают у народа скот, хлеб. Говорят: «Это для бога!» Но почему богу нужно достояние только дехкан? Почему у Бутабая они даже паршивого котенка не забрали? Можно Советскую власть установить у нас в кишлаке, чтобы эти мусульмане не смели к нам приходить?
— Да. Нужно.
— Еще вопрос: если Бутабай без тебя, сардар, вернется, то из десяти мешков пшеницы девять он заберет себе, из десяти баранов все десять отберет. Так он делает всегда. Говорят же мудрые: «Притеснитель не сжалится над положением бедняка». Если придет Бутабай, мы его убьем? А?
— Дело ваше. Старики тоже говорили: «Потушить огонь и оставить угли, выгнать змею из норы и оставить ей жало,— не дело мудрых».
— Имама в кишлак не пустим?
— Дело ваше.
— Еще вопрос можно?
— Да.
— Мы додумались до хорошего дела. Наши дехкане поняли, что вразброд далеко не уйдешь. Раньше нечем было работать, нечем пахать. Теперь, если мы сложимся вместе, мы спокойны: работать будет чем — у одного есть бык и у другого есть бык, у одного есть омач, у другого есть борона... Будем работать дружно, а?
— Это хорошо. Отцы и деды делали хошар. Очень хорошо!
Но горец возразил:
385
— Нет. Твой начальник, главный начальник — Ленин. Отец всех бедняков Ленин. Что он сказал? Даже в наши горы и степи пришли его слова. Слова великой истины и через камень до ушей дойдут. И дошли. Ленин сказал: «Земля — тех, кто на ней работает». Сказал так Ленин? Сказал. Раньше мы делали хошар для бая и для имама мечети. А теперь будем делать хошар для себя, и не один раз, а все время. И день, и два, и месяц, и год. А землю Бутабая и вакуфа возьмем себе. Можно?
Санджар был в большом затруднении. Полномочий раздавать землю он не получал. Дехкане, видя, что он колеблется, помрачнели. Но высокий горец не сдавался. Он снова заговорил:
— Ленин есть? Есть. Ленин так сказал? Сказал.
— Забирайте землю,— не выдержал Санджар.— Я попрошу, чтобы из дюшамбинского земельноводного отдела прислали человека. Он вам поможет организовать Союз бедноты. Басмачи идут к своей гибели. Петля аркана затянулась. Не сегодня, так завтра басмачи захлебнутся в своей поганой крови. Берите в свои руки помещичью землю, пашите ее, ухаживайте за ней, как за родной матерью. Не допускайте, чтобы нога помещика ступила на ваше поле. Да, да, ваше. Вся земля крестьянам сказал Ленин... Забирайте землю, растите урожай. Будьте богаты. Мы, Красная Армия, отдаем вам землю.
Провожаемые доброжелательными возгласами и благословениями дехкан, бойцы цепочкой потянулись по дороге.
Навстречу им показалась мрачная процессия. Бегом двигалась вереница людей, несших десятки носилок с покойниками. Это хоронили басмачей.
Бойцы ехали, глядя прямо перед собой, сурово сжав губы. Ни один из них не оглянулся. Только Гулям не удержался и сказал вполголоса:
— Закопать врага так, чтобы из могилы не встал. Сравнять с землей могилы так, чтобы следов не найти...
Отряд перевалил холмы и двинулся по выжженной степи. Потряхивая гривами, лошади весело бежали.
VIII
На переправе через Сурхан в прибрежных камышах разгорелась перестрелка, которая грозила затянуться до
386
вечера. Нежелание подвергать Саодат опасности заставило командира ограничиться короткой стычкой; затем он двинулся в обход к мало известному броду.
Движение это басмачи истолковали как проявление слабости и начали нагло наседать. И странное дело — пустынная местность ожила: то там, то тут появлялись всадники, открывали беспорядочную стрельбу и тотчас же скрывались за гребнем холма или в тугаях. Парваначи вознамерился использовать неожиданную и столь необычную бездеятельность Санджара и окружить его отряд.
И тогда Санджар уже в наступившей темноте повернул назад, проскочил под самым носом изрядно потрепанной шайки Кудрат-бия, сделал большую петлю и ушел в горные дебри к северу от Регара. Все это стоило огромного напряжения сил.
Когда стало ясно, что, по крайней мере, на некоторое время опасность устранена, Санджар подъехал к совсем примолкшей Саодат:
— Ключи моей жизни в твоих руках,— заговорил он.— Я не держу поводья моих дел. Ты, повелительница, распоряжаешься моим счастьем,— голос Санджара дрожал, когда он декламировал слова забытого поэта Хосрова.
Голубая ночь разливала тихий свет по горным долинам, острым скалам, глубокие впадины прятались во тьме, и только одинокие желтые огоньки пастушьих костров слабо мерцали, то совсем внизу под ногами, то где-то неимоверно высоко, прямо среди звезд... В кишлаках, затерявшихся в горах, тишина ничем не нарушалась, даже кишлачные собаки не подавали голоса.
Притомившиеся кони шли медленно, звонко отбивая подковами шаг по каменистой тропинке. Слышалась вполголоса напеваемая бойцом песенка.
Отряд перевалил невысокий горный хребет и стал спускаться к чуть блестевшей далеко внизу реке.
Снова и снова Санджар пытался заговорить с Саодат, но молодая женщина молчала.
Долгий путь утомил ее до крайности, и только один раз в ответ на пламенную тираду Санджара она смогла выговорить:
— Поэзия, мой друг, хороша, но... не скажете ли вы, когда можно будет немножечко отдохнуть?
387
Сердце у Санджара сжалось. Он никогда еще не слышал, чтобы Саодат,— непреклонная, мужественная Саодат говорила так жалобно.
Санджар пробормотал поспешно:
— В первом же кишлаке, вон в том ущелье мы остановимся...
И действительно отряд вскоре вступил в селение.
Но не успели бойцы слезть с коней, как где-то недалеко в скалах снова завязалась перестрелка.
Что происходило там, трудно было сказать. Но по гулкому грохоту, усиленному стократным эхом ущелий, можно было понять, что дело затевается серьезное.
Саодат сидела на камне на берегу поблескивающего в темноте говорливого ручейка. Она так устала, что ей было все безразлично. Доносившиеся как в далеком сне выстрелы нисколько ее не тревожили. Она попросту их не слышала.
Санджар стоял тут же, держа своего Тулпара под уздцы и, нервно вглядываясь в темные очертания надвинувшихся на кишлак гор, вполголоса разговаривал с горцем.
— О, конечно, конечно,— говорил горец,— у нас найдется хорошее место для женщины. Очень хорошее. Сама достоуважаемая, прах ступней ее на моей голове, ханум пребывает в нашем бедном селении, недавно соизволив прибыть из города.
— А кто она, ваша ханум?
— Она подлинная госпожа,— горец запнулся, сообразив, что говорит не то, что нужно,— о, не беспокойтесь, не беспокойтесь. У них сын, как говорят, в Красной Армии, командир.
— Это любопытно, пойдемте. Я сам поговорю с ней.
И он пригласил с собой Саодат.
Но тут перестрелка разгорелась с такой силой, что Санджар, пробормотав: «Устройте же ее... Вы отвечаете мне...», вскочил на коня и, сопровождаемый бойцами, исчез.
Горец провел Саодат в аккуратно, насколько это можно было разглядеть в темноте, прибранный двор.
В глубокой нише ворот мерцал огонек фонаря. Взад и вперед суетливо метались темные фигуры. Кто-то визг-
388
ливым голосом отдавал распоряжения. С лаем бегали по соседним крышам собаки.
Саодат бессильно опустилась на глиняные ступени. Кружилась голова, темные пятна стояли перед глазами. Ноги, руки, поясницу ломило, глаза слипались.
Заставило ее очнуться легкое прикосновение руки к плечу. В темноте перед ней стояла женская фигура.
— Что вам угодно?— устало спросила Саодат.
Старческий голос ответил:
— Госпожа ждет вас на женской половине.
Не задумываясь над тем, что это, наконец, за госпожа, о которой говорят столь почтительно, Саодат безропотно пошла за проводницей. Они прошли через темную комнату в небольшой дворик. Распахнулась дверь, и Саодат очутилась в ярко освещенной михманхане, увешанной гранатового цвета коврами.
Когда молодая женщина узнала, что попала в дом Амины-ханум, жены Хакима денауского, родной матери Санджара, она даже не удивилась. Все события последних дней слишком были похожи на тяжелый болезненный сон...
У Амины-ханум Саодат пришлось прожить несколько дней.
Утром Санджар не вернулся. А мать его, вообразив, что видит в Саодат свою будущую сноху, старалась расположить ее к себе. Старуха, видно, надеялась при помощи молодой женщины найти путь к сердцу своего сына. Она без конца рассказывала о минувших днях блеска и величия бекства денауского. Саодат волей-неволей слушала, тем более, что только это нарушало однообразие тянувшихся бесконечно дней ожидания...
— Доченька моя, увы, три года прошло,— печально рассказывала Амина-ханум,— как разрушились основы власти, установленной богом, и подверглись гонениям и бедствиям могучие правители нашего государства.
Но здесь Саодат перебивала старуху и гневно говорила об эмирском строе. Молодая женщина страстно клеймила гнусность бекских гаремов и от души восхваляла русских большевиков, которые помогают народу искоренять отвратительные порядки. Саодат в эти минуты забывала, что она по существу одна, что в этом глухом полудиком горном селении ее окружают силы, если не явно враждебные, то отнюдь не дружелюбно настроен-
389
ные. Что они, эти силы, едва ли могут спокойно снести нарушение диких, закоснелых традиций феодального быта и изуверской религии. Женщина, открывшая лицо, попирала самое священное, что предписывалось в семейной жизни адатом и шариатом.
Но Амина-ханум в своей слепоте не сумела разглядеть в Саодат активистку, боровшуюся за раскрепощение женщин, а принимала ее за немного взбалмошную, капризную красавицу, полюбившую Санджара и поэтому своенравно поступившую со своим мужем Гияс-ходжей. Амина-ханум не придавала особого значения словам Саодат, считая их временной блажью и, будучи высокого мнения о своей мудрости и опыте, решила воздействовать на ее чувства средствами и посулами, перед которыми, с ее точки зрения, не может устоять сердце ни одной женщины, а особенно молодой и красивой, стремящейся к неге и мужской ласке.
Старуха обычно сидела в углу у маленького столика, по-турецки поджав под себя ноги и, раскачиваясь из стороны в сторону всем своим дородным туловищем, рисовала картины одну заманчивее другой.
— Да, доченька, жду не дождусь, когда добрые джины перенесут меня отсюда в благословенные долины, где ждет меня мой бек... Там, как раньше, в цветущем саду, на зеленеющей траве никогда — и день, и ночь, и утром, и вечером — не убирается шелковый дастархан. В блюдечках и тарелочках тончайшего китайского фарфора разложены и конфеты, тающие во рту, и пушистые персики, и фисташки, и миндаль... А сколько сортов кишмиша — и черного с серебринкой, и розового, и с косточками и без косточек, и перемешанного с миндалем! А пряники из орехов и фисташек! А золотистый виноградный мед, а сдобные лепешки, и на масле, и на сале, и на сметане!.. Поверь мне, доченька, от такой жизни, полной блаженства, не отказалась бы самая строптивая и свободолюбивая степнячка. Да, поверь мне, когда за мной прискакали в мой кишлак Кош-Как и увезли меня из нашей глиняной мазанки, затерянной в далекой пустыне, в чудный сад, к чудному дастархану, о котором не смеют мечтать и райские гурии, когда вместо грубой бязи я на своем теле почувствовала индийскую кисею и самаркандский тончайший шелк,— о, тогда я готова была броситься в объятия даже уродливого, горбатого старца. А тут
390
передо мной предстал высокий, статный, красивый... И мы тоже, поверь, душа моя, не были уродливы,— не без самодовольства усмехалась Амина-ханум,— и наше тело было, как у тебя, и бело, и упруго, и полно очарования для мужчины, а может быть еще привлекательнее, потому что ты, матушка, при всей своей прелести, слишком сухопара и тоща, чего уже никак нельзя было сказать про нас. — Она начинала гордо охорашиваться. — И как может упрекать меня мой сын Санджар, что я смирилась со своей участью пленницы, подчинилась, забыла обо всем... стала верной рабой бека — могущественного, сильного, великолепного... Как можно меня, слабую, винить, что я забыла свою степь. И потом ведь я знала, что моему сыну хорошо с тетушкой. Но такова участь матерей в нашем несовершенном мире. Не успеет сын вылететь из родного гнезда, и уже начинает поучать ту, которая его породила в муках...
Тогда Саодат перебивала Амину-ханум:
— К чему вы мне все это рассказываете?
— Я знаю, ты гордая, хоть и не пойму, чего ты хочешь. Или ты не желаешь стать женою моего сына Санджара? Но, душа моя, кто же будет спрашивать твое желание? Тебе придется подчиниться его воле. Пришлось подчиниться мне, приходится подчиняться и тысячам наших сестер, такова наша участь — женщин. Санджар — могущественный узбекский воин, и неужто ты, слабая женщина, посмеешь спорить с его волей и сопротивляться его неодолимой силе?
Старуха испытующе заглядывала в бледное, печальное лицо Саодат и продолжала все тем же певучим голосом, как будто убаюкивая ее.
— Мы, женщины, всегда, испокон веков подчинялись мужчине. А мужчины становились послушны и безропотны в руках женщины. Ты красива. Перед твоей красотой растает суровость сына моего и тогда...
Здесь она начинала страстным шепотом уговаривать, заклинать Саодат:
— Только ты, красавица, сможешь повернуть Санджара на правый путь. Только ты своими словами и ласками заставишь его отвернуться от большевиков, от безбожников. И тогда Санджар станет могучим властелином и беком. А ты, Саодат, ты будешь со своей красотой и прелестью первой и любимейшей его женой.— Она переходила
391
на шепот.— Золото, серебро хранятся в больших мешках в тайных местах, о которых знаю только я. Близко... Совсем близко. А слуги — они теперь молчат, мертвые — немы. Мой бек позаботился об этом. Табуны огненных скакунов угнаны за Аму-Дарью, неисчислимые отары гиссарских овец пасутся на пастбищах Гиндукуша под верной охраной. В горных тайниках лежат запасы товаров — сахару, чаю, шелков, холста, ковров... И все это будет в руках Санджара, достаточно ему будет сказать «да». Скажи ему... Обвей ему шею своими нежными руками. Умоли его, упроси... Будь ласкова, он не устоит...
Но видя, что Саодат молчит, Амина-ханум свирепела:
— Ты не слушаешь! Ты, жалкая, не понимаешь, что должна заслужить честь стать женой моего сына. Ты даже не девушка, ты разводка... Ты ноги ему должна целовать. Зачем ему жениться, делать тебя первой женой, госпожой, да он может спать с тобой как со всякой служанкой... Твоя цена, душа моя, хоть ты и красавица, в десять раз ниже самой плохонькой девушки-дехканки, провонявшей кизяком и своими лохмотьями едва прикрывающей свой стыд. А если ты откроешь ему путь к богатству, к силе, к власти...
— Перестаньте,— протестовала, бледнея, Саодат.— Как вы, женщина, можете говорить такое, забыв о своем женском достоинстве? Неужели...
— Достоинство? Женское достоинство? Наше достоинство в том, чтобы услаждать досуг мужа.
Слезы обиды блестели на прекрасных глазах Саодат. Отвратительные воспоминания пронизывали ее тело. Опять Гияс-ходжа с елейной улыбочкой приближался к ней и тянулся к ее телу липкими пальцами.
Встряхнув косами, она отгоняла видение и говорила со злостью:
— Как вы можете думать, что Санджар погонится за богатством? Он — за Советы, он — воин Красной Армии. А верность — свойство истинного воина...
— Кто откажется от богатства, от власти? Но я вижу, доченька, ты хвалишь Санджара. О, это очень хорошо. Ты не будешь долго упрямиться.
— Нет, вы ошибаетесь, матушка Амина-ханум. Я уважаю Сандажара, но...
И она стыдливо опускала глаза.
392
Амина-ханум торжествующе хихикала и принималась описывать со всеми подробностями той, который будет устроен по случаю свадьбы Санджара и Саодат.
Погрузившись в невеселые свои мысли, Саодат молчала.
— Что ты молчишь все,— ворчала старуха,— что тебе, когда ты в люльке лежала, вороны, что ли язык выклевали?
И снова начинались уговоры.
Дни шли за днями. За дувалом, внизу, шумел горный поток, над головой шелестела листва исполинских чинаров, похожих на башни сказочных древних замков. Саодат изнывала в ожидании.
В радостное горное утро в доме, во дворе вдруг все засуетились. Амина-ханум встревоженным голосом отдавала распоряжения. Какие-то старухи бегали взад и вперед. До ушей Саодат донеслись слова:
— Спускаются! Спускаются с Красного утеса. Над кишлаком неслась песня:
Огонь отваги Санджара
Высечен молнией его кинжала.
Конь его огненным смерчем
Летит вперед.
Куда бы ни устремился он
Бурно, подобен пламени,
Там наступает судный день.
Пришел отряд.
Но Санджар, несмотря на неоднократные приглашения, отказался заехать в дом своей матери. Он направился в чинаровую рощу, в общественную михманхану, пожелав воспользоваться гостеприимством кишлачной общины.
В каждом кишлаке горной страны есть такая михманхана. Она расположена, обычно, в тени вековых деревьев, на берегу ручья. Небольшое фундаментальное здание с террасой и хорошо расчищенной площадкой перед ней. В нише аккуратно сложены подушки в чистых наволочках, на полу одеяла, кошмы, циновки, паласы, иногда ковры. В небольшом чулане или прихожей медные кувшины, подносы, чайники, посуда, небольшой запас муки, риса, вареного мяса, сушеных фруктов.
Едва усталый путешественник присаживается на террасе, как на площадке появляется дехканин. Он вежливо
393
приветствует странника. Идут расспросы о новостях, о здоровье, погоде, но только не о делах и не о личности пришедшего.
А тем временем вокруг михманханы начинается движение. Чьи-то расторопные руки уже разожгли костер, а если это зима — очаг. Уже кипит вода в чугунном кувшинчике, уже появился поднос с пышными белыми лепешками. Что-то журчит и шипит в котле, и ноздри приятно щекочет запах жареного лука...
И так всюду — от Байсуна и до Памира, от Ура-Тюбе и до Гиндукуша. Древний обычай. Путник — гость общины. Обычай, позволяющий путешественнику даже в суровую зиму чувствовать себя в горах, как дома.
На очень трудных участках горных дорог есть такие михманханы и в стороне от кишлаков. Часто это высеченная в склоне горы пещера, в которой заботливые руки горцев постоянно держат и топливо, и воду, и кое-какие продукты...
Санджар расположился в михманхане. До вечера сидел он в кругу кишлачных стариков и рассказывал им о великих вождях народа, о земле, ставшей собственностью народа, о новых светлых временах, наступивших для трудового люда.
Под вечер пришла Саодат. Ее чуть не силой погнала Амина-ханум. Старуха наивно воображала, что Санджар не устоит перед женскими чарами и перед рассказами о несметных богатствах...
Все рассказала Саодат, но совсем не так, как хотела Амина-ханум.
— Я должна была сказать,— медленно проговорила молодая женщина,— ваша мать вырвала у меня обещание. Я, не колеблясь, сказала вам все, я слишком уважаю вас, чтобы... чтобы подумать...
Под взглядом Саодат Санджар заметался:
— Будь я последним бродягой,— с яростью крикнул он,— если я дал повод думать так плохо о себе! Ценой предательства я ничего не возьму из рук матери, хотя бы она предлагала все богатства мира. Я их найду сам, я выкопаю их из-под земли, я верну их народу...
Даже в спустившейся темноте видно было, что лицо Саодат просияло.
По-своему Санджар истолковал это и привлек к себе молодую женщину. Она медленно отстранилась от него,
394
но Санджар, ничуть не смутившись, вдохновенно проговорил:
— Из всех благ, из всех драгоценностей, что сулит мне мать, я беру только одно сокровище, один сверкающий изумруд... тебя, Саодат. И я не стану спрашивать разрешения старухи, я не пойду по тропинке измены, мне не нужно становиться беком или ханом, чтобы Саодат стала моей...— Он снова протянул руки и остановился, пораженный выражением лица Саодат.
Долго стояла неподвижно молодая женщина, низко-низко опустив голову. Когда же она подняла ее, глаза ее были полны слез.
— Нет,— сказала Саодат,— нет. Пойми, Санджар, ум мой с тобой, но сердце мое молчит... Не знаю почему... но молчит.
...Как обычно на юге, ночь спустилась в долину стремительно. Из-за горы встал молодой месяц и засеребрил вспененный говорливый поток. Снизу, из ущелья, потянуло свежестью.
Над обрывом стояли Санджар и Саодат.
Он сжимал ей руку. Она не отнимала ее у него.
Немного слов было сказано. Неукротимый, неистовый Санджар никак не мог решиться задать последний вопрос.
Ему помогала сама Саодат. Через силу, печально она сказала:
— Да, Санджар, друг. Это так.
— Это твердо?
— Да, да, совсем твердо.
И она печально добавила:
— Пусто в моей душе. А разве соловей слетит на оголенные осенней непогодой ветви?
Он порывался сказать еще что-то, но Саодат мягко его перебила:
— Помоги мне уехать отсюда, скорее уехать. И прости.
Санджар проводил Саодат в Денау. В дороге они разговаривали, но это были все незначительные, маловажные разговоры.
Там, над обрывом, в свете молодого месяца, Санджар многое понял, но многое осталось ему неясным в рассказе Саодат о своей горькой жизни, о желании порвать со всем, что хоть немного напоминало старое, о намере-
395
нии учиться, работать... Без злобы, без гнева, смирив свою страсть, с тихой грустью он склонил голову перед волей любимой женщины
IX
— Удивительная тишина,— пробормотал Джалалов. И он посвистал, стараясь нарушить молчание ночи. Но свист был так робок и жалок, что сам Джалалов невольно сконфузился и замолк.
— Хоть бы собака залаяла!— прозвучал сдавленно и глухо голос Курбана. Он ехал позади и до боли напрягал глаза, отчаянно вертел головой, наклонялся, приподнимался на стременах — и все впустую — ни малейшего просвета в бархатной тьме ночи обнаружить не удавалось. Он беспокойно вздыхал, тихонько ворчал и сплевывал.
— Где едем? Как едем? Что едем? Бог знает! — и вдруг он разразился руганью, совсем неуместной рядом с упоминанием бога.
— Истинно так! Истинно так! — прозвучал совсем рядом чей-то голос.
Курбан удивленно крякнул и резко повернулся на седле.
— Истинно,— продолжал тот же голос.— Вы добрый мусульманин. Только почтенный человек со спокойной совестью может так выражаться.
— Кто здесь?
Тот же неизвестный спокойно проговорил:
— Не спрашивайте в дороге об имени. Что такое имя? Кличка. И не все ли равно, как сейчас тебя назовут: Абдуллой или Расулем, Ибрагимом или... Шахабутдином. Еду я за вами давно и по разговору понял, что люди вы почтенные. Слова ваши связаны с войной. Вы не из людей ли славного парваначи?
Джалалов и Курбан возблагодарили про себя аллаха и его пророков, что сдерживали себя в пути и не болтали попусту. Джалалов заметил:
— Вы же сами, друг, сказали: «не спрашивайте». Да и что я могу сказать собеседнику, лица которого я не вижу, а присутствие которого ощущаю только ушами... на слух, как говорится.
Ответ ли не пришелся по вкусу спутнику, или он просто не нашелся что сказать, но все замолчали. Дробно
396
стучали копыта. Чуть белела тропинка. Временами с севера от снежных хребтов проносились свежие порывы ветра.
Вдруг неизвестный заговорил. И сразу стало понятно, что Джалалова и Курбана он принял действительно за басмачей и поэтому не считает нужным скрывать своих чувств.
Он охал и стонал. Поток сбивчивых путаных фраз хлынул, не сдерживаемый больше никакими преградами и запрудами.
Долго нельзя было ничего понять в этих вздохах и стонах, обрывках фраз. Джалалов сначала пропускал болтовню незнакомца мимо ушей, потеряв всякую надежду уловить в ней хоть какой-нибудь смысл.
— Бож-же,— стонал неизвестный спутник,— о господи, опять шакалы по кладбищу заметались... Тяжко и трудно... честному мусульманину с шакалами... Отрепья вшивые залезли нам на спины и еще рот разевают. А честному убавление славы и богатства... Времена, когда всякий шакал лезет лапой в мешок и бренчит золотыми. Как, о бож-же, это назвать? Шакалы тут как тут. Сколько денег, угощений, поклонов стоило, и все пошло прахом. Только три года...
— Зачем же тратились?— перебил говорившего Курбан.
Но неизвестный ничего уже не слушал.
— Стрела вонзилась в сердце... Быстро так прошли годы. Прошли и ушли. Птица счастья села на голову и улетела. Только ее и видели. Спугнули ее проклятые, а? Бож-же!
Расположившись поудобнее в седле, чтобы дать хоть немного отдохнуть ноющим костям, Джалалов стал вслушиваться в беспорядочную речь спутника.
— Глаз аллаха и во тьме все видит,— хрипел спутник.— Ну вот, он послал мне на помощь вас, друзей. Их превосходительство Кудрат-бий послал вас помогать мне. Очень хорошо! Спасибо их превосходительству. Они хорошо знают сарыассийского судью Шахабуддина. Я их очень, очень уважаю. Правда, вы поможете мне черную кость заставить послушной быть, чтобы не вякала? А то распустишь их,— они сейчас же вонять начнут. Раньше бек пришлет на выборы своих нукеров, и все благолепно и достойно было, а сейчас я так тревожился, так беспокоился, кто же порядок наведет? Только горечь волнения
397
переполнила мое сердце и подошла к горлу и вдруг слышу — вы едете...
Подъехав вплотную к Курбану, Джалалов шепнул:
— Ого, да ведь это сам сарыассийский казий Шахабуддин... Ну, смотри, только ни гу-гу. А то спугнем птичку.
Так же шепотом Курбан ответил:
— Вот она, птичка счастья нам... Зачем болтать!..
— И кто выдумал выборы, прямо от них мозги все переворачиваются,— продолжал Шахабуддин.— Не дают людям покоя. Сидишь на мягких одеялах, как на острых камнях. Все думаешь и думаешь, сколько народу придется накормить, сколько денег на пиршество истратить, сколько рук смазать, чтобы были жирными, сколько глоток заткнуть, чтобы помалкивали,— и все зачем? Только для того, чтобы после двух десятков лет трудов и забот о благе народа и постоянного, неподкупного и неуклонного соблюдения великого закона ислама взять вновь на свою шею бремя справедливости и в повседневных беспокойствах и напряженных трудах осуществлять правосудие.
Стараясь переспорить воображаемых противников, казий доказывал, что он готов опять взяться за выполнение обязанностей судьи из бескорыстных побуждений — для насаждения среди невежественной черни истинных и непреложных принципов закона. Он, Шахабуддин, дескать, готов, ради высокой цели, раздать последние жалкие крохи своего имущества, якобы вконец разоренного большевиками... И на головы большевиков посыпались самые витиеватые проклятья. Но не только чернь и большевики беспокоили Шахабуддина. Стало ясно (и Джалалов поспешил это учесть), что и среди баев и помещиков нет единства.
— Проклятые они! У них на губах мед, а в сердце уксус,— жалобно причитал Шахабуддин,— они трепыхаются по базарам, как курица с подпаленными крыльями и ошпаренными ногами, и все шепчут и злословят, разбрасывают капли яда и клеветы. Они смеют заявлять, что я притеснениями и обидами довел народ до озлобления, что народ якобы говорит: «Когда этот Шахабуддин возьмет мягкую лепешку и обмакнет ее в сливки, то пусть она прорвет ему глотку!»
— Кто же это они?— удалось ввернуть словечко Джалалову.
398
— Как кто они? О бож-же, молодой человек, слышу по вашему звонкому голосу, что вы еще молоды. Так вот я час уже вам толкую о всех этих чалмоносцах, ишанах да баях. Так создан мир! Где есть люди, там разногласия. Каждые десять ишанов и баев хотят своего казия и не хотят Шахабуддина, каждые десять помещиков...
— Позвольте, достопочтенный казий,— снова спросил Джалалов, — о каких десятках вы говорите? Это ишаны, баи, а дехкане? Их не десятки, а тысячи.
— Ха,— взвизгнул Шахабуддин,— кто говорит об этом быдле? Их дело идти за уважаемыми людьми, седобородыми илликбаши и юзбаши. Пусть комиссары из Бухары и Ташкента навязывают нам советские порядки,— мы, умные люди, знаем, что делать. Народу пикнуть не дадим. Все произойдет так, как приказано, а только на самом деле будет по-нашему,— хихикнул он.— Что же вы думаете, Мазар-и-Шериф да Кабул дальше, что ли, чем Ташкент, а господа англичане глупее комиссаров? Эти большевики только разговорами занимаются, а у наших есть кое-что получше болтовни. Кое-что полновесное, да звенящее, да сверкающее... Хэ, хэ... при виде золотых кругляшков быдло побежит за нами на край света, забыв о разных там... как большевики называют... свободах, что ли! Да и на что копающимся в навозе дехканам свобода? Им бы только пожрать. Эх, когда у нас есть желтые тяжеленькие кружочки, мы никого не боимся — ни комиссаров, ни эмирских прихвостней, вроде сынка сарыджуйского бека.
— Как так?— насторожился Джалалов.
— Как, как! Да очень просто. Эмир тоже своих подсылает, чтобы его человека судьей выбрали.
— А вы от кого?— не удержался Курбан.
— Э, молодой человек, не все говорится вслух. Ну, вам уж я, так и быть, скажу, только тихонько. Кто такой Кудрат-бий, а? А кто друзья у Кудрат-бия, а? Сильные-друзья, и у друзей есть такие бумажки со львом единорогим, а? Хэ, хэ. Вот то-то и оно... Каждый думает о своем благе. Пусть эмир сидит себе в Кабуле и поторговывает каракулем, а большим хозяевам не больно он нужен. Да и на что он способен — их светлость, их высочество? Не успела пушка выстрелить, как он показал всем зад, а тут без него разбирайтесь. Нет, мы работаем не на эмира. Нам и без эмира будет у кого получать милость.
399
Некоторое время казий ехал молча. Но другие претенденты на пост судьи, видимо, очень тревожили Шахабуддина, так как вскоре он заговорил снова.
Он пытался снискать благорасположение воображаемых эмиссаров Кудрат-бия, за которых он принял Джалалова и Курбана. Теперь, когда ему показалось, что он выставил себя в самом выгодном свете, он стал расписывать, сколько он баранов зарежет, сколько и чего подарит кудратбиевским нукерам, сколько преподнесет почтенным лицам. Какой пир он задаст, если будет выбран на должность судьи, какие будут яства, каких он пригласит луноликих бачей, а может быть если удастся, даже крутобедрых танцовщиц для особо почетных гостей. Более того, пусть это будет небольшим нарушением предписаний шариата: он, Шахабуддин, будет смотреть сквозь пальцы, если среди угощения окажется несколько чайников с «живой водичкой». Тут Шахабуддин сладострастно хихикнул.
— Вы уж не беспокойтесь,— лебезил казий,— все будет, все будет. Скажите, друзья, куда вам пригнать по баранчику, где ваше место обитания? Только вы помогите мне. Я буду хорошим казием, во славу пророка, да будет он...
— Поможем, поможем, почтенный,— важно заявил Курбан.— Только во время тоя побольше нам горячительного, да обязательно объятия гурий. И все будет, как надо.
Казий пришел в восторг от заявления Курбана.
— Вы образец всех совершенств. Надеюсь на ваше содействие,— еще более льстивым голосом просипел он.
— Мы вам так поможем,— продолжал Курбан,— что вы всю жизнь будете помнить, а по всей стране гор и степей о выборах и о казий Шахабуддине будут сказки сочинять!
— И вы сделаете так, чтобы народ поддержал меня?
— Да, да, конечно, мы заставим народ выразить его подлинные чувства к вам...— Он не закончил свою мысль и радостно воскликнул: — Огонек, смотрите, огонек! Еще... и еще...
Лошади заспешили. Еще нельзя было что-нибудь разобрать в темноте, но чувствовалось, что дорога пошла под уклон.
Начался крутой спуск, лошади спотыкались и скользили.
400
— Черт! — вдруг воскликнул Джалалов:
— Что случилось?— спросил во мраке голос казия.
— Вода, мы едем по воде... Река, что ли?
Пошарив в кармане, Джалалов вытащил спички. Слабый красный огонек на секунду отразился в воде. Лошади, фыркая и отряхиваясь, жадно пили.
— Откуда здесь вода? — удивленно проговорил Шахабуддин.— Отсюда до реки шагов триста, неужели начался паводок?..
Путники с тоской поглядывали на мерцающие за рекой огоньки. Они стали сразу такими далекими и чужими. Усталость разламывала тело, ныли ноги, руки, голова раскалывалась, лицо горело.
— Ну, что же, мы так и дальше будем стоять? Всю ночь, что ли, с места не двинемся?— раздраженно протянул Джалалов.— Поехали!
— Нельзя,— проговорил сердито казий.— Нельзя ехать. Наверно, в горах дожди сильные прошли. Я видел днем большие тучи над Гиссаром — свинцовые, зловещие тучи...
— Тучи, это хорошо,— зазвучал голос Курбана,— но не можем же мы всю ночь сидеть здесь. Вы, господин казий, умудрены опытом, знаете здешние места. Дайте совет согласно... законам шариата.
Не поняв насмешки, Шахабуддин самодовольно проговорил:
— Как же, как же, сейчас все устроится. Тут близко один человек живет, старый сучи. Он меня знает. Если я его попрошу, он нас переправит через Сурхан так, что мы даже пяток не замочим. Я только попрошу, и ради меня он все сделает. Он очень хороший мусульманин и, как подобает, с уважением исполняет повеление знатных... О, я только мигну, и мы окажемся на том берегу.
Долго искали на берегу хижину перевозчика. Перебирались два три раза через небольшие протоки, обычно почти сухие, но сейчас наполненные черной и тяжелой водой, с ворчанием мчавшихся среди мохнатых кустарников. Заехали в тугай и долго не могли из него выбраться.
На хижину натолкнулись совершенно случайно.
— Эхей, сучи!— закричал, что есть силы, Шахабуддин. Но хижина молчала. В тишине глухо и монотонно
шумела река.
— Эй, кто тут есть?
Казий кричал долго и надрывно.
401
Когда Курбан хотел уже слезть с коня, вдруг заскрипела дверь и простуженный голос недовольно спросил:
— Что орете? Мешаете спать.— Громкий зевок сопровождал эти слова.
— Бож-же! Это вы, дорогой Самык! О знаток всех переправ, о искусный из искусных!
— Кто это? Кого там по ночам носит?!— все так же раздраженно спросил перевозчик.
— Это мы, казий сарыассийский, Шахабуддин.
— Ну, и что вам надо?
Джалалов подумал, что перевозчик совсем уж не так уважительно относится к казию и что едва ли им удастся сегодня добраться до кишлака.
— Времена! Ох, и времена,— простонал Шахабуддин,— ну, давай, веди хоть в свою конуру.
Тяжело пыхтя, он слез с лошади. Джалалов и Курбан пошли за ним.
В тесной хибарке хозяин раздул огонь. Из мрака выступило одутловатое его лицо, покрытое короткой, жесткой щетиной. Глаза старика заплыли, лысый череп лишь наполовину прикрывала потрепанная тюбетейка. Халат хозяина состоял из наслоений заплат, кое-как скрепленных толстыми суровыми нитками. Руки его непрерывно дрожали. Полную противоположность хозяину представлял казий. Его блестящий шелковый халат звонко шуршал, чалма ослепляла белизной. Толстые розовые щеки Шахабуддина были обрамлены седоватой бородой. Бегающие, непрерывно ищущие глазки вызывали брезгливое чувство. Что-то отталкивающее было во всем облике этого холеного сытого человека.
— Бож-же,— проговорил Шахабуддин, вдоволь наглядевшись на Джалалова и Курбана,— где же я вас видел?
Джалалов только пожал плечами, а Курбан, не сморгнув глазом, заявил:
— У вас в Сары-Ассия,— и добавил нагло,— в Сары-Ассия, когда их превосходительство соизволили посетить ваше жилище.
Стрела, посланная наобум, попала в цель.
— Тсс,— испуганно зашипел казий, косясь на хозяина,— хорошо, хорошо.
Хозяин пристально взглянул на Джалалова и Курбана.
— Неужто вы...
402
Курбан перебил его.
— Давно вы здесь живете, почтенный мастер?
— Давно,— коротко бросил старик и, повернувшись к Шахабуддину, сказал:— У меня для вас новость, господин.
Оказывается, старый казий Мансур, более известный в народе под именем Черная борода, снова появился на берегах Сурхана. Два десятка лет назад он был изгнан с судейской должности беком денауским за вольнодумные разговоры, сводящиеся к тому, что женщина по закону может свидетельствовать наравне с мужчиной. Удалившись от дел, Черная борода жил частным лицом в своем Дашнабаде у подножия гор. Раз в три года он появлялся в Сары-Аосия и выставлял свою кандидатуру на должность казия. Неизменно он терпел полную неудачу.
Сейчас он вновь появился. Он приехал три дня тому назад со своими преданными людьми и перемутил весь народ. Закололи множество баранов, день и ночь идет пир.
— Вы и сейчас можете убедиться в этом,— добавил старик.— Посмотрите, сколько костров горит на той стороне! Приглашены все имамы, муфтии, муллы, помещики. За дастарханом сидит одних только мутавалли до двадцати человек. Еще прибыли какие-то ходжи из Бабатага. Все они угощаются, смотрят на Черную бороду и шепчутся.
— Шепчутся? — испуганно переспросил Шахабуддин.— Чего же они шепчутся?
— Кто их знает! Наверно, хотят избрать его судьей, а вашу милость прогонят в три шеи,— невозмутимо ответил старик.
Он рассказал, что среди пирующих неутомимо шныряют мюриды, дервиши, и что они говорят:
— Времена бекства и эмирского самоуправства прошли, укрепляется власть Советов. Мы должны избрать судьей человека знатного и уважаемого, который знает божественный шариат от «ляма» до «алифа», хорошо разбирается в жизненных делах и может ладить с Советами, человека справедливого, брезгающего чужим достоянием. Не то, что этот старый общипанный перепел, бекский прихвостень, взяточник и развратник...
— Бож-же!— застонал Шахабуддии и спохватился,— Да как ты смеешь?..
403
— Так это не я говорю, вы же просили вам рассказать.
— Ну, ну!
— Да вот и все, пожалуй. И еще люди Черной бороды всем алтарным крысам дают по кусочку сала.
— Каким крысам?— встрепенулся Джалалов.
Посмотрев на него с явным сожалением, старик усмехнулся, показав редкие, пожелтевшие зубы:
— Ивестно каким! Тем, что в мечети с утра до ночи охают и вздыхают, как лучше вырезать сало из курдюков чужих баранов.
Ошеломленный Шахабуддин только тряс своей бородкой и шептал: «Бож-же!»
А старик со злобой продолжал:
— А, что им! Вот и этот так, и Черная борода так, и сын сарыджуйского бека так. Что от них народу? Судьи! Закон! И днем и ночью в мокрой одежде за копейку, выпрошенную, как милостыню, и я, и мой отец, и мой дед, и мой прадед и в большую и в малую воду переправляем через реку и людей и арбы. Найдешь хороший брод, хорошо, не найдешь, попадешь в яму, попадает товар в воду, и не только денег не получишь, а еще тумаков надают. Сами знаете, какая река — быстрая, глубокая. И вода ледяная. Сегодня здесь по колено, а завтра десять арб с лошадьми и людьми сгинут, и спиц от колес не найдешь. Перевернулась арба, захлестнуло ее, и пропало все... Какая работа, а нас презирают: «Ты кукнары, ты анашист!» А разве без анаши человек выдержит работу на ледяном ветру, да по пояс в воде... — Нет ли у вас щепотки чая? Вода вскипела... Да снизойдет на вас милость! Вот мой отец... Тридцать лет водил через реку людей и арбы и думал, что спокойно помрет на старости... А вышло иначе... Пейте чай, пожалуйста... Была ранняя вода, очень большая. Река бросилась на берега и ревела, как тигр. Мы с отцом и другими сучи сидели на траве и смотрели на воду. Внезапно подъехал денауский бек: «Переправляйте,— приказал он,— только знайте, что на каждой арбе груз стоимостью в сто тысяч тенег».
— Все сучи отказались: «Милостивый бек, река буйствует очень, переехать нельзя». Тогда бек разъярился: «Бей их,— заорал он,— до смерти бей!» Вышел отец и сказал: «Не надо бить, не надо убивать... Зачем такое тиранство? Они не умеют... Вам нужно, бек, на другой
404
берег? Я проведу». Много помучились в тот день мой отец и я. Тринадцать арб провели мы через реку, тысячу раз мы глотали мутную ледяную воду, тысячу раз прощались с жизнью. Бек сидел, закусывал на берегу и смотрел: «Хорошо,— сказал он, когда последняя арба была на той стороне,— а теперь проводите меня, и получите по халату». Он сел на коня и погнал его в воду. Сердца наши трепетали. Уста наши призывали имена божьи. Только бы сошло все благополучно... Перешли, но лицо бека было черно. Он показал на свои мокрые сапоги и полы халата и, скрипнув зубами, сказал: «Так-то вы работаете! Где же ваше уважение? Но я великодушен, получайте награду». И он захохотал так, что сердце мое упало. Нас схватили, натянули на нас халаты, связали длинные рукава за спиной, затянули пояса и столкнули в поток. «А ну, искупайтесь»!— орал бек. Вы знаете реку. В половодье она тащит, шутя, камни величиной с барана... Отец утонул, я выплыл. Вот она, бекская благодарность.
Переглянувшись, Джалалов и Курбан сказали в один голос:
— Пойти коней посмотреть...
Они вышли во двор. Стало светлее. Слышно было, как жуют солому лошади. За рекой все так же пылали далекие костры. Сквозь мерный рокот реки оттуда доносилось монотонное пение.
— Вода поднимается,— послышался голос хозяина. Он вышел на улицу и с силой потянул воздух носом.
— Придется, кажется, уйти.
— Разве вода зальет берег?— с тревогой спросил Джалалов.
— В год скорпиона вода дошла до желтых холмов и смыла все нижние дома на той стороне.
— Как же мы попадем в кишлак?
— А зачем вам туда?
— Дело есть.
— Не ездите вы туда. Люди вы хорошие...
— А что с нами случится!? — с деланным смехом сказал Джалалов.— Там люди, и мы люди.
— Так-то оно так, только... — старик замолчал. Он напряженно думал.
— Там будут выбирать казия?
— Будут.
— Вот мы и едем туда посмотреть.
405
Голос старика внезапно снизился до шепота.
— Шахабуддин — хитрая лиса с масляными речами, а Черная борода — такая же лиса, только черная. Белая собака, черная собака — все равно собака. Вы хоть приехали с Шахабуддином, но я сразу увидел — вы не его люди. Вы не кричите, не деретесь, не шарите по углам. Вы не джигиты курбаши. Верно?
— Чего ты хочешь, царь всех хитрецов?— недовольно пробурчал Курбан.— Что, у нас на лицах печать приложена, что ты можешь по одному нашему виду определить наши намерения? А вот ты и ошибся. Мы воины ислама и едем охранять от большевиков спокойствие выборов. Великий парваначи повелел, чтобы избрали на глазах Советской власти достойного человека, угодного аллаху...
— Хорошо, пусть будет по-вашему, только вот что,— и старик быстро-быстро зашептал:— Когда вы с другом приедете в кишлак, не останавливайтесь ни у костров, ни у мечети. Проезжайте до конца улицы. По правую руку будет небольшой карагач на берегу сухого водоема, а подле домишко. Покличьте мастера. Там арычный мастер Иса живет. Скажите, что я послал. Он все расскажет. Пошли!
— Как? Ночью через реку?
— Пошли, не бойтесь... Садитесь на лошадей. Когда проехали через камыши и лошади зашлепали по воде, старик, ехавший впереди, вдруг захихикал.
— Чего ты?— спросил Джалалов.
— А Шахабуддин сидит, говорит «бож-же» и пьет чай...
Как переехали через реку, разлившуюся широко по пойме, как старик нашел брод в полной темноте, ни Джалалов, ни Курбан не могли понять. Река ворчала и ревела, ноги купались в ледяной воде, брызги летели в лицо. Курбан и Джалалов старались не смотреть в воду. Начинала кружиться голова. Тошнота подступала к горлу. Появилось противное ощущение беспомощности.
И все же, когда раздался голос старика «Приехали», Джалалов и Курбан испытали легкое чувство разочарования. Опасность как будто была большой, а на самом деле ничего особенного не случилось. Как сквозь сон, донеслись слова:
— А вода больше, чем я думал. Ну, поезжайте, только не задерживайтесь у костров.
406
Стало светлее. Откуда-то из-за выступивших на небе черных зубцов гор медленно струился неясный свет. Было видно, как лошадь перевозчика медленно вступила в поток и белые бурунчики заметались около ее ног.
Из-за гор поднималась луна. Вода в реке засияла множеством мелких серебяных монет. Зачернел далекий противоположный берег и стало видно, что Сурхан разлился широко и превратился в могучую реку. Напрасно напрягая зрение, Джалалов и Курбан искали на блестящей поверхности вод старика, он исчез...
Потянуло холодом. Курбан сказал со вздохом:
— Поехали, брат!
Лошади, скрежеща копытами по гальке, начали подниматься на высокий обрыв. На боках их в лунных лучах поблескивали капли воды. Фантастические тени падали на пустынную дорогу. За низким дувалом в саду горел огонь. Доносилось жалобное тренькание дутара. Неумелые руки безуспешно пытались исполнить старинную мелодию. По-видимому, топот копыт привлек внимание игрока. Чей-то голос спросил:
— Эй, откуда?
Всадники промолчали, подгоняя лошадей.
— Эй!
— Черт бы его побрал,— вполголоса заметил Джалалов,— вот навязался!
Тот же голос раздался совсем близко. Видимо, человек запыхался от быстрого бега.
— Вы из-за реки?— Он вынырнул из-за ограды и подскочил к лошадям.
— Да.
— Салом алейкум!
— Валейкум ассалом!
— Вы были за рекой?
— Да.
— Там одного человека не видели?
— Какого человека?
— Уважаемого, почтенного, толстого Шахабуддина-кази.
— Нет,— соврал Курбан,— видели непочтенного, худого, как арбяной гвоздь, не Шахабуддина, не казия.
— А-а,— разочарованно протянул человек,— а ведь в Сурхане воды много.
— Болыие, чем нужно.
407
— Ну значит Шахабуддин не приедет. Пойду спать...
Человек повернулся и ушел в сад. Без всяких помех всадники добрались до хижины у одного карагача. Арычный мастер оказался словоохотливым и добродушным локайцем. Хлопоча около очага, он так и сыпал словами, стараясь рассказать о кишлачных новостях как можно быстрее.
— Тут люди со всех сторон съезжаются — смущенно говорил он,— как бы кто-нибудь не подъехал. Хорошо, если друг приедет, а то бог знает! Разные тут люди в нашем кишлаке.— Он подсел на рваный пропыленный палас к гостям и доверительно зашептал: — Дела Шахабуддина затруднительны. Все сильные и знатные от него отвернулись. Черную бороду тоже многие не хотят. Баи боятся, что совсем большевиком станет... Да, да, этого кровопийцу тут другом Советов хотят прославить. Он им не подходит. За него и тридцать голосов не наберут. Вот тут одну птичку-невеличку нашли. И умен, и в галифе ходит, и «да здравствует» кричит, а сам сынок сарыджуйского бека, и духовенство ему помощь обещало.
— Откуда вы знаете?— удивился Курбан.
— Я все знаю,— сказал мастер, и хитрые его глазки сузились.
— А дехкане, что скажут дехкане?— раздраженно проговорил Джалалов.
Арычный мастер даже удивился:
— Дехкане? Они скажут: «хоп!»
— Где же ваш Союз бедноты?
— Союз?.. Есть. Только басмачи предупредили: «Кто в союз малоземельных дехкан войдет, тот — большевик, а большевикам — смерть!»
— Вот что,— твердо заявил Джалалов,— кого можно собрать из верных людей?
Мастер колебался.
— Чего вы боитесь?— сказал Курбан.— Или баи окончательно вам проели печенку?
— Боимся? Конечно, боимся. У нас очень плохо в кишлаке,— чистосердечно признался мастер.— Если бы мы были сами, одни, мы бы сделали как нужно. И Шахабуддин, и Черная борода, и этот, что в галифе ходит, убрались бы из нашего кишлака с мокрыми хвостами, но...
— Ну, в чем же дело?
408
Глаза мастера забегали. Он вскочил, подошел к двери, приоткрыл ее и долго прислушивался. Потом вышел во двор. Шаркающие шаги его были слышны отчетливо. Видимо, он дошел до ворот и вернулся.
Все еще озираясь, он сел, поманил к себе Джалалова и Курбана, и когда они наклонили к нему головы, чуть слышно прошептал.
— Кудрат-бий...
— Что!?
— Кудрат-бий здесь. Он остановился в доме Шахабуддина.
— Сам Кудрат-бий здесь. Он хочет свою «советскую» власть насаждать... Лучше бы вам уехать,— говорил изможденный, почерневший, как кора карагача, дехканин.— Вашему здоровью наш воздух не подходит. Жизнь ваша подвергается здесь опасности... Знаете, что это за люди? Что они с дехканами сделают, если дознаются...
Хор голосов поддержал его.
Обведя глазами присутствующих, Джалалов, твердо чеканя слова, заявил:
— Нет, друзья, мы остаемся. Опасность есть. Ну что же, кто боится, пусть сидит дома. А я скажу, бояться не надо. Кудрат-бий завтра не посмеет вылезть из норы этого Шахабуддина. Иначе про него что скажут? Скажут и в Гиссаре, и в Локае, и в Кулябе: «Приехал, как бек, и приказал выбрать таких людей, каких ему хочется». Нет, он похитрее. Он сделает так, чтобы кишлачники сами выбирали себе власть. А власть — это угодные ему люди. Хотите, чтобы так вышло? Нет? Ну, так слушайте внимательно...
Разошлись на рассвете. Над Сурханом поднялся туман, и жемчужно-молочные полосы его стлались по зеленым еще холмам.
Около мечети гудел карнай и били в огромный барабан.
Как и предсказывал Джалалов, ни Кудрат-бий, ни его приближенные в многотысячной толпе дехкан, пришедших на выборы, не появлялись. Басмачи сидели за высокими, массивными воротами шахабуддиновского дома и руководили оттуда действиями своих приближенных, подручных и соглядатаев, шнырявших среди дехкан.
409
Важные, в шелках и белых чалмах имамы один за другим выплывали из дома казия.
Джалалов и Курбан скромно держались в стороне. Забравшись в чайхану, они наблюдали за базарной площадью, заполненной шумной толпой.
В чайхане, против обыкновения и вопреки всем правилам мусульманского хорошего тона, все наперебой громко разговаривали. То там, то здесь разгорались жаркие споры. Словесные перепалки возникали, как правило, между сытыми, гладкими крепышами, одетыми в добротные суконные или шелковые халаты, и полунищими, раздетыми, разутыми дехканами. Особенно обращал на себя внимание чахоточный, с бельмом на глазу крестьянин в жалких лохмотьях. Одежда его была покрыта толстым слоем пыли. Он, видимо, пришел откуда-то издалека. Не успел он расположиться на помосте, покрытом паласом, как из глубины чайханы раздался голос:
— Эй ты, Махкам, что тебе, в хлеву места мало? Резко повернувшись, Махкам пробурчал в ответ:
— А тебе тесно, что ли?
— Я привык, чтобы кругом чисто было.
Махкам огрызнулся:
— Ну, и иди, куда хочешь.
— Ого, ого, не больно голову задирай! От тебя хлевом воняет.
— Подожди, как бы от тебя чем-нибудь похуже не завоняло.
— Убирайся!
— Сам убирайся!
Совсем рядом монотонно гудел гнусавый голос:
— Шахабуддин сто баранов пожертвовал. Только бы его выбрали. А Черная борода...
— А Шахабуддина выберут? Вдруг не выберут!
— Выберут. Только вот плохо — не едет. Река разлилась. Без него не хорошо. Могут придраться, а Черная борода...
— Шахабуддин нехороший человек, взяточник. Могут не выбрать.
— Да... А вот Черная борода уже неделю угощение делает. Говорят, десять тысяч рублей пожертвовал. Имамы совещаются. Как такого щедрого на подачки человека казием не назначить! Всем направо-налево подарки делает. Только его не выберут.
410
— Почему?
— Наш помещик говорит — разве можно безбожника выбирать? Он всех женщин общими сделает.
— Да ну?— удивлялся невидимый собеседник. Очень хотелось Джалалову посмотреть на говоривших, но он боялся привлечь к себе внимание. Курбан наклонился к нему и вполголоса сказал:
— Тут очень серьезное дело. У байских людей оружие есть. Они так место не уступят.
— Ничего, пусть между собой поцапаются... Только напрасно они про народ забыли. А ты посматривай, брат. Скоро собрание...
Взрыв возгласов прервал их разговор. Джалалов резко повернулся всем телом в ту сторону, где веселилась толпа, и вздрогнул. В двух шагах от дощатого помоста стоял мутавалли Гияс-ходжа.
Он был все тот же, с холеной своей бородой в ослепительно белых одеждах. Только лицо его стало еще бледнее и горькая усмешка кривила губы.
Джалалову показалось, что мутавалли только что разглядывал его. Он хотел поделиться своей тревогой с Курбаном, но тот уже соскочил на землю и шагнул в толпу. Джалалов пошел за ним.
Новый взрыв воплей сотряс телеса двух десятков здоровенных толстяков, одетых, несмотря на жару, в стеганые ватные халаты. Все в этих людях было грубо и громоздко, голоса зычны и назойливы. У каждого за поясным платком была тяжелая камча, сплетенная из бычьей кожи. Джалалов признал в них бабатагских помещиков, невежественных степняков, болтающихся по базарам в поисках развлечений.
Сейчас эти люди собрались на площадке перед чайханой, привлеченные интересным зрелищем.
Джалалов не сразу понял в чем дело. Посреди круга захлебывавшихся от удовольствия зрителей сидел здоровенный костлявый парень, одетый в невообразимое рубище, с массой прорех, сквозь которые проглядывало грязное тело. Он сосредоточенно следил за двумя крошечными птичками, воинственно наскакивающими друг на друга. Здесь происходил перепелиный бой. Любители этой азартнейшей игры частенько проигрывали в несколько минут и деньги, и земли, и жену, и детей.
411
Парень гримасничал, скалил зубы. Ему, по всей вероятности, не везло. Толпа дико ревела. Джалалов спросил стоящего рядом человека:
— Чего они кричат?
Человек поперхнулся, покраснел от натуги и с трудом выдавил из себя:
— Кричат... о... почему кричат? Да вы что, не видите?
— Вижу. Человек выпустил на арену бойцовую перепелку...
— Человек? Разве человек? Бык. Прорва... Хо-хо! Он все проиграл сегодня, последний халатишко проиграл. Продулся. Хо-хо! Смотрите, смотрите. Сейчас его паршивой пичужке конец.— И он снова закатился так, что лицо его совсем посинело. Наконец он отдышался и заговорил: — Бож-же! Он опять бьется об заклад, этот шальной... Бож-же, и всегда проигрывает... с младенческих лет проигрывает.
Тут только Джалалов узнал в соседе своего ночного спутника, Шахабуддина-кази, и испуганно отшатнулся. Сам Шахабуддин был настолько увлечен зрелищем, что даже и не взглянул на Джалалова.
Не желая попадаться на глаза казию, Джалалов отступил шага на два назад, собираясь нырнуть в толпу.
И вдруг он опять почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. На этот раз он поймал его. На другой стороне круга гогочущих зрителей стоял, все такой же чопорный и степенный, мутавалли. Он холодно и внимательно разглядывал Джалалова, стараясь, очевидно, что-то вспомнить. Едва глаза их встретились, он слегка отвернулся и постарался придать лицу безразличное, скучающее выражение. Почти тотчас же страшное беспокойство овладело им, губы задрожали. Он еще раз взглянул на Джалалова, и юноша был поражен происшедшей в мутавалли переменой — взгляд его был полон ненависти.
Метнувшись в сторону, мутавалли исчез. Курбан громко выругался. Перепрыгнув через дерущихся перепелок, он смешался с толпой. Недоумевая что бы все это означало, Джалалов начал выбираться из толпы. Сделать это было не так легко, и когда юноша, наконец, вышел на базарную площадь, он смог разглядеть только далеко впереди мелькавший белый халат мутавалли и приметную высокую фигуру Курбана. Чертыхаясь, Джалалов поспешил за ними, но спокойный тихий голос остановил его:
412
— По солнцу ходить не стоит, голову напечет. Рядом с Джалаловым стоял арычный мастер. Он улыбался приветливо и в то же время хитро.
— Не спешите,— добавил мастер успокоительно.
— Куда побежал Курбан?
— Сейчас объясню. Пройдите сюда.
Они прошли между двумя чайханами, гудевшими, как пчелиный улей, и, завернув за пристройку, оказались под прохладной сенью густых карагачей, у большого хауза, поросшего осокой. В стороне был разостлан палас, на котором сидели дехкане. Увидев Джалалова, они вскочили и, сложив руки на животе, отвесили глубокий поклон. Когда все уселись, мастер, наливая в пиалу чай, заговорил:
— Нехорошо. Мутавалли, оказывается признал вас и побежал в дом Шахабуддина-кази... А побежал он в дом Шахабуддина-кази вы знаете почему?
Джалалов вскочил на ноги:
— Так чего же вы меня сюда притащили?! Я пойду...
Осторожно притронувшись к руке Джалалова, мастер проговорил:
— Мутавалли не пристало бегать по улицам кишлака, как несмышленному мальчишке. Сейчас к нему подошли люди нашего селения и сказали: «Вы почтенный человек, а бежите, как горный козел. Разве совместимо это с вашим достоинством?» Они помогли ему подняться по ступенькам в Зеленую мечеть. А там... там глубокоуважаемый мутавалли будет молиться, долго молиться...
— И что же?
— И Кудрат-бий ничего не узнает. Не узнает, что приехали люди от Советской власти, и будет сидеть в шахабуддиновой норе, пока не выберут казия.— Мастер запустил все пять пальцев руки в бороду и покачал головой.— Мы будем выбирать по вашему совету, а этот... опутав себя своей паутиной, будет сидеть и ничего не видеть.
Он рассмеялся. Засмеялись и дехкане, но не весело. Пришел Курбан. Побагровевшее лицо его было покрыто крупными каплями пота, он тяжело дышал.
— Напрасно я трудился,— сказал он.— Дядюшки сами хорошо стерегут ворота судьи, там и кузнечик не проскочит. И молодцы: без крика, без шума.
— У нас, как в чугунном котле — кипит бурно, а снаружи не видно,— усмехнулся мастер.
413
Собрание было устроено в старом парке при полуразвалившемся мазаре. Рассаживались группами. Впереди уселись седобородые. Головы многих из них были увенчаны белыми чалмами — признак глубокой религиозности или знак духовного сана.
И Джалалов не без тревоги подумал: «Как они скажут, так оно, пожалуй, и будет, а попробуй их сагитировать?».
Дехкане победнее оказались на самом худшем месте, там, где припекало солнце. И снова Джалалов посетовал про себя: «Как они будут голосовать, если даже здесь подхалимничают перед баями».
Двое бледных юношей с одутловатыми физиономиями, взявших на себя распорядительские обязанности, рассадили баев и зажиточных дехкан на паласах и циновках в холодке под сенью густолистых деревьев и, сломя голову, носились взад и вперед, поднося им чай, разжигая чилимы.
Большое возвышение заняло духовенство. Там же расположились и кандидаты в казии — Шахабуддин, Черная борода и бекский сынок.
Пока они были настроены очень мирно. Одна пиала ходила из рук в руки, и соперники изощрялись друг перед другом во взаимных любезностях.
Батраки жались на солнцепеке поближе к ограде. Они угрюмо молчали, внимательно разглядывая каждого проходящего. Если это был бай, то в толпе батраков слышался гул подобострастных приветствий, а сидящие впереди даже вскакивали и отвешивали поясные поклоны.
Особенно усердствовал маленький, изможденный старикашка с выпиравшим из-под бороды зобом. Он забегал впереди идущего и кланялся много раз, что-то бормоча и всхлипывая.
Поведение его возмущало Джалалова, и он порывался вскочить и пройти к батракам, посмотреть, что это за «блюдолиз». Но арычный мастер, сидевший рядом и напряженно следивший за всем происходящим, удержал его за рукав.
— Вы не знаете его, поэтому так думаете. Это Сайд Назар. Прислушайтесь лучше к тому, что он говорит.
Но как ни напрягал слух Джалалов, слов зобатого старика он так и не смог разобрать.
Однако ему вскоре стало понятно, что он ошибся. Каждый раз, как старичок возвращался на место, среди батраков раздавались взрывы хохота. Правда, смех поч-
414
ти мгновенно стихал, и батраки начинали робко озираться по сторонам, но Джалалову стало ясно, что зобатый паясничает, высмеивая всех этих баев, помещиков.
— Что он говорит там?— спросил Джалалов.
— Сайд Назар балагурит, рассказывает притчи и анекдоты. У него злой язык, острее бритвы. Ничего, пусть дехкане посмеются, а то они очень трусят...
На возвышение поднялся невысокий бритый бухарец в шитой золотом тюбетейке, одетый во все черное. Даже рубаха, выглядывавшая из-под изрядно потрепанного пиджака, была тоже из черного сатина.
— Это из Сары-Ассия человек, джадид,— шепнул мастер,— он переводчиком в финотделе пристроился. Раньше был писарем у бека. Известный подлец и бабник.
Переводчик долго мялся, то прятал руки в карманы галифе, то опять вынимал их, потом достал портсигар, закурил, откашлялся, снова помялся. Наконец он заговорил — невнятно, скороговоркой. С трудом можно было разобрать, что он уполномочен открыть собрание. Выхватив из кармана бумажку, он прочитал по ней состав президиума собрания.
Джалалов возмутился: все заранее рассевшиеся на паласе баи оказались в президиуме. Переводчик выкрикнул:
— Возражений нет?— и, не дождавшись ответа, добавил: — А председателем предлагаю опытного и знающего, образец справедливости и хранителя добродетели Шахабуддина... Возражений нет? Принято единогласно. Обращаясь к казию, он залебезил: — Прошу, почтеннейший, возглавьте собрание!
Многие из дехкан, сидевших поодаль, поднялись и подошли ближе. Бледнолицые прислужники засуетились, пытаясь оттеснить их назад, но бородачи встали стеной.
Снова заговорил писарь. Масляные глазки его так и бегали.
— Мусульмане,— воскликнул,— братья мусульмане, зачем мы собрались в это священное место? Об этом мы объявили народу уже много дней назад. Мы собрались, чтобы народ сказал свое слово, кому быть теперь нашим казием, светочем закона. Вы знаете, о мусульмане, раньше, во времена эмира, казия назначал бек. Но советская власть сказала: «Нет, казия назначать не надо. Надо, чтобы народ сам сказал, кого хочет он иметь казием».
415
И вот мы собрались, чтобы выбрать казия... достойного уважения, почтенного, чтобы все слушались его и подчинялись решениям его.
Переводчик испуганно замигал глазами и сел. Больше его никто не видел и не слышал до конца собрания.
Произошла заминка. Баи и ишаны на возвышении перешептывались. Они были, очевидно, в затруднении: что же делать дальше?
Джалалов сделал движение, чтобы встать, но арычный мастер снова остановил его.
Поднялся дряхлый старик. Ослепительно белая борода закрывала ему грудь. Старца поддерживали под руки двое юношей.
В толпе пронесся шепот:
— Ишан, сам ишан будет говорить!
Седобородый ишан протянул перед собой руки и медленно прочитал молитву. Пока он произносил священные слова, многие тоже держали перед собой руки ладонями вверх.
Отзвучали слова молитвы, и по всему саду пронеслось единым вздохом: «О-омин!»
— Кто говорил,— зазвучал в полном молчании голос ишана,— что с приходом большевиков-кафиров рушатся устои шариата? Неверно это. Большевики — безбожники, но они сами убедились — без веры, без ислама жить невозможно. Кто будет блюсти устои мусульманской семьи, кто будет охранять сердца мусульман от заразы, кто предотвратит разврат среди молодежи? Кто, я спрашиваю! И я скажу — казий. А кто такой казий? О, это божий человек. Знаток шариата и блюститель священного писания пророка нашего Мухаммеда, человек добродетельной жизни, человек, пользующийся любовью и уважением, слова которого для каждого будут верным решением всех вопросов, споров и тяжб. Мусульмане! Советская власть разрешила: имейте, мусульмане, свой суд, а советские люди — большевики, кафиры и всякие отступники будут иметь свой суд... так называемый народный суд. Ну, и пусть там судятся. А мы, мусульмане, знаем: и до большевиков были у нас казий, утвержденные руководителями нашей веры, и при Советах они остались. Да и как может быть иначе? Голос неверия поднялся три года назад, а казийский суд, слава аллаху, существует в Бухаре еще со времени халифа Моавия из династии Умнат, да будет с
416
ним мир. Двенадцать веков существуют во славу ислама казии. Двенадцать веков они судят по шариату. И что перед этим три года?! Пуф!.. Он злобно дунул.
— Нам не нужно было разрешение. Кто мог запрет наложить? Но раз разрешение есть, мы открыто говорим: советские власти поняли — велика сила ислама и нет другой силы, которая противостоит ей. Нет силы! Нет такой силы!— старец оттолкнул поддерживавших его юношей и потряс в воздухе дрожащими руками.— Нет такой силы! О, ислам, твое торжество явно! Но кому быть казием? Я спрашиваю. Казий назначается мусульманской церковью, так ведь, о, мусульмане, а большевики говорят: «Изберите казия». Ну что же! Великие основоположники говорили: «Не только силой и сопротивлением, но и смирением достигается торжество веры!» Большевики сказали: «Выбирайте!» Мы подчиняемся силе. Так я говорю?
На помосте среди баев послышались возгласы одобрения. Дехкане молчали. Мюриды под руки увели ишана.
— Ну,— заметил Курбан,— плохо этот дедушка знает коран и шариат. Разве так говорят, я бы...
— Тише! Смотри, сам ишан Ползун. Откуда он взялся?
Ишан Ползун подошел, опираясь на палку, к краю помоста. Он обвел собравшихся взглядом из-под мохнатых бровей и мрачным голосом заговорил:
— Времена эмирата и тирании прошли, но вера ислама незыблема. Советская власть велика и могущественно, и нет пользы сопротивляться. Но Советская власть великодушна — она говорит: выбирайте своих достойных людей на должности, от которых зависит ваша жизнь, ваше благополучие. Мы вас позвали, чтобы сказать вам о нашем решении.
— О чьем решении?— не сдержавшись, крикнул Джалалов. Все посмотрели в его сторону.
Ползун вытянул шею, стараясь разглядеть дерзкого, но мастер своей широкой спиной загородил юношу.
— Да, о нашем. Мы, почтенные люди всех кишлаков, старейшины, сегодня ночью собрались и решили — судьей быть Шахабуддину.
Со всех сторон поднялся ропот.
— Шахабуддин много лет был казием,— продолжал Ползун.— Он рукоположен самим казикаланом в Бухаре.
417
Он назначен беком. Он хороший человек. Все его знают. Он будет блюсти законы шариата и не даст в обиду ни сироту, ни вдову...
Слова Ползуна были прерваны громким смехом. Смеялся Черная борода. Захлебываясь, он проговорил громко, так, что его слышали в первых рядах:
— Не даст в обиду, это он, Шахабуддин! Да, я скажу...
Все, кто был на возвышении, зашумели, закричали. Куда девалось благообразие всех этих баев, имамов, ишанов? Не слушая друг друга, они кричали все сразу, потрясая в воздухе кулаками.
Джалалова поразило, что дехкане и батраки отнеслись к перепалке, разгоревшейся среди «власть имущих», с полным безразличием. Они не проявляли никакого интереса к тому, что творилось на возвышении. Только зобатый старичок протиснулся вперед к самому помосту и, присев на корточки и положив руки на колени, смеялся от всей души.
Волна криков стихла почти так же внезапно, как и поднялась. Огромными шагами, подметая землю полами великолепного красножелтого халата, величественно прошел по дорожке Черная борода. Он изрыгал проклятия. За ним бежало с полдюжины чалмоносцев.
Ползун хладнокровно наблюдал эту сцену. Он выждал, когда Черная борода ушел, и сказал:
— Господин Шахабуддин-кази, воля народа незыблема, примите наши поздравления.
Один из бледнолицых прислужников прокричал:
— Все присутствующие — гости Шахабуддина-кази. Милости просим!
Уже кое-кто поднялся с паласа. Группа дехкан двинулась к выходу. Под деревьями стало шумно. Тогда прозвучал звонкий голос:
— Мусульмане! Мусульмане! Послушайте.
Все обернулись к возвышению. Расталкивая чалмоносцев, на помост вскочил Джалалов, за ним Курбан и арычный мастер. Баи не успели остановить их.
— Братья, вас провели за нос, как несмышленных ребят. Вас собрали выбирать казия, а оказывается — он уже выбран. Советская власть разрешает вам, народу, выбирать казия, а кто его выбрал? Вы, что ли? Народ, что ли? Посмотрите на них!
418
И Джалалов показал рукой на Ползуна, на дородных чалмоносцев.
— Народ!— фальцетом крикнул зобатый старичок.— Больно пузатый народ.
Прижав руку к животу, он пронзительно захохотал, имитируя крики молодого петушка.
Вокруг засмеялись. Напряжение исчезло. И Джалалову стало сразу как будто свободнее. Он заговорил легко и просто. Ему помогало и то, что дехкане привалили к помосту и их возбужденные лица были здесь, рядом, блестящие глаза их были с надеждой устремлены на него.
Не остановился Джалалов и тогда, когда чей-то голос, кажется, самого Ползуна, проскрипел рядом:
— Неразумный! Жизнь тебе надоела? Голощекий, берегись!
— Друзья,— говорил Джалалов,— кто такой Шахабуддин? Забыли, что ли? Он держал в своих цепких лапах все окрестные кишлаки, как пучок соломы. Он делал с кишлаками что хотел. Хотел бай отнять у дехкан землю, Шахабуддин-кази писал васику и выдавал ее баю. И земля, как птичка, вылетала из рук бедняка. А почему? Бай смазывал руку казия бараньим салом, печать вынималась из-под пояса, «хлоп!»— и готово. Хотел помещик забрать двенадцатилетнюю дочь вдовы к себе на позор и издевательство, он шел к Шахабуддину-кази и давал ему взятку. И сколько бы ни плакала вдова и не уверяла тысячами клятв, что сиротка еще маленькая девочка, а печать опять «хлоп!» по бумаге, и позорное дело совершалось. А пока Шахабуддин не получал барана, разве мог бедняк выдать свою дочь замуж, даже если она была уже в годах? О, тогда уверения отца считались сомнительными, а казий качал своей чалмой и выражал опасения, что можно неосмотрительно нарушить шариат, выдав замуж девушку, не достигшую зрелости. А сколько безвинных людей, только потому, что они не понравились этому ублюдку Шахабуддину, ни за что ни про что попадали в яму и кормили клопов многие годы? Безвинно осужденный не мог никакими заявлениями и просьбами доказать свою правоту и снять с себя возведенную на него напраслину. А достаточно было великому грешнику, отцеубийце, насильнику своей дочери Сиддыку-лизоблюду, осужденному на восемнадцать лет, дать приличную мзду Шахабуддину, и восемнадцать лет тюрьмы превратились в восем-
419
надцать минут. Сколько вы, дехкане, страдали только из-за того, что ни одна бумага не была законна, если Шахабуддин-кази не «хлопнул» по ней своей печатью. Легкий труд был у вашего казия. За одно движение руки он получал и баранов, и хлеб, и коней, и красивых девушек. Вот ты, Карим, молчал сегодня, когда баи снова выбирали судьей Шахабуддина, а припомни, разве он вступился за тебя, когда при помощи подложной бумаги купеческий сын Маматкул забрал твой виноградник, как наследство никогда не существовавшего дяди? Или ты забыл об этом?
Худой, бледный дехканин в рваном халате мгновенно забрался на помост и закричал:
— Забыл? Нет, разве это забывается! Я умолял, я просил: «О судья, одно движение руки — и печать приложена. В твоих руках благосостояние, счастье, жизнь целой семьи». А он? Он и не смотрел на меня, ибо у меня ничего не было, чтобы дать ему. Много дней я жил у Шахабуддина в конюшне, чистил лошадей, выносил навоз. Коленями вытирал порог его михманханы. И все надеялся. Подметал ему двор. Жал клевер, колол дрова, всю черную работу выполнял. Но мое дело и на волосок не подвинулось. Что хочешь делай, а Шахабуддина-кази слезой не проймешь. Казий бедноту и за людей не считал. «Эх вы, мразь! Да две сотни вас и пальца байского не стоят,— говаривал он.— Был бы бай да ишан довольны». Вот «закон» казия...
Шахабуддин сидел неподвижно, и только по бледному лицу его катились крупные капли пота.
— Ну, как,— повернулся к толпе Джалалов,— нужен вам такой судья как Шахабуддин? Хотите вы, чтобы он по-прежнему «хлопал» печатью и наживал богатства?
Несколько робких голосов выкрикнуло:
— Нет, не хотим!
Их подхватили более дружно в задних рядах:
— Не надо, пусть убирается!
А еще через минуту кричала единодушно вся толпа.
— Вон! Убирайся, старый пес!
— Кого же вы изберете казием вместо вора и взяточника Шахабуддина?— наконец удалось перекричать толпу Джалалову.
Он по-мальчишески наслаждался победой и с торжеством посматривал на гудевшую толпу, забыв, что в
420
двухстах шагах в доме Шахабуддина-казия сидит сам Кудрат-бий со своей бандой головорезов.
Но друзья были начеку.
— Поспешим,— зашептал арычный мастер,— если Кудрат-бий терпел и не вмешивался, то потому только, что был уверен... А сейчас, как узнает...
Только теперь Джалалов вспомнил об опасности. Он обежал взглядом толпу, ища знакомые лица, и увидел человека, ожесточенно прокладывающего себе локтями дорогу к помосту. Это был широкоскулый, с изрытым оспой лицом, человек лет пятидесяти.
— Я хочу сказать,— крикнул он могучим басом так, что многие вздрогнули.
— Говорите,— сказал Джалалов. Человек быстро взобрался на помост.
— Не надо нам Шахабуддина, не надо нам Черную бороду,— загудел он.— Не надо нам их. Пусть идут туда, откуда пришли. Так ли?
— Так, конечно так,— закричали в толпе.
— Вот хорошо! Но кого же выбрать? Не знаете? Говорят, казием должен быть знаток шариата, а есть ли среди дехкан такой человек? Нет, среди дехкан нет даже одного человека, умеющего как следует читать книгу. А если мы выберем грамотного, то он окажется баем или ишаном. А зачем нам казий из богачей? Он будет такой же лихоимец, как и Шахабуддин... Не будем никого выбирать казием. Я слышал, есть теперь в Сары-Ассия советский суд, народный суд. Он судит по нашему закону, закону трудящихся. Вот и достаточно. Не надо нам казия!
Шум поднялся такой, что несколько минут ничего нельзя было разобрать.
Баи и имамы незаметно исчезли под темными сводами старого мазара. Один только Шахабуддин остался сидеть на ковре. Он судорожно хватал пустой чайник и пытался налить себе в пиалу чай. Но вода не лилась; тогда он подымал крышечку, заглядывал внутрь, и губы его беззвучно шевелились. С минуту посидев неподвижно, он ошалело оглядывался и снова хватался за чайник.
Горбатая, искривленная фигура Ползуна мелькала в толпе. Он пытался что-то объяснить дехканам, но его никто не слушал.
Наконец он подошел к возвышению и приторно вежливо обратился к Джалалову:
421
— Я не знаю вас, домулла, но поражен вашими толковыми рассуждениями. Вы, наверное, не здешний; не хотите ли отдохнуть? Воспользуйтесь нашим гостеприимством.
Ласковое его обращение никак не вязалось с блудливо бегавшими глазами.
Джалалов насторожился:
— Не хочу вас затруднять. Спешим до ночи попасть в Денау,— осторожно отклонил он любезное приглашение.
— Но я вижу, что вы утомились, произнося столь пылкие речи. Поистине, надлежит сейчас покушать и насладиться покоем.
— Нам некогда думать о покое,— вмешался в разговор Курбан.— У нас нет времени ходить в гости. Мы поедем.
Он увлек за собой Джалалова.
Ползун некоторое время пытался не отставать от друзей, но арычный мастер и группа батраков встали перед ним плотной стеной. Яростно взглянув на дехкан, он повернулся и стремительно заковылял к мазару.
Смешавшись с толпой, Джалалов и Курбан поспешно прошли к чайхане. Лошади были уже заседланы. Воспользовавшись быстро спустившимися сумерками, всадники незаметно выбрались из кишлака, спустились с обрыва и быстро поехали тугаями по дороге на Шурчи.
Курбан громко рассмеялся.
— Что вы?— спросил Джалалов.
— А они нас будут искать на денауской переправе...
— Пусть ищут...
Давно неезженная дорога уводила в бесконечные тугаи. Стена зарослей обступила всадников. Местами из серебряной листвы кустарникового лоха и перистых камышей выглядывал старый дувал с черными глазницами, по-видимому, совсем недавно пробитых бойниц, вносивших в мирную картину вечерних сумерек тревогу и напряжение. Где-то далеко кричала перепелка.
Джалалов ехал молча, перебирая в памяти подробности сегодняшнего суматошного дня.
Перед глазами юноши возник бледный облик плачущей Саодат. Что с ней? Где она?
Курбан внезапно спросил:
— Что вы вздыхаете?
422
— Да так.
— Что мы теперь будем делать?
Но Джалалов не успел ответить. Лошадь его с храпом шарахнулась в сторону, и он чуть не свалился с нее в сухой арык.
— В чем дело, черт!
Резко осадив дрожащего коня, Курбан стал вглядываться вперед. В белой пыли лежал, закинув голову, и оскалив зубы в предсмертной муке, человек.
Понукая упрямившихся лошадей, друзья подъехали ближе. Теперь ясно стало — человек был мертв.
После долгого молчания Курбан хрипло проговорил:
— Недавно его...
— Почему вы думаете?
— По цвету крови видно.
Страх стал медленно закрадываться в души молодых людей. Они почувствовали себя сиротливо перед лицом наступающей ночи. Ветер таинственно шелестел в Камышевых зарослях, черные загадочные фигуры уродливо искривленных деревьев грозными призраками стояли на обочинах дороги.
— Едем!— вполголоса пробормотал Джалалов. Он не предложил даже слезть с коня и осмотреть тело. В голове его вертелось одно слово: «басмачи...»
И когда через четверть часа впереди послышался неясный шум, Джалалов мгновенно спрыгнул на землю и, ведя коня под уздцы, поспешил укрыться в глубоком, заросшем камышом, сухом арыке. Курбан безропотно последовал за ним.
Они долго двигались вперед, напряженно вслушиваясь в тьму. Ноги неслышно ступали по мягкому песку, и повеселевший Курбан хотел уже заговорить, как вдруг вверху, совсем недалеко, раздался топот копыт.
Джалалов и Курбан метнулись в сторону. Пробравшись через густые камыши, они переползли через невысокий дувал и залегли. Лошади остались внизу. Слышно было, как они ели траву, фыркая и отряхиваясь. Неуемно шумели кроны высоких деревьев.
Курбан шептал что-то, но понять его было невозможно. Джалалов внезапно схватил его за руку.
— Что это?
Творилось что-то непонятное. Во тьме ночи медленно возникло светящееся пятно, на котором четко вырисовы-
423
вались фантастические силуэты деревьев. Пятно росло, делалось все ярче. Теперь ясно был виден дувал и все пространство сада.
Джалалов впоследствии рассказывал:
«Я подумал, что схожу с ума. Нет, я поверил в существование духов, привидений... Перед нами возникла сказочная гигантская фигура. Неслышно двигался на коне легендарный богатырь из старинной сказки в доспехах, в шлеме. В ореоле сияния оружие поблескивало голубыми искрами. Сказочный герой сошел с облаков на землю, меч сверкал в его руке. Сколько это волшебство продолжалось — не знаю. Призрак исчез... Только теперь я заметил, что сад озарен тихим светом взошедшей луны и что по дороге за дувалом слышен топот копыт. Но я был так поражен, что не мог шевельнуться...»
Заржал конь Курбана, и тотчас же отозвалась лошадь на дороге. Послышался шорох обваливающихся комков глины, и над дувалом показалась голова бородача в мохнатой лисьей шапке.
— Кто ты?
Поднявшись с земли, Джалалов спокойно ответил:
— Я человек.— Он был готов ко всему.
Еще несколько голов появилось над дувалом. Пары поблескивающих в лучах луны глаз испытующе разглядывали юношу.
— Да это наш... студент,— удивленно прозвучал чей-то голос.
С радостными возгласами бежал к дувалу Курбан. Через минуту они обнимались с Санджаром.
— Что вы здесь делаете, друзья?— спросил командир.— Как вас сюда занесло?
— Мы едем с выборов. А что слышно о Саодат?
— Товарищ сказал в безопасности. Она уже в экспедиции.
Губы Санджара чуть скривились, но только на секунду. Джалалов украдкой вглядывался в суровое лицо прославленного воина. Он сконфуженно вынужден был признать, что Санджар всем своим обликом удивительно был похож на видение, только что плывшее по дороге из лучей лунного света.
Командир о чем-то задумался. Глаза его смотрели вдаль, в сторону чуть искрящихся на темном далеком хребте полос снега.
424
— А Кудрат был там,— сказал Курбан.
— Где?— встрепенулся командир.
— В кишлаке, на выборах...
— Вот это дело... Расскажите, расскажите все, как было.
Внимательно выслушав рассказ, он сказал:
— Хорошо. Вы Курбан и Джалалов поедете со мной, а отряд двинется прямо. Мы кое-что посмотрим.
Весь день Санджар в сопровождении Курбана и Джалалова скакал по каменным душным саям, крутым перевалам, выжженным степным урочищам. Облезлые бурые холмы то вздымались, то опускались. Ни деревца, ни хижины. Горячий ветер — афганец смел с лица земли всякие следы жизни, загнал людей в узкие, тесные ущелья со скудными родниками солоноватой воды...
Уже совсем стемнело, когда обессиленные долгой скачкой и изнурительным зноем путники подъехали к большому кишлаку Джума-базару. Прямо из-за крутого поворота дороги они наскочили на костер, разожженный в яме под высокой глинобитной стеной. Около костра сидели люди.
Поворачивать было поздно, и Курбан громко поздоровался. Чья-то широкая спина заслонила огонь костра. Глухо, как из бочки, прозвучал голос. Курбан произнес дорожную молитву, призывающую благословения на путников, застигнутых ночью в дороге. Завязался обмен цветистыми пожеланиями и любезностями.
Наконец тот же голос пробубнил:
— Прошу к костру, передохнуть.
Всадники спешились и подсели к огню.
Пламя то разгоралось под порывами ветра, то притухало. Сырой хворост дымил и чадил. Начал моросить дождик. Холодный ветер внезапно подул с гор. Все молчали и исподтишка разглядывали друг друга.
Первым не выдержал Джалалов.
— Вы бы, друзья, выбрали место среди голой степи — там и ветра больше, и дождь посильнее...
Человек в кожаном отороченном мехом малахае и низко надвинутой на глаза лисьей шапке, из-под которой виден был только плоский с вывороченными ноздрями нос и огромная рыжая борода, недружелюбно проговорил:
425
— Пожаловал к костру — ну и благодари.
Сидевший в тени приземистый толстяк повернул к гостям лицо. Джалалов и Курбан вздрогнули от неожиданности: перед ними был сам Безбородый — хранитель печати Кудрат-бия. Низко срезанный лоб, глубоко посаженные раскосые глаза, отливавшие желтым блеском, две дырочки вместо носа, выпяченные скулы, вывернутые зубы и почти полное отсутствие растительности на лице — весь отталкивающий облик этого человека знаком был всем и в Гиссаре и в Каратегине.
— Подлый кишлак, собачий кишлак, вонючий кишлак!— брызгаясь слюной, завизжал Безбородый.— Вот сидим здесь на ветру, мокнем под дождем, мерзнем, и в животе у нас пусто, а треклятые дехкане, нажравшись дрыхнут под одеялами бок о бок со своими бабами. Проклял аллах, что ли, своих воинов? Дожили мы до времен!
И он разразился ругательствами. Джалалов прервал его.
— Ну, а что же мешает нам пойти в кишлак и...
— Не ходи! Не ходи, юноша, не ходи, простодушный младенец. Ужели ты не понимаешь, что тут за люди, чтобы они передохли, не дожив до старости! Это отребье не пустило нас к себе.
— Как не пустили?
— Так вот и не пустили. Сказали: «Не лезьте. Вы, может быть, разбойники, кто вас разберет там в темноте...» Мы и про приказ говорили, и про то, что у нас грамота есть...
— Какая грамота?
Глаза Безбородого забегали. Наклонившись всем телом вперед, он пытался разглядеть лицо собеседника.
— А вы кто будете?— вдруг спросил он.— У вас есть грамота? Или у вас нет грамоты? Кто вы, куда едете? А?
— А какое у вас право спрашивать про какие-то грамоты?— вскипел Джалалов.
— А такое, что я — хранитель печати господина парваначи. И есть приказ его светлости: «Если будет обнаружен кто-нибудь без моей грамоты на руках, ловите его и бросайте в яму, подвергнув побоям».
Рыжебородый и еще двое сидевших за костром басмачей, по-видимому из дехкан, зашевелились, придвинулись поближе и стали напряженно прислушиваться к разговору.
426
Курбан неторопливо поднялся:
— Надо коней, что ли, посмотреть.
Он отошел в темноту. Слышно было, как он похлопывает лошадь по шее и разговаривает с ней.
— Где ваша грамота? Ну?— повторил Безбородый.
Санджар, не спеша, передвинул на поясе кобуру с маузером.
— Вот моя грамота, видишь ты, Безбородый!
Хранитель печати вскочил, но Санджар схватил его за рукав и одним рывком посадил на место.
— Ты, Безбородый, не мусульманин, я вижу, если своих мусульман не признал. Что же ты ослеп, наверно, господин Абдукаюм Мухрдор?— И продолжал презрительно:— Посмотрите на этого Безбородого, очень старого, трехсотлетнего Безбородого. Ты видел, наверно, времена потопа, недаром так одряхлел. Всю жизнь ты занимался перепелиными боями да игрой в кости, да еще поглядывал на юношей. Посмотри на себя: ты вельможа, а у тебя на подбородке два волоска, да и те седые; ты обманывал двадцать раз самого сатану, а сейчас не можешь отличить белое от черного, друга от недруга...
Безбородый, выпучив рачьи глазки, ошеломленно смотрел на Санджара; нижняя губа его дрожала, из горла вырывались квакающие звуки. Молчаливые нукеры хихикнули, но разом осеклись, так как заговорил человек в лисьей шапке.
— Простите, господин, этого Безбородого, он всю ночь трясется от страха. Ему везде красные воины мерещатся. Я — Салих, ясаул, а вы наверно, с Кафирнигана едете? Вы не из армии Ибрагима?
— Откуда я еду и куда, господин ясаул, это мое дело,— сдвигая кобуру на место, важно проговорил Санджар,— но дела у меня секретные и серьезные, в которых ни перед вами, ни вот перед ним, Безбородым, отчитываться мы не собираемся...
Хранитель печати сразу, как только маузер был водворен на место, обрел дар слова. Пролепетав что-то о плохом свете костра, он вновь обратил свои проклятия на головы негостеприимных жителей кишлака Джума-базар.
Из слов Безбородого выяснилось, что он уполномочен самим Кудрат-бием собрать со всей округи налог на
427
содержание мусульманского воинства. По всем кишлакам списки налогоплательщиков составлены баями и настоятелями приходских мечетей, на каждое селение наложена крупная денежная сумма, которая поровну разделена между домами.
— Народ Джума-базара совсем отбился от рук. Когда заслуживающие доверия сыновья помещиков и почтенных купцов, как владеющие грамотой, выданной самим парваначи, пошли со списком по дворам за налогом, на них начали кричать: «Убирайтесь! Где справедливость? И богатый должен отдать сто тенег, и бедный — сто тенег? Проваливайте, пока целы». Когда баи сказали, что Кудрат-бий пришлет своих воинов, эти вшивые навозники заорали: «А мы Красную Армию позовем!» Подумайте только!— возмущался ясаул.
— Они мусульманство забыли,— завизжал Безбородый.— Вот мы и приехали. Парваначи приказал: «Собирайте зякет. Против тех, кто отказывается, примените оружие, набег и огонь и все же получите зякет...
— Ай-яй-яй, какая неприятность! Так вот почему вас в кишлак не пустили. О злокозненные дехкане! Да как они посмели поступить так с верными сподвижниками самого господина курбаши,— иронически заметил Джалалов.— А почему же баи и помещики не оказали вам гостеприимства? Неслыханное это дело.
— Неслыханное, неслыханное. С сотворения мира не было случая, чтобы не приняли гостя, неслыханно... Все сейчас перевернулось... Сейчас даже столпы ислама, и те впадают в неверие. Слыхали о Закире Пансаде?
— А что случилось с почтеннейшим курбаши Закир Пансадом?— встрепенулся Санджар.
— Ну, вы не здешний и всего не знаете,— ответил Безбородый.— Не называйте этого богоотступника почтеннейшим. Он... страшно сказать... сговорился с русскими.
— Что вы сказали?— Санджар уже не жалел о встрече с басмачами. Он постарался воспользоваться откровенностью не в меру болтливого приближенного Кудрат-бия.
Подошел и Курбан. Он встал за спиной Санджара, опираясь на свой и санджаровский карабины, и не сводил глаз с басмачей.
— Да, сговорился, подлец и сын подлеца, с русскими. Взял своих гузарцев и ночью уехал в Регар. Там на
428
базарной площади поклялся на коране, что больше не будет воевать с русскими, отдал оружие и получил разрешение вернуться к себе. Только Закир Пансад не успел и до Денау доехать.
— Почему?
— Его по дороге зарезали. Без шума, без крика. Чик, и готово.
— Воистину так будет со всеми изменниками.
От Санджара не укрылся подозрительный и вместе с тем тревожный взгляд, брошенный при этих словах Безбородым на молчаливых нукеров. Те сидели, как и раньше, спокойные и безразличные, с каменными лицами, ничем не выдавая своих чувств.
Безбородый многозначительно протянул:
— Его высокое достоинство господин парваначи повелел всякого, кто осмелится затеять переговоры с большевиками, сажать на кол или снимать с живого кожу.
— Конечно, конечно,— прозвучал из темноты голос Курбана,— острый кол, проткнувший кишки, отобьет у любого храбреца, будь он даже самим львом, желание сбежать из мусульманского войска.
Санджар поднялся.
— Ну, давайте в дорогу. Прощайте, воины ислама.
Отъехав шагов пятьдесят, Джалалов не без робости заговорил. Он всегда немного робел, когда брался за рискованное и опасное дело. Сейчас он внес предложение, и тут же пожалел, что у него сорвались такие слова.
— А их очень просто... Отсюда видно, как на ладони... Смотрите, какая превосходная мишень.
— Тсс...— зашипел на него Санджар.— Разве здесь только они? Их куча здесь. Они сидят вокруг кишлака под всеми дувалами, чтобы на рассвете кинуться на дехкан. Надо выбираться отсюда подобру-поздорову. Как бы этот Безбородый не раздумал.
— Но почему он не попытался нас задержать?
— Во-первых, он и впрямь поверил, что мы из басмачей, и к тому же из видных, а во-вторых,— завтра его ждет богатая добыча. Он рассчитал так: если мы басмачи, то придется с нами делиться, если не басмачи — кто его знает, чем кончится схватка? Еще встревожишь жителей кишлака, и они сами возьмутся за дубины да вилы.
429
Посвистав какой-то бодрый мотив, Курбан подвел итог неожиданной встрече с басмачами:
— Проклятый Безбородый, старый Безбородый, поганый Безбородый. Он любого храброго джигита за две копейки продаст, а мудреца за три копейки. Вонючий Безбородый — где только есть плохое, там он ищет и находит...
Когда Санджар со спутниками добрался до комендатуры Регара, было совсем светло, а в кабинете коменданта Кошуба разговаривал с молодым парнем из Джума-базара, где сегодня Безбородый собирал налог. Дехкане просили помощи.
...В первозданном нагромождении скал, холмов, обрывов затерялись мелкие группы всадников. Выцветшие зеленоватые гимнастерки, порыжевшие сбруи и запыленные кони сливались с пестрой расцветкой местности. И только изредка искрой, вспыхнувший под солнечным лучом металл да далекое звонкое ржание коня, почуявшего своего товарища, выдавали движение крупных сил красной конницы, двигавшейся к мазару Идриса Пайгамбара и гигантским серпом охватившей обширные пространства горной страны. На узкой тропинке, вьющейся по головоломной крутизне, вдруг возникали фигуры беспечно мурлыкающих песенку красноармейцев. Они оказывались внезапно среди глыб известняка, обрушившихся во время недавнего горного обвала, ползли, обдирая руки и голени, по острым гребням гранитных хребтов или медленно шагали по серой полыни высохших саев.
Движение не прекращалось и ночью. Но ничто не выдавало его: как и всегда, спокойно теплилось в горах несколько крошечных огоньков — одиноких костров, да прохладный ветер доносил тоскливую песню пастуха.
...Ночь медленно растворилась в тенистых ущельях, когда отряд Кошубы вышел в каменистый сай и двинулся по его жесткому ложу. Местами дождевые потоки проложили глубокие рытвины, усеянные крупной белой галькой, местами шли, насколько хватал глаз, ровные, покрытые сухой травой глинистые площадки.
Едва только показалось над вершинами Гиссара солнце, как стало нестерпимо душно.
— Вот как!..— почти про себя заметил Джалалов.
— Что как?— сказал Кошуба. Он почти непрерывно брался за бинокль, пытливо изучая местность.
430
— Да вон там — чинары, мазар и та плотина...
— А-а!
Кошуба с полуслова понял, что хотел сказать Джалалов. Ему была известна история хакима денауского, в неистребимой злобе разрушившего плотину и оставившего несколько кишлаков без воды, без жизни.
Неожиданно пригнувшись к терпко пахнущей потом шее коня, Кошуба ахнул как-то по своему, и конь, задорно тряхнув головой, полным карьером помчался по твердой лысой луговине. За ним с оживленными возгласами кинулись Джалалов, Курбан и несколько конников.
Вихрем пролетели они вдоль обрыва, внизу которого белел вспененный поток, перемахнули боковой неглубокий овражек, проскочили голову разрушенной, развороченной плотины и на полном скаку осадили коней в тени чинар у кирпичного здания гробницы строителя арыков.
Поразительная перемена! Жара сразу же исчезла. Среди могучих белых стволов чинаров, подпирающих гигантский шатер густой, плотной листвы, прохладно; пахнет сыростью и прелью. Высоко, под самыми небесами, мелодично посвистывают иволги. Заливаются трелью соловьи.
Тут забудешь сразу, что живешь в знойной Азии, что только что в белой галечной пустыне тебя к земле давила весомая, тяжелая духота...
Кошуба сорвал с головы фуражку и подставил разгоряченный лоб струйкам прохладного ветерка.
— Ого,— пробормотал вдруг комбриг,— мы, оказывается, здесь не одни.
Два пожилых человека в пышных чалмах, спугнутые неожиданным появлением всадников, вскочили с корней могучих деревьев, где они расположились в холодке, и, подхватив полы белых халатов, кинулись к пролому дувала, сложенного из обломков скалы.
— Стой, назад! — крикнул Кошуба. Почтенные богомольцы замерли на месте.
— Ну, ну,— чуть усмехнувшись сурово сказал комбриг,— кто такие?— Он легко спрыгнул с коня.— Что здесь делаете?
— Сжалься, милостивый господин, — загнусавил чалмоносец постарше и потолще.— Сжалься! Мы только ничтожные рабы, нищие монахи, возносящие молитвы к престолу...
431
— Знаю, знаю,— оборвал монаха Кошуба, пристально разглядывая его упитанное лицо с шелковистой черной бородкой,— вижу... Немножко молитесь боженьке, немножко обираете темный народ, немножко шпионите за Красной Армией...
Чалмоносцы сложили руки на груди и, униженно кланяясь, забормотали:
— О, мы только мирные шейхи. В нас нет вины и на перечное зернышко...
Их глаза блудливо бегали по сторонам, переходя с немногочисленной группы бойцов Кошубы на темную зелень сада, раскинувшегося позади здания мазара. С удивлением и надеждой они взглядывали на темную толпу дехкан, медленно приближавшуюся в облаке пыли по раскаленному каменистому ложу сая.
Желая оттянуть время, монахи гнусавили:
— Помилуйте! Мы только собиратели милостыни, мы умоляем всевышнего смилостивиться над несчастными отступниками, которых коснулась карающая длань за их непочтение, за пренебрежение обычаями отцов!
Голоса монахов все повышались, лица становились наглее. Теперь они уж не столько умоляли, сколько взывали к чьему-то заступничеству.
— И что вы за люди! Как можете вы столь дерзновенно врываться под сень священной обители и прерывать молитвенный покой сего места?..
Обернувшись к бойцам, стоявшим молча, с суровыми лицами, Кошуба приказал:
— Не спускайте с этих... божьих людей глаз. Тут недавно один божий человек удрал прямо на глазах,— он не без иронии посмотрел на Джалалова и Курбана, и их лица начали медленно наливаться краской.
Сам он быстро зашагал к плотине.
Собственно говоря, плотины уже не было.
Груды гальки, обломки скал, хворост, глыбы конгломерата, камни громоздились в полном беспорядке. Вода рвалась с ревом в промоины и бреши, билась и кипела в ямах. Казалось, здесь недавно произошел горный обвал, перегородивший дерзкий поток.
Примерно около половины сооружения сохранилось, но река упорно размывала его и угрожала окончательно стереть с лица земли.
432
Прыгая с камня на камень, карабкаясь вверх и вниз по мокрым глыбам, командир и сопровождавшие его Джалалов и Курбан с большим трудом перебрались через поток.
Здесь, на высоком берегу, копошились несколько человек. Полуголые, в рубищах, почерневших от грязи и пота, с засаленными тряпками вместо чалм, босые люди работали с остервенением, со злобой. Их было немного, не больше десятка. За шумом потока они не заметили приближения комбрига.
С величайшим трудом, напрягая последние силы, они волокли к плотине при помощи волосяных арканов громадные шершавые валуны. Пот лился по их влажным спинам, рты были широко раскрыты, запекшиеся губы потрескались, хриплое дыхание с бульканием вырывалось из впалых грудей.
Почти все работавшие были глубокими стариками.
Только когда Кошуба добрался вплотную до строителей, ему стало понятно, чем они заняты. Старики задались целью спасти уцелевшую часть плотины.
Они пытались укрепить ее конец острым зубом, врезавшимся в середину потока. В этом месте вода яростно кидалась на хрупкое сооружение и медленно, но методически отгрызала кусок за куском. Старики сбрасывали в поток камни и обломки скалы, притащенные с высокого скалистого берега. Но сколько ни летело вниз камней, все они даже без всплеска бесследно исчезали в рычащей, белой от пены пучине...
— Что вы делаете?— крикнул комбриг первому попавшему ему навстречу старику.— Вы без пользы тратите время и силы.
— Салом, таксыр командир,— хрипло ответил старик,— отойди, отойди, мы спешим... не мешай.
Он волочил крупный черный обломок скалы. Старик изнемогал от усталости, но не остановился даже тогда, когда Кошуба заговорил с ним.
— Мы спешим,— кричал он, раскачиваясь, чтобы новым рывком сдвинуть с места тяжесть. Жилы надулись у него на руках, грубая шерстяная веревка врезалась в плечи. Он страдал ужасно, все лицо его перекосилось от боли, но он с отчаянием обреченного стремился всем телом вперед.
433
— Эй, ухнем!— вдруг закричал командир.— Подмогните!
И он навалился всем телом на каменистую глыбу. К нему подскочил Курбан, и камень легко сдвинулся с места. Старик сначала не понял, что случилось, и сделал легко несколько шагов, но вдруг он обернулся и посмотрел через плечо. Лицо его озарилось страдальческой улыбкой.
«Никогда я не забуду его лица,— говаривал впоследствии Кошуба.— На сердце стало горячо. Я увидел, что старик потрясен. Ведь по старым понятиям я для него был всемогущим начальником, господином, и вдруг я работаю рука об руку с ним, как подлинный друг, кровный брат. Все перевернулось у него в голове».
Пока камень волокли по ребру плотины, старик отрывисто выкрикивал:
— Плотина... разорил, разрушил ее хаким. Все пропало: сады, огороды, виноград. Все! Все засохнет, умрет... Но придут спокойные времена, кончится война, народ образумится, не будет бессильно стонать, опустив руки, взывая к небу... Народ придет сюда работать. Когда придет, не знаю, но придет. Год, полтора будет работать и исправит зло, сделанное хакимом. А сейчас... сейчас надо оградить от злобы реки то, что осталось, уцелело. Скоро летний паводок начнется. Вода поднимется и съест плотину по камешку. И сейчас уже трудно... ой, как трудно! Три дня работаем, и ничего не выходит...
— Почему,— закричал Кошуба, чтобы заглушить грохот потока,— кишлачники не идут, не работают вместе с вами?
— Они боятся.
— Кого?
— Хакима боятся.
Они сбросили камень в поток и пошли обратно. На берегу рев воды не был так силен, и говорить стало легче.
— Но ведь хаким убежал,— заметил Кошуба.
Старик сказал, оглянувшись на мазар:
— Хаким убежал, да детки его остались.
— Где?
— Вон там.
И старик осторожно, чтобы не было заметно со стороны, показал в сторону мазара.
434
— Кто они?
— Они богу молятся. Они сказали: гибель плотины — воля божья. Никто не может идти против воли аллаха всесильного. Кто же не побоится такого заклятия?
— Ну?
— Ну, из кишлака никто не захотел идти.
— Почему же вы пошли?
— Я Азиз — мираб, а те старики тоже были от нашего кишлака приставлены, смотреть за водой. Ну, а мы, по воле бога, прозевали плотину. Мы — причина несчастья. И что нам теперь проклятия Шейхов, мы погубили кишлак, мы погубили народ. Нам все равно теперь умирать. Вот мы и работаем. Надо сохранить, что осталось. Закрепить, чтобы река не сожрала. Потом будет легче построить плотину... Придут люди и опять сделают плотину, через пять лет, через десять лет.
— А почему не раньше? — проговорил, слегка задыхаясь, Кошуба. Он снова толкал большую глыбу, помогая старику.
— Командир... Об этой плотине думали сто лет, прежде чем построить. Двадцать раз начинали и бросали. Как начнут,— чинары посадят. Вон какие деревья выросли, пока раздумывали, а строили двадцать лет, а может, и больше. Поработают, поработают... и бросят. А там река опять все разорит. Снова начинают. Сразу видно, что ты не знаешь этого дела... Неопытный ты. А мы всю жизнь на арыках.
— Хорошо, я неопытный... Ну, а сколько, по-твоему, старик, нужно времени, чтобы перегородить реку опять?
Старик подумал и горько вздохнул:
— Много, много времени. Не доживу я, не увижу я, не смогу я больше посидеть в тени своего урюка. Он уже через месяц потеряет листву, он засохнет за это лето до корня. О!.. А я сажал его, когда сын родился, а у меня теперь внук взрослый. Эх, мой садик, мой садик...
Когда камень полетел в поток и старик поднял голову, лицо его было в слезах.
Один за другим брели, сгорбившись, старцы. Они тащили камни, землю, но все это было ничто по сравнению с разрушительной силой дикой стихии.
А один старик, весь трясущийся, совсем дряхлый, тащил в дрожащих руках небольшие камешки и, разевая беспомощно беззубый рот, покрикивал:
435
— Братья, еще усилие! Ох, братья, еще усилие!
Сбросив вниз еще одну глыбу, командир той же неверной дорогой перебрался через поток. У чинаров к этому времени уже собрался весь красноармейский отряд. Поодаль остановились на отдых табором кишлачники, шедшие в изгнание. Их было несколько сотен. Гнетущее впечатление производила эта безмолвная толпа: ни возгласа, ни слова, ни смеха не было слышно. Даже дети не плакали. Они лишь боязливо жались к взрослым. И только их огромные голодные глаза взывали к состраданию. Лица женщин были мертвенно бледны. Они с полнейшим безразличием глядели на плотину, на строгих подтянутых бойцов, на сытые физиономии шейхов. Ни малейшего интереса нельзя было прочитать в их пустых взглядах...
Комбриг прошел мимо них, поглядывая по сторонам и бормоча что-то себе в усы.
Без команды бойцы выстроились и подтянулись при приближении комбрига.
— Дневка! — крикнул Кошуба.— Вольно...— Он вскочил на конгломератовый выступ и обратился к своим: бойцам: — Товарищи, вы видите?— Он показал рукой на реку, плотину, на копошащиеся на ней в потоке солнечных лучей фигурки стариков.— Здесь произошло злое дело. Бек своими руками разрушил плотину. Эксплуататор мстит народу, трудящемуся люду, крестьянам. Сам-то он сбежал, богатства, денежки прихватил с собой, а вот землю не унесешь в кармане. А что в здешних краях земля без воды?.. Ну, какие мнения на этот счет?
— Надо помочь! Подсобить надо!— раздались голоса бойцов.
— Правильно, товарищи! А как помочь?.. Очень просто. Сам Владимир Ильич показал нам пример. Вспомните, товарищи, как Ленин на коммунистическом субботнике бревна таскал на своих плечах ради восстановления народного хозяйства. Товарищи, вношу предложение провести первый в горах Таджикистана коммунистический субботник. Голосую. Кто за? Единогласно. Давай, ребята!
В пять минут бойцы, за исключением охранения, посбрасывали с себя гимнастерки и с песнями бросились помогать старикам.
436
С азартом работал и сам Кошуба. Но он часто отрывался и, поднявшись на высокое место, осматривал местность в бинокль.
Бойцы работали весело. Сотни пудов камня летели в реку, но она была ненасытна, и командир хмурился.
— Что, товарищ командир,— вдруг прошамкал старческий голос,— чем недоволен высокий господин?
Резко повернувшись на каблуках, Кошуба столкнулся лицом к лицу с ишаном, главой рода, ведшим жителей, обреченных на гибель кишлаков, в изгнание.
В старике произошла разительная перемена. От недавней расслабленности, покорности судьбе в нем не осталось и следа. Он выпрямился, хотя по-прежнему опирался на плечи двух своих учеников. Глаза его горели, и весь облик говорил о том, что он полон интереса и внимания.
— Чем же недоволен командир?— повторил свой вопрос ишан.
— Чем я недоволен?— резко сказал Кошуба.— А тем я недоволен, уважаемый отец, что вы ведете своих сыновей, братьев, сестер и детей к гибели, к смерти от голода и лишений. Тем недоволен, святой отец, что вы по своей вине подохнете скоро сами, бесславно и безвестно, и погубите весь свой род, все свое племя, тем я недоволен...
— Остановись... остановись... что говоришь ты мне, командир?
— Я говорю то, что думаю, а думаю я правду.
— Остановись... Разве я не отец для своего племени? Разве я не возношу молитвы к суровому нашему богу, чтобы смягчил он участь виновных, в безверьи, преступивших его веления.
— Слышали мы все это... Посмотрите! Десять дряхлых больных людей своим потом и кровью хотят сохранить для своих детей, для своего народа хоть часть того, что погибает по милости хакима. Поистине вот они святые люди, если допустить, что есть на земле святые, а не вы и не те жирные бездельники, что сидят в холодке и перебирают зерна четок...
— Остановись... Все равно, ты не отвратишь гнева аллаха... Не остановишь реки...
В пылу спора Кошуба не заметил, как вокруг них столпились кишлачники. Только теперь он обратил вни-
437
мание на их лихорадочно горевшие, глубоко запавшие глаза, на приоткрытые в изумлении рты, на полные внимания лица.
На одну секунду тревога заставила дрогнуть сердце командира. Он один, он сжат толпой отчаявшихся, обезумевших от горя людей, повинующихся слепо своему вожаку — фанатичному, полубезумному старцу, по одному слову которого они могут растерзать «неверующего».
Поборов искушение кликнуть своих бойцов, Кошуба, решительно вздернув плечи, шагнул вперед. Толпа шарахнулась от него, но он жестом руки остановил людей.
— Братья,— сказал он.
В толпе послышались тихие возгласы. Страх исчез на лицах.
— Братья, Ленин сказал...
— Ленин, Ленин,— снова заговорили в толпе.
— Ленин сказал: земля — крестьянам. Хаким не хотел отдать вам землю. Он, как жадная собака, хотел вырвать ее из ваших рук. Братья. Вы видите? — он отстранил ишана и показал на плотину.— Один человек — ничто перед стихией. Один тонкий прутик может сломать и ребенок. Соедините десять тонких прутиков, и их сломает только взрослый, а двадцать — только силач, А сто? Смотрите, десять стариков ничего не смогли сделать с рекой. Как зверь, как тигр, она нападала на них. Пришли красноармейцы помочь, и уже река начала отступать. Что же надо сделать? Скажите!
Секунду длилось молчание.
Плечистый, кряжистый, с черными, в палец толщиной, бровями дехканин отделился от толпы и подошел к командиру.
— Ленин,— хрипло проговорил чернобровый,— скажи, чему учит Ленин?— Не дожидаясь ответа, он обернулся к толпе:— Идем!— вдруг закричал он.— Идем, мусульмане! Мы обуздаем проклятую реку.
— Остановитесь,— завопил ишан,— кого вы слушаете? Остановитесь! Вы готовите себе гибель вечную!..
Чернобровый остановился перед старцем:
— Хватит... Довольно! Мы видели, куда вел ты нас... В могилу вел ты нас. Отойди с дороги. За мной, друзья!
Не все крестьяне пошли за чернобровым силачом. Многие со страхом поглядывали на старца-ишана, кото-
438
рый стоял над самой рекой, безмолвно вперив недвижный взгляд в мчащиеся воды, будто молил их подняться и обрушиться на отступников.
Тогда Кошуба подошел к нему и вежливо сказал:
— А теперь, ваше... как вас, преподобие, прошу, пройдите вон туда.
— Что вы хотите со мной сделать?— надменно проговорил ишан.— Мы святого образа жизни люди, не боимся ни мук, ни смерти.
— Успокойтесь, пройдите вон туда в мазар. Сойдите с дороги народа. Люди хотят работать. А вы мешаете им, вы встали на пути народа к счастью.
Тяжело опираясь на плечи мюридов, ишан ушел.
Он вновь согнулся, и голова его тряслась еще больше, чем раньше.
Когда командир проходил мимо шейхов, один из них встал и, поглядывая на двинувшуюся мимо толпу, подчеркнуто громко сказал:
— Командир, позвольте нам принять участие в работе.
— Нет, — крикнул чернобровый. Он вернулся в табор, чтобы взять кетмень.— Нет!
Несколько дехкан остановились, любопытные лица повернулись к чернобровому.
— Нет, друзья,— сказал он.— Нет. Дело, которое мы сейчас делаем, дело Ленина, великого Ленина, слово которого дошло до нас, до наших гор, и пусть слушают его те, к кому направлены эти слова. Мы будем работать на плотине сами, как велит нам Ленин. А этих дармоедов мы не подпустим и на сто шагов, чтобы их грязные руки не запачкали камней плотины, чтобы не опоганилась вода, которая потечет на наши поля.
И он ушел — уверенный, гордый своей силой.
«Как быстро меняется человек»,— подумал Кошуба.
Он повернулся к плотине и долго смотрел на работу. Довольная улыбка играла на его загорелом лице.
Вдоль тела плотины, по дорожке, идущей по верху, и по бокам, на крупных бугристых скатах ее, вытянулись цепочки людей.
Уже не сотни, а тысячи камней и многопудовых обломков текли непрерывным потоком по рукам строителей с берега и низвергались в прорыв. Слышались только ритмические, могучие крики: «Xa! Xa!»
439
Уставшие выходили из цепочки передохнуть, но на их место моментально становились новые люди и с тем же возгласом — «Ха!» брались за работу.
Уже потащили фашины, связанные из прутьев ивняка. Уже засыпали мелкие отверстия песком и землей. Ниже плотины вода в потоке потеряла свой нежный лазоревый цвет и кристальный блеск, замутилась и стала похожа на густое кофе с молоком.
Работали все с увлечением. Общий труд захватил и старых и малых. Не видно было отстающих, уклоняющихся.
Среди строителей мелькали островерхие буденовки бойцов. Бойцы руководили работой и сами с азартом ворочали каменные глыбы.
То там, то здесь появлялась далеко заметная белая косоворотка Джалалова. Он временами задерживался среди остановившихся передохнуть дехкан.
Выразительная жестикуляция показывала, что он не теряет времени и агитирует со всей страстностью своего молодого сердца. А еще через секунду Джалалов, впрягшись в хомут из узловатых веревок, бок о бок с несколькими дехканами тянул уже огромный камень.
Плотина заметно выдвинулась в русло реки, а выше ее начало образовываться озерко внушительных размеров.
Вода медленно поднималась.
Время от времени кто-нибудь из строителей бежал к голове арыка и смотрел, много ли воде осталось до него.
«Еще не один день тяжелой работы понадобится, чтобы всерьез и надолго обуздать поток,— подумал Кошуба.— Сегодня они взяли рывком, но завтра нас здесь не будет. Хватит ли у них выдержки, чтобы довести дело до конца?»
Перед мысленным взором его возникла картина: громыхающий экскаватор вгрызается в гору, ворочает глыбы земли. Он видел как-то такую машину. Сюда бы ее! Вот дело бы пошло...
Ему не хотелось бросать так хорошо начатое дело. Но оставаться здесь было нельзя.
К северу вздымались гранитные бастионы хребта. Он хмуро глядел провалами черных ущелий и сеял в сердце
440
тревогу. Там, где-то в ущелье, притаился Кудрат-бий, и кто его знает, что замышляет басмач?!
Быть может, сидит сейчас не так уж и далеко, с недоумением взирает в бинокль на непонятную для него затею красноармейцев и копит, и копит ярость.
— Время, время,— сердито пробормотал вслух Кошуба, опять взглянув на плотину.— Время. Недельку бы нам, только недельку. И тогда никакой паводок нас бы не напугал, а слава о коммунистическом субботнике разнеслась бы по всем горам и долинам, а может быть, понеслась бы и далеко на юг, за рубеж.
Он снова взглянул на поток. Ну, и силища в этой воде! Сколько огромных глыб сворачивает она. Сколько людских усилий пропадает зря... Эх, нет опоры у камней, нет связок. Беда, что он, Кошуба, ничего не понимает в ирригации.
Вдруг новая мысль вспыхнула, заметалась беспокойным пламенем в мозгу. Глаза командира проследили за длинной узкой тенью, пересекавшей русло потока и легшей темнозеленой полосой выше плотины и почти параллельно ей.
Тень падала от гигантского, стройного как древний минарет самаркандского Регистана, чинара, стоявшего у самой плотины.
Многолетнее дерево гордо вознесло свою пушистую крону к синему бездонному небу.
А! Вот как!
Кошуба снова перевел глаза на реку. Посмотрел жадно на ствол чинара, на его вершину.
— А что, если...— вслух проговорил Кошуба. Он махнул рукой чернобровому силачу: — Сюда!
Подошел чернобровый и еще два-три дехканина.
— Ну-ка, несите топоры!— он показал на чинар.
Через несколько минут, перекрывая рев потока, застучали топоры. Брызнули зеленые щепки. Засучив рукава, комбриг взялся за длинную рукоятку колуна.
Подошло еще несколько дехкан. Удары сыпались на основание ствола без передышки.
Уставших немедленно сменяли.
«Теперь дело пойдет,— думал комбриг.— Черт возьми, я не инженер, но ясно, что огромный ствол перегородит поток, послужит основой для плотины. Свалим дерево и двинемся... Пора.
411
Действительно, пора было продолжать поход. Уже два или три бойца разведки один за другим примчались полным карьером и шепотом докладывали комбригу о появлении подозрительных всадников.
О плотине теперь можно было не беспокоиться. Она будет достроена.
Это было ясно и строителям. Движение людских масс на плотине ускорилось, каменная лавина почти непрерывным потоком хлынула в пучину. Увидев близкий успех, на помощь мужчинам пришли женщины, старики, подростки. Люди забыли про голод, про лишения, надежда вселила в людей новые силы. Успех был обеспечен. Понимал это и старец-ишан. Он появился под стрельчатым сводом мазара. Несколько минут ишан смотрел из-под ладони на плотину, на первую в истории горной страны народную стройку. И он понял ее смысл не хуже самого Кошубы. Он понял, что тысячелетний несокрушимый авторитет ислама вдруг зашатался. Он понял, что покорная паства безвозвратно ускользает от него.
Перед его обезумевшим взглядом мелькнули видения разрушенных домов молитвы, мечетей, мазаров. Рев реки превратился в грохот разрушения...
Он оттолкнул прислужников и широкими шагами пошел к группе дровосеков. Он закричал, но крик его сорвался в старческий визг. Он так и шел, громко визжа.
Стук топоров смолк. Дехкане опустили руки и растерянно смотрели на приближавшегося ишана. На плотине тоже движение замедлилось. И оттуда с тревогой смотрели, что же будет дальше.
Выхватив топор у замершего в страхе дехканина, Кошуба крикнул чернобровому.
— А ну-ка!
И ударил со всей силой по дереву.
Но чернобровый не поднял топора. Все его огромное тело дрожало. В глазах застыл страх.
Ишан приближался. Полы его белого халата развевались.
— Прекратите!— негодующе прокричал он.— Прекратите... Священное дерево посажено нашими предками с молитвой, благоговением... Прекратите, или небесный гнев покарает вас!
Кошуба шагнул к ишану:
— Уйди, старик, не мешай...
442
— Ты, презренный, погибнешь. Народ не допустит, чтобы неверный кощунствовал над мусульманскими святынями. Уйди!
На плотине работа прекратилась,— люди прислушивались к словам ишана, многие, бросив на полпути камни, перебирались через поток. Толпа вокруг ишана росла... А ишан продолжал выкрикивать угрозы и проклятия.
— Что же? — обратился Кошуба к дехканам. — Неужели вы его послушаетесь?
Кто-то смущенно пробормотал:
— Он гнев божий навлечет на нас и на наших детей.
— Нельзя рубить священное дерево! — крикнул другой»
— Гром небесный навлечет на нас. Опалит нас молния. Не надо рубить, командир. Просим тебя.
Тогда Кошуба повысил голос:
— Значит, вам плотина не нужна? Значит, вам вода не нужна? Значит, вам жизнь не нужна?
Снова раздались голоса.
— Все нужно. И плотину сделаем, и воду на землю пустим, и жить здесь будем. Спасибо, ты нас научил, помог нам, только...
— Что только?..
— Дерево не позволим рубить.
— Боимся!
— Боимся гнева аллаха!
А ишан все вопил, призывая гнев божий на головы людей, которые идут за кафиром-большевиком. Подбежал Джалалов, за ним Курбан.
— Что случилось? Народ разбегается. Все смотрят на ишана. Машут рукой и уходят.
— Они боятся ишана. Они говорят, что он может огонь с неба свести.
— Хороши агитаторы, а я на вас надеялся...
Джалалов и Курбан только руками развели. Замешательство становилось угрожающим. Тогда Кошуба обратился к дехканам:
— Хорошо. Идите, работайте. Мы не будем рубить это дерево. Идите на плотину. И заберите шейхов, пусть камни таскают.
Приказав бойцам увести ишана, Кошуба кликнул своего вестового и шепотом отдал ему какое-то приказание.
Через полчаса крестьянам и красноармейцам было объявлено, что все должны отойти подальше.
443
Удара взрыва из-за шума реки почти не было слышно.
Могучий чинар задрожал, застонал, медленно качнулся и с шумом рухнул в брешь в плотине, подняв корнями фонтан земли...
Единодушьый вопль сотен глоток пронесся над плотиной, над степью, отдался глухим эхом в горах.
И сразу водворилось молчание. Многие присели и в страхе закрыли головы руками. Они ждали божьего гнева, молнии, которая испепелит их бедные тела. Женщины истерически зарыдали. Им начали вторить дети.
Но небо по-прежнему было чисто и ясно. Зной умерился. Солнце спускалось к Байсуну. Постепенно плач утихал. Люди поднимали головы, оглядывались и, успокоенные, снова брались за носилки и камни.
Со стороны мазара раздался крик. У входа его в пыли бился в судорогах белый жалкий комок. Ишан не выдержал поражения...
— А теперь трубите сбор! — крикнул Кошуба.
Под серебряные звуки горна народ бежал к поверженному чинару. Застучали топорами дровосеки, обрубая ветви. В струях обузданного потока заблестели на солнце мокрые спины людей, вцепившихся в могучий ствол.
Сотни рук потянули его. Вот он шевельнулся. Еще усилие! Вот он сдвинулся... Еще, еще...
Колоссальная балка легла как раз поперек потока. И сейчас же рядом посыпались валуны, галька, обломки скалы...
Через минуту к Кошубе подошел старик.
— Таксыр! Еще дерево?
Он показал на еще более могучий чинар. Командир подозвал подрывников...
Через полчаса отряд с песней покинул плотину. Когда бойцы обогнули мазар и поднялись на возвышенность, Кошуба обернулся и посмотрел в бинокль.
Водоем выше плотины значительно вырос. Ясно было, что скоро вода проникнет в арык.
Кошуба повернулся к Джалалову:
— Запомни, товарищ, сегодняшний день. Сегодня в дебрях Азии, в Восточной Бухаре, в горах у подножья Памира ты организовал первый ленинский коммунистический субботник.— Он передал бинокль Джалалову.— На, смотри! Видишь? Раньше, при эмире, нужны были годы рабского труда, чтобы повернуть эту дрян-
444
ную речушку на поля, а теперь сколько, по-твоему, им еще понадобится работать?
— Сколько?.. Недели две, самое большое... Конечно, если они не разбегутся.
— Ну нет, теперь они поняли, что все зависит не от шейхов: не от ишана, не от господа бога, а от них самих, и они сделают такую плотину, что ее никаким паводком не смоет. Ну, а для того, чтобы они могли работать спокойно, мы, как только доберемся до Регара, попросим послать им зерна или муки.
XI
Нищие — все в струпьях, в коросте, язвах, едва прикрытые почерневшими от грязи просаленными лохмотьями, сидели со своими тыквенными чашечками или деревянными мисочками для подаяния по обочинам дорог и надрывными голосами вопили:
— Полушку, о, ради милосердного, полушечку или кусочек лепешки!
Некоторые из них показывали изъеденные проказой лица или выставляли наружу полусгнившие пальцы.
Дехкане, съехавшиеся из окрестных кишлаков, запрудили большую площадь. Любители поболтаться по базару, посидеть в чайхане и, главное, послушать новости о мире и войне не останавливались перед необходимостью тащиться верхом на осле по топкой глинистой дороге всю темную ночь под дождем, имея для продажи лишь несколько наскаду — тыквенных табакерок или десять-пятнадцать фунтов кишмиша. Тысячная толпа шумела, кричала и усиленно месила липкую грязь.
Каждый приехавший разложил свои товары в строго определенном месте, отведенном и указанном базарным старостой. Отдельно расположились торговцы тканями, у которых можно было купить и цинделевский цветистый «ситчик, и индийскую кисею, и китайскую чесучу, и обыкновенный полосатый тик, и грубую, местной выделки, бязь, и тончайший крепдешин. Но весь мануфактурный ряд тянулся шагов на десять, а товар каждого купца, благообразного и солидного, умещался свободно в небольшом хурджуне. Торговали здесь и чугунной посудой, и медными чеканными кувшинами из Бухары, и голубыми китайскими пиалами «джидогуль», умело подделанными рос-
445
сийской фирмой «Губкин, Кузнецов и К0». Отдельно расположились ряды гребенщиков, торговавших гребенками из желтого тутового дерева, продавцов масляных светильников, предлагавших, между прочим, керосиновые горелки без фитилей и фитили без горелок, ювелиров, продававших серебряные кольца и женские звенящие подвески из российских двугривенников и индийских рупий. Два уратюбинца разложили на платке отличной выделки ножи с костяными ручками; рядом продавали серпы, женские штаны, суконные халаты, свалявшуюся баранью шерсть, халву, старое тряпье, снег с виноградным медом, грязное коровье масло в кожаных мешках, зеленый чай, веревки, золотые изделия. Тут же, то рысью, то галопом, скакали, вздымая фонтаны грязи, лошади, которых на все лады выхваляли барышники, поразительно напоминавшие своей внешностью цыган, но клятвенно заверявшие, что они правоверные мусульмане. Молчаливые черные локайцы, не разбирая дороги, гнали десятки овец и коз прямо в гущу толпы, вызывая возмущение торговцев хрупкой глиняной посудой. Знахари в белых чалмах и черных или темно-синих очках продавали какие-то порошки, слабительные пилюли, тибетские притирания от сифилитических язв, напитки от бесплодия, средства от зачатия и от запоров, глауберову соль, кислоты, семена ароматичной травы исрык, благовония, краски и прочие снадобия, не столько исцеляющие, сколько порождающие всяческие болезни. Менялы наперебой предлагали выгодно сменять индийские рупии на персидские краны, английский фунт на советский червонец, китайские ланы на уже давно потерявшие всякую ценность бухарские ассигнации, нарисованные вручную. И над всей этой толпой неслось заунывное мутящее душу пение маддахов — бродячих монахов.
Чего ты хочешь от небес?
Что ты ищешь на земле?
Отвлеченные песнопения не мешали лохматым маддахам ловко обирать легковерных горцев, восторженно любовавшихся мишурным великолепием базара.
Десятки самоварчей отчаянно стучали крышками чайников и выкрикивали: «Чай готов, чай готов», стараясь перекричать голоса поваров, предлагавших вонючую ры-
446
бу, продавцов вареного гороха, шашлычников, лепешечников.
Несмотря на кажущееся оживление и беспечность, базар сегодня был смутно тревожный и напряженный. Сделки носили грошовый характер, люди неохотно вынимали и показывали деньги.
— Только сто тенег, только сто каких-то несчастных тенег, — уговаривал сухой, жилистый купец небольшого юркого дехканина, вертя перед его лицом халат из ярко-синего лежалого сукна.
Дехканин теребил бородку и, испуганно поглядывая на окруживших его тесным кольцом любопытных, протестовал:
— Что вы, что вы, я только поглядеть. Откуда у меня сто тенег? У меня никогда не было ста тенег. Да я от самого рождения не видел даже как другой кто-нибудь считал сто тенег.
И он нырнул в толпу.
Базарный староста ходил по базару и собирал взносы за право торговать, но и у него что-то дело не клеилось.
К полудню тревога усилилась. Распространился слух, что из кишлака не выпускают. Кто, что? Никто не знал.
Толпа шарахнулась на Каратагскую дорогу. Там действительно стояли какие-то вооруженные люди. Они молча преграждали выход из селения.
Дехкане метнулись в другую сторону — и там всадники. Кое-кто начал пробираться задами дворов в горы.
Внезапно раздались крики. Усиленно размахивая камчами, в толпу врезалась группа всадников. «Басмачи, басмачи!» — понеслось по площади.
Басмачи тащили на аркане молодого парня в красной чалме с блестками. Лицо его, все в кровоподтеках, было страшно. За всадниками важно выступали местные богатеи. Все сразу признали в них бывшего мингбаши, баев, помещиков. В толпе послышался ропот. Кто-то выкрикнул:
— Смотрите, вон идут эти пожирающие детей! Куда они тащат Касыма?
Рыжебородый великан — это был ясаул Салих, не слезая с лошади, завопил:
— Тише! Молчать!
Он взмахнул камчой и ударил Касыма, норовя попасть по глазам. Толпа ахнула. Тогда второй всадник визгливо закричал:
447
— Я хранитель печати самого парваначи! Слушайте меня, вот эта собака отказалась платить закет, а говорится в писании: «Против неплательщиков налогов применяйте оружие!» «Бей его, ясаул, я приказываю! Этот недоносок осмелился ударить палкой байбачу, когда тот потребовал закет. Бей его, мерзавца! У него брат в Красной Армии служит, продался Советам. А сейчас стало известно: этот самый Касым сегодня ночью бегал к большевикам и требовал присылки войск.
Под свистящими ударами камчи Касым шатался, но все еще пытался удержаться на ногах. Стоны вырывались из его груди. Вдруг он закричал:
— Мусульмане, помогите! Я ночь не отличаю от дня... помогите...
По знаку Безбородого ясаул наклонился и, ткнув Касыму двумя пальцами в глаза, заставил его поднять голову. В это же мгновение стоявший рядом басмач резнул по шее жертвы ножом. Захлебываясь собственной кровью, Касым упал в грязь. Басмачи, поднимая коней на дыбы, заставляли их топтать тяжелыми кованными копытами тело бившегося в агонии человека.
Толпа двинулась было на басмачей, но тотчас же под дулами винтовок откатилась назад. Началась давка. Внезапно раздались грозные крики: «Тихо! Тихо!»
Раздвигая толпу, через площадь ехал на своем аргамаке Кудрат-бий. Не взглянув на все еще дергавшееся тело, он выехал на возвышенное место. К нему подскакали, прямо по разложенным на земле товарам, ясаул и Безбородый. Кудрат-бий кивнул головой. Безбородый завизжал:
— Эй, мятежники! Против кого вы замыслили зло, неблагодарные? Вы забыли, что говорили мудрые: «Да не встречусь я с гневом великих!» Вы обезумели и сами теперь заставили себя плакать. Пеняйте на себя!
— Нетерпеливо поморщившись, Кудрат-бий проворчал:
— Не теряй времени, Безбородый!
Хранитель печати, надрываясь, прокричал:
— Главнокомандующий повелел: «Бисмилля! Во имя бога милосердного и всемилостивого! Великий и преславный эмир вручил мне в управление Гиссарскую, Денаускую, Миршадинскую, Байсунскую, Локайскую и Регарскую провинции и препоручил народ наш моим заботам и попечению. Мы защищали благополучно народ наш от
448
большевиков-кафиров и оказывали милость войску нашему и верным нам людям и сумели привести непокорных и глупцов, возомнивших многое о себе, в подчинение, так что и они повседневно выражают нам, беку гиссарскому, чувства преданности и уважения. Проявляйте же, мусульмане, верноподданные чувства величайшему из эмиров, исполняйте его благочестивые повеления, и страна ваша станет благоустроенной, а жизнь ваша — счастливой. Кишлак Джума-базар должен обеспечить войско мусульманское всем необходимым». А потому, — Безбородый указал на окровавленное тело,— смотрите: кто окажет сопротивление, пусть знает — он захлебнется своей кровью, как эта падаль.
Толпа стояла, боясь пошевелиться. Десятки вооруженных басмаческих нукеров ловко и быстро обыскивали каждого, залезали за пазухи, развязывали поясные платки и вынимали кошельки. С тех, у кого была одежда получше, стаскивали халаты, сапоги. На отобранных у дехкан ишаков и лошадей грузили муку, рис, сушеный урюк, кишмиш. Даже у знахарей отняли их снадобья и ссыпали, все перемешав, в мешки.
Из улиц и переулков неслись вопли женщин, плач детей. Там тоже хозяйничали бандиты.
Солнце клонилось к горам. На площади растянулся караван тяжело груженых лошадей и ослов. Бряцая оружием, двигались за ними басмачи. Сбившись в кучу, к стенам домов жались дехкане; никто не решался роптать.
Вдруг из-за угла, отталкивая басмачей, выбежала старуха. Седые желтоватые волосы ее выбились из-под платка. Она на секунду замерла, озирая площадь. Увидев недвижное тело, старуха закрыла руками лицо и со стоном «Дитя мое!» грохнулась на землю.
Кудрат-бий вопросительно взглянул на Безбородого.
— Мать мятежника,— сказал тот и поспешил добавить: — другой ее сын вступил в Красную Армию.
Тронув лошадь, Кудрат-бий бросил:
— Пристрелить ведьму!
Ясаул бросился к лежавшей в грязи старухе, но не успел выполнить приказания Курбаши.
— Красноармейцы! Красноармейцы!
На холмах, окружающих кишлак, затрещали выстрелы.
449
На площадь ворвались дозорные басмачи. Они в один голос кричали:
— Окружены! Окружены!
Кудрат-бий и его помощники заметались по кишлаку. На улочках царило смятение. Боясь попасть под пули, люди прятались кто куда.
Но стрельба вскоре стихла. Кошуба запретил вести огонь, опасаясь жертв среди мирного населения. С клинками наголо конники промчались по улочкам кишлака к опустевшей базарной площади, усеянной черепками битой посуды, клочками ваты, шерсти.
Старуха стояла на коленях в луже дождевой воды и обмывала изуродованное лицо сына.
Жалобный вопль понесся над тонувшей в сумерках площадью. Из улочек и переулков при желтом свете, восходящей над горами луны выходили одетые в темное женщины. С заунывным плачем и причитаниями они приближались к убитому.
Медленно шли с посохами в руках белобородые старики. Собирались молчаливые дехкане...
Далеко в горах рассыпалась дробь перестрелки.
Тогда старуха подняла лицо к небу и страстно проговорила:
— Бог! Слышишь ты меня, бог всемилостивый? Пошли смерть кровавому курбаши Кудрату! Молю тебя, пусть смерть его будет нелегкая!
— О-омин!— хором сказали старики и молитвенно провели руками по лицам и бородам.
Под звуки далекой битвы кишлак Джума хоронил Касыма.
XII
Видно, проклятие матери настигло могущественного курбаши, всесильного гиссарского бека, наместника самого эмира бухарского, носителя всех высоких званий и чинов эмирата, бывшего вельможу ханского дворца Али-мардана, по прозвищу Кудрат-бий.
Много дней Кошуба с помощью Санджара плел сеть. Отряды красноармейцев и добровольцев медленно, шаг за шагом, оттесняли басмачей от афганской границы через Бабатаг к северу и, наконец, прижали их к Гиссарскому снеговому хребту. Клетка захлопнулась...
450
 Под ожесточенным
огнем красных конников обезумевшие от страха басмачи, побросав коней, новенькие
английские винтовки, добычу, бросились в горы. Они бежали мимо ханаки Хызра
Пайгамбара и, стеная, протягивали руки к вековым вязам, таинственно шумевшим в
свете луны. Бандиты бросались к воротам святыни. Колотили толстые доски
кулаками, царапали ногтями, пытаясь проникнуть внутрь, но на их нетерпеливый
стук глухой голос отвечал:
Под ожесточенным
огнем красных конников обезумевшие от страха басмачи, побросав коней, новенькие
английские винтовки, добычу, бросились в горы. Они бежали мимо ханаки Хызра
Пайгамбара и, стеная, протягивали руки к вековым вязам, таинственно шумевшим в
свете луны. Бандиты бросались к воротам святыни. Колотили толстые доски
кулаками, царапали ногтями, пытаясь проникнуть внутрь, но на их нетерпеливый
стук глухой голос отвечал:
— Проходите, проходите... Мир вам...
Высились мрачные порталы здания, мертвенно поблескивали купола. Черные тени падали на землю, и басмачам казалось, что нет лучшей крепости, чем ханака, что в ней можно найти спасение.
И снова воины ислама стучались в ворота исламской святыни и со слезами вопили:
— Откройте!
— Идите мимо...
— Проклятые, откройте!
— Не богохульствуйте! Место молитвы не станет местом битвы.
И басмачи бежали в каменистые ущелья, где натыкались на бойцов Санджара. Посвистывали пули. Далеко по долине неслись жалобные вопли сдающихся на милость: «Аман! Аман!»
На тропинке, взбегавшей из сая к святилищу, пуля поразила Кудрат-бия.
Хрипя, цепляясь еще сохранившими силу руками за седло, он опустился на придорожный камень. Мимо бежали его бандиты, но они оставались глухи и немы к мольбам курбаши. Прошли времена, когда его слова были законом, когда его имя заставляло их трепетать.
Еще год, полгода назад, может быть, они отстаивали бы Кудрат-бия грудью и сложили бы за него свои головы. Сейчас каждый думал только о том, чтобы унести ноги.
Затуманенным взором следил Кудрат-бий, как мимо, ведя на поводу лошадь, прошел ясаул, поддерживая простреленную руку, безмолвно, как тень, проскользнул Безбородый.
— Донесите меня до хауза,— простонал курбаши. Никто не обернулся.
Он терял сознание.
451
Облако затянуло луну. Кудрат-бий, открыл глаза, на него смотрел Ниязбек.
— Боже!— сказал он, узнав Кудрат-бия.— Что с вами?
— Умираю,— простонал курбаши,— я ранен...
На тропинке появились два басмача. Не разобрав, кто перед ними, они выставили перед собой руки и отчаянно завопили:
— Аман! Аман!— и в ужасе попятились назад.
— Да молчите вы! — прикрикнул Ниязбек.
Разглядев белую чалму и черную бороду, басмачи умолкли, но все еще жались в страхе друг к другу. Оружия у них не было. На шеях позвякивали конские уздечки, которые, по старинному обычаю, сдающиеся воины вешали на себя в знак покорности.
— Трусы!.. Зайцы!..
Разразившись бранью, Ниязбек заставил нукеров поднять грузного курбаши на лошадь. Медленным шагом двинулись они по узкой дорожке, поддерживая с обеих сторон тихо стонущего Кудрат-бия.
За чуть серевшим кирпичным зданием ханаки всадники свернули прямо в заросли. Видно, Ниязбек хорошо знал место; он вел своих спутников уверенно. Продравшись сквозь высокие кусты, они сразу же выбрались на открытый склон холма. Лошади, хрипя и фыркая, начали пятиться назад. Кругом в мутном свете ночи белели надгробия.
Сухая колючка потрескивала под копытами коней. Из-за стены, примыкавшей к кладбищу, донесся шум. С высоты седла Ниязбек мог разглядеть, что делается за стеной ханаки.
Слабый боковой свет озарял дикие лица дервишей. Они передвигались на определенном расстоянии друг от друга вдоль галереи, кружась на одной ноге. Одну руку дервиши держали поднятой вверх, другая была опущена. Посреди круга стоял пир и ритмично ударял ногой об пол. Слышалось не то пение, не то странная музыка, сопровождавшаяся глухими выкриками...
В мазаре происходил зикр — священный танец радения.
Но сейчас было не до молитв, и Ниязбек бесцеремонно крикнул:
— Эй, ишан, эй!
Никто не ответил. Дервиши продолжали кружиться.
452
— Эй, ишан!
Шумели деревья, где-то ворчала, плескаясь, речка, звенела старинная мелодия. Кудрат-бий застонал:
— Дайте подушку, дайте прилечь... кровь уходит.
Тогда Ниязбек соскочил с коня и исчез в тени, падающей от стены. Опять прозвучал его голос:
— Эй, ишан!
— Что надо?
Звякнул затвор калитки, послышались голоса. Ниязбек, повышая голос, уговаривал. Собеседник возражал.
Послышались шаркающие шаги. Из темноты вынырнули фигуры людей. Теперь можно было разобрать, что с Ниязбекрм приковылял Ползун.
Узнав его, Кудрат-бий радостно заволновался:
— Друг! Ишан, друг! Салом-алейкум!
— Валейкум — салом! Это вы, таксыр?
— Скорее, друг! Примите ищущего убежища под святым сводом.— Он говорил с трудом, делая паузы после каждого слова.
— Вы ранены? — спросил Ползун.
— Умираю... Осмотреть надо рану... с кровью вытекает из тела жизнь.
Он сделал движение, чтобы спуститься с седла. Басмачи засуетились, помогая ему.
— Стойте, не надо,— остановил их Ползун,— сюда нельзя.
Ниязбек возмутился:
— Почему? Неужели сам парваначи не найдет у святого Пайгамбара приют и исцеление? Как вы можете?!
— Да будет вам известно, Хызр-Пайгамбар — вечный странник, и милость он дает только тому, кто пускается в странствие. О, Хызр!— Ползун картинно поднял лицо к небу.
Ниязбек не мог говорить. он задыхался от злобы. А ишан, отбросив благочестивые разговоры, с цинической откровенностью высказал свои опасения:
— Нельзя! Если вас найдут здесь, мы погибнем, и вы не спасетесь. Скорее отправляйтесь дальше, не теряйте времени. За речкой в кишлаке Санг-и-Кабуд постучитесь в третьи ворота. Это дом помещика Махмуда. Он вас примет.
453
— Спрячь меня... У тебя есть тайник,— хрипел Кудрат-бий.
Перед затуманенным его взором метались черные тени. Кружилась голова под медлительные такты монотонной музыки.
Издалека донесся бесстрастный голос:
— Нельзя. Уезжайте. Сейчас здесь будут красные. Уже совсем беззвучно Кудрат-бий прошептал:
— Перевяжите рану... кровь...
Но никто его не слушал. По встряхиванию и покачиванию, отдававшимся тупой болью во всем теле, Али-Мардан понял, что лошадь снова двинулась вперед. Заваливаясь от слабости на луку седла, он хрипел:
— Собака! Яд в твоих словах, ядовитая слюна на твоих губах...
За спиной хлопнула калитка. Еще несколько минут доносились звуки заунывной музыки, потом все стихло.
Горечь поражения, гибель всех планов, падение величия и потеря власти — все это в воспаленном сознании Кудрат-бия стерлось, потонуло перед ужасным сознанием, что служители святилища прогнали его от своих дверей как бездомную собаку, отказали ему в помощи.
Сверкала и пенилась вода речки. Плясала холодная луна в струях потока.
Шел долгий и мучительный подъем. Копыта лошадей скрежетали по щебенке.
Потом, на спуске, каждый шаг отдавал болезненным ударом в мозгу. Силы уходили...
Очнулся Кудрат-бий от звуков голосов. Холодный ветерок освежал покрытый потом лоб. Непреодолимо клонило лечь, вытянуться. Рана почти не болела, в ней только пульсировала медленно вытекающая кровь.
Около ворот стоял человек в нижнем белье. Позевывая, он говорил:
— Пожалуйста... Заходите. Только у нас опасно.
Ниязбек молчал.
— Они сказали, что если басмача хоть одного, хоть двух увидят, то свяжут и отдадут красным.
— Кто они?
— Наши дехкане. Нашего кишлака народ...
— Это все голытьба бесштанная, а вы?
454
Человек почесал всей пятерней голую волосатую грудь.
— Мы что же? Мы ничего...— в голосе его не было ни малейшей твердости,— пожалуйте, только...
— Что только? Ну, я спрашиваю?
Человек подошел поближе:
— Они убьют меня... И вам никакой пользы не будет. Он посмотрел по сторонам.
И Ниязбек, и басмачи, и почти ничего уже не сознающий Кудрат-бий почувствовали опасность, надвигающуюся на них. Она таилась в темной массе приземистых домов, во враждебном шорохе листьев черневших на фоне звездного неба деревьев, в суровом холодном молчании ночного кишлака. Казалось, она смотрит на кучку людей, жмущихся у байских ворот, из всех углов, переулков, из-за заборов...
После долгого молчания Кудрат-бий, едва ворочая языком, проговорил:
— Помещик! Я сделаю тебя беком.
Тот подошел ближе. Черты лица Кудрат-бия заострились, темная борода оттеняла восковую бледность щек.
Помещик отшатнулся — провалами черных глаз на него смотрел мертвец. С минуту помещик колебался.
— Поезжайте, господин, по долине. Там будет сад... ишанский сад. Там безопасно,— глухо пробормотал он.
Последние силы оставляли Кудрат-бия. Он прошептал:
— И здесь... гонят...— и смолк.
На околице селенья, у подножья островерхих скал стояли темные фигуры дехкан, разбуженных лаем собак. Кутаясь в наброшенные на плечи халаты и ватные одеяла, они молча и настороженно смотрели на медленно двигавшихся по каменистой дороге всадников, покидавших спящее селение.
Гонимые страхом смерти, басмачи углубились в бесприютные, холодные горы. Али-Мардан бредил. Ниязбек ехал рядом и напряженно вслушивался в его бессвязные слова. Али-Мардан говорил что-то о руднике Сияния, о Санджаре, о кишлаке Кенегес, о драгоценностях эмира...
Вскоре раненый замолк.
Медленно двигались всадники. Постепенно становилась видна извивающаяся среди камней дорожка, кусты ежевики по бокам. С чуть розовевших на жемчужном
455
небе горных вершин тянуло свежестью. Раненый испуганно заговорил:
— Прогоните!.. Стойте, дальше ехать нельзя. Оборотень!
На дороге стоял небольшой белый с рыжими подпалинами теленок. Он смотрел на приближающихся всадников и не шевелился... Невероятным усилием воли кур-баши выпрямился и остановил коня.
— Назад, это оборотень! Назад... он за мной пришел. Голос дрожал, срывался.
Ниязбек махнул рукой, и теленок сбежал с дороги. Курбаши грузно свалился на шею коня и жалобно простонал:
— Теперь я умру. Он за мной пришел. Он несет весть из могилы.
Дальше слов нельзя было разобрать.
Под утро тело Кудрат-бия привезли в уединенный горный сад.
Немного позже приехал на осле ишан Ползун.
Все страшно спешили. Внизу в долине уже видели всадников Санджара.
В низенькой хибарке при скудном свете коптилки в полном молчании совершили омовение трупа.
Заупокойные молитвы прочитали наспех, стараясь не смотреть на пожелтевшее мертвое лицо. Размотали кисейную чалму и обернули ею тело вместо савана.
Место для могилы выбрали посередине небольшого люцернового поля. Несмотря на спешку, соблюли все требования ритуала — вырыли глубокую яму, а в ее стенке сделали боковую нишу, куда и положили мертвеца; затем засыпали яму так, чтобы на труп не упало ни одного комочка земли.
Ползун сам запряг в омач пару быков и с помощью Ниязбека вспахал люцерновое поле.
От могилы не осталось ни малейшего следа.
ХIII
Санджар спешился. Он не спрыгнул с коня легко и ловко, как всегда. Он очень медленно слез, устало бросив:
— Возьмите Тулпара...
Бессонные ночи, скачка по локайским холмам, через головокружительные горные перевалы, бесконечная тряска
456
в седле,— все дало себя знать. Голова налилась свинцом, ноги стали деревянными. Чтобы шагнуть, нужно было затратить неимоверные усилия. Одна рука совсем не двигалась, плечо больно ныло — открылась прошлогодняя рана. С трудом шевеля языком, Санджар сказал:
— Хорошо бы заснуть...— и, волоча ноги, побрел к айвану, куда его манили одеяла и подушки. Санджар уже ничего не слышал. Он засыпал стоя.
Командир повалился на постель, как был: в кожаной куртке, с пулеметными лентами, саблей, пистолетом, в сапогах со шпорами...
Дивизионный врач, старый туркестанец, с лицом, высушенным азиатским солнцем, появился тотчас же. Он долго пытался разбудить командира, но безрезультатно.
Тогда с помощью Курбана он раздел сонного Санджара, осмотрел и очистил рану, перевязал ее, сделал необходимые вливания.
Санджар так и не проснулся.
— Ну и организм,— сказал доктор Курабну, поливавшему ему на руки из кувшина.— Правда, рана не опасна, но очень болезненна, а он и глаз не открыл...
Курбан понимающе кивал головой, не совсем соображая, о чем говорит врач, так как ему самому безмерно хотелось спать.
— Конечно, конечно, на то он Санджар.
Они говорили шепотом, хотя в этом не было никакой нужды.
Резкий, сухой голос, прозвучавший, как удар пастушьего кнута, заставил обоих вздрогнуть.
— Санджара-командира к великому назиру! Великий назир будет принимать в Саду Отдохновения командира добровольческого отряда Санджар-бека. Где Санджар-бек?
Перед ними стоял толстый человек с хитро прищуренными глазками.
— Тсс... командир спит.
— Нельзя спать. Санджар-беку надлежит предстать перед очами великого назира. Разве не получил он в пути предписания?
— Он спит, и ранен к тому же. Уходите!
— Его требует их милость, господин великий назир. Сейчас же, по срочному делу,— продолжал кричать толстяк.
457
Ни слова не говоря, Курбан схватил посланца назира за шиворот и вытолкал вон. Тот бранился, протестовал, но сладить с железной курбановой рукой не смог.
Калитка грохнула перед самым носом толстяка. Он долго еще барабанил в нее кулаками и громкими криками пытался привлечь к себе внимание. Но Санджар спал, и Курбан, положив голову на седло; даже лошади погрузились в усталую дремоту, не притронувшись к корму...
Наконец ворота приоткрылись, и верхом на коне выехал доктор. Он досадливо поглядел на суетившегося толстяка, пожал плечами и ускакал.
За Санджаром приходили несколько раз, но, памятуя наказ доктора, хозяева дома так никого и не пустили во двор...
Только к вечеру настойчивый толстяк добился своего — Санджара разбудили. Узнав, в чем дело, он быстро оделся и, превозмогая боль в плече и ломоту во всем теле, отправился к бекскому саду, где находилась ставка великого назира.
Встречные прохожие, при виде плотной фигуры прославленного командира, рассыпались в приветствиях и добрых пожеланиях.
Санджар шагал бодро. Хотя рана и слабость еще давали себя чувствовать, но настроение у него было отличное. Только сейчас, немного отдохнув, он отдал себе отчет в том, что проведенная операция была очень удачной. Курбаши не удалось уйти от карающей руки народа. Шайка Кудрат-бия перестала существовать. Дехкане, наконец, вздохнут свободно.
Санджар был доволен и, как должное, принимал приветствия жителей города.
«Назир — один из руководителей Бухарской народной республики. Ему интересно знать, как бьют басмачей. Он попросит рассказать о разгроме и гибели Кудрат-бия... Жаль, что друг Кошуба уехал в Дюшамбе с экспедицией...»
Так думал Санджар, отгоняя неприятное воспоминание о прошлой встрече, о женственно-нежном лице великого назира, о тяжелом, ненавидящем его взгляде.
Внезапно Санджар замедлил шаг.
Два десятка бедно одетых дехкан стояли в ожидании у настежь открытых больших ворот. Санджара поразило,
453
что все они застыли в почтительных позах просителей,— все, как один, склонились в полупоклоне, сложив благоговейно руки на животах.
Санджар взглянул через ворота. В глубине обширного двора, в тени пышных карагачей, на глиняном возвышении, покрытом коврами и шелковыми одеялами, возлежал на подушках в белой чалме и дорогом легком халате сам великий назир. Около него сидели несколько роскошно одетых людей. На скатерти грудами лежали золотистые сдобные лепешки, фрукты, сладости.
От самых ворот до возвышения по двору шла дорожка из разостланных паласов и ковров. Боясь ступить на них ногой, по бокам дорожки стояли такие же, как и у ворот, просители. Внимание Санджара привлек один старик в синей, расшитой блестками и украшенной желтой бахромой, чалме. Его ветхий, из домотканого сукна халат был безукоризненно чист, ноги старика были обуты в поношенные сапоги с загнутыми вверх носками. Старик тоже держал почтительно руки на животе, и шея его была согнута, но взгляд, устремленный на великого назира, был мрачен, губы под тонкими усами язвительно кривились. Санджар подошел к нему.
— Отец,— спросил он,— чего вы ждете здесь?
Старик встрепенулся. С минуту он недоверчиво разглядывал командира; но вдруг его усталое лицо оживилось улыбкой.
— Здоровье Санджару-непобедимому,— почтительно, но радостно проговорил дехканин.
— Здравствуйте, отец, откуда вы меня знаете?
— О, как коротка память у нынешней молодежи! Вспомните Сары-Кунда...
— Сираджеддин! — невольно вскрикнул Санджар.— Староста славного кишлака Сары-Кунда!
Он обнял старика и увлек в сторону.
— Но позвольте, отец, что вы здесь делаете?
— Я ищу справедливости,— сказал Сираджеддин,— я пришел искать справедливости у великого назира.
— Так идите же! Что вы стоите здесь, как бедный племянник у дверей байского дома? Идите и расскажите о ваших заслугах...
Сираджеддин перебил его:
— Я говорил! Я просил! Но мне приказали кланяться и ждать. Ждать, пока взгляд назира заметит меня. Я
459
ушел бы, но разве я могу! Сарыкундинцы послали меня, сарыкундинцы ждут...
И Сираджеддин рассказал о странных делах, которые творятся в кишлаке Сары-Кунда.
После изгнания басмачей дехкане вздохнули свободно. Они отобрали у баев землю и поделили ее между батраками и бедняками. В кишлаке создан Союз бедноты — «Кошчи» и кооперативное общество по совместной обработке земли. Дехкане делали ошибки, путались в самых простых вещах, как говорил Сираджеддин, «не отличали часто верха от низа», но все же они жили по-новому, и времена беков и рабства для них канули в небытие.
— Но вот из Байсуна приехали представители исполкома,— рассказывал старик.— Говорят они из джадидов. Собрали дехкан и предложили избрать сельсовет. Это хорошо. Но зачем они заставили выбрать в сельсовет нашего бая, ишана и этого мерзавца, пожирателя невинных детей, басмача Сабира... Теперь бай ходит с камчой и, угрожая, требует свою землю обратно. Убийца Сабир каждый день приходит к мечети и у всех на глазах чистит свою берданку, похваляясь, что не пройдет и нескольких дней, как басмачи перережут всех дехкан...
Басмач Сабир объявил себя бием, а ишана назначил блюстителем нравственности кишлака. Бий Сабир требует с народа старые эмирские налоги: херадж — с посевов, танабана — с садов и огородов, салык и закет — с имущества и дохода... Есть малодушные, которые испугались угроз и платят. Деньги басмач делит с баем и ишаном совершенно открыто, без малейшего стеснения. Более того, Сабир хочет ввести вновь подушную подать, которая устанавливалась только в период священных войн против неверных. Нетрудно понять, кто здесь подразумевается под неверными. Тем дехканам, которые не платят налогов, Сабир угрожает кровавой расправой. Он заявляет: «Никакой снисходительности!» И обливает зловонной бранью неаккуратного налогоплательщика. Особенно нагло повел себя ишан-мухтасиб. Вооружившись длинной палкой, он шныряет в часы молитвы по улочкам кишлака, проскальзывает во дворы и, обнаружив нерадивых молельщиков, накидывается на них, угрожая палочными ударами. Боясь, что ему дадут
460
сдачи, он ходит в сопровождении двух помощников. Это байские сынки, известные лоботрясы. Пользуясь покровительством «властей», они нагло бесчинствуют. Избили двух бедняков, пристают к девушкам. Женщина осмелившаяся появиться на улице с открытым лицом, рискует быть побитой камнями, хотя даже и при эмире в Сары-Кунда чачван одевали женщины только байских и духовных семей.
Сираджеддин рассказал, что дехкане посылали ходоков в Байсун просить заступничества, но натолкнулись там на волокиту. Председателем городского совета оказался бывший эмирский казий. Он не скрывает своего прошлого, но всячески подчеркивает и выставляет напоказ свою принадлежность к партии джадидов-младобухарцев. В своих речах он любит говорить о революционных заслугах, но по всей округе известно, что к «казию», так попрежнему его зовут дехкане, без подношений ходить нечего:
«Казий» выслушал сарыкундинских просителей и приказал милиции задержать их. Около недели они просидели под замком. Выпустив их, «казий» в назидание объявил: «Жаловаться нужно обоснованно. Помните: проявлять при сборе налога снисходительность — значит наносить вред народным интересам. Против тех, кто будет уклоняться от платежа налогов, мы применим оружие, набег и ограбление».
Ходоки вернулись к обескураженным сарыкундинцам, у которых Сабир грозил отобрать весь урожай якобы за недоимки прошлых лет... Тогда сарыкундинцы изгнали из кишлака Сабира и его прихвостней, но «казий» грозит «бунтовщикам» страшными карами.
Не желая слушать дальше, Санджар потянул за рукав старика.
— Пойдемте к назиру... Расскажите ему обо всем. Требуйте своих прав!..
Но Сираджеддин движением головы показал в сторону замерших в почтительных позах просителей. Жаркое солнце накалило землю. Пот градом катился по лицам дехкан, но никто из стоявших у ворот, не осмеливался пересечь двор и укрыться в тени деревьев, обрамляющих хауз.
Лишь изредка, когда великий назир случайно бросал взгляд в сторону ворот, стоявший ближе всех проситель
461
пробегал, согнувшись еще более почтительно, несколько шагов вперед и снова замирал, как только назир отводил глаза.
Проходившие мимо слуги яростно шикали на просителей:
— В сторону, в сторону, уберите свои грязные лапы с ковра.
Сираджеддин сказал:
— Один раз я был в Сары-Джуе на бекском дворе, видел вот такое... Но теперь... власть-то народа!
— Пошли,— сказал Санджар так громко, что все сидевшие у хауза обернулись и посмотрели в его сторону.
— Пойдем к великому назиру,— и командир четким шагом направился к возвышению, таща за руку упиравшегося Сираджеддина.
Уже на полпути глаза Санджара встретились с взглядом великого назира, и этот взгляд, как и тогда, при первой встрече, был холодный и неприязненный. Но он не остановил Санджара. Подойдя к возвышению, командир решительно звякнул шпорами и, приложив по-красноармейски руку к меховой шапке с красной звездой, отрапортовал:
— Командир добровольческого отряда Санджар по вашему приказанию прибыл.
Он ждал приветствия. Но оно не последовало. Сидевшие молча разглядывали стоявшего перед ними воина и выжидали, что скажет великий назир. Тогда заговорил сам Санджар. Волнуясь и путаясь, он рассказал о деле старосты Сираджеддина, о доблестных сарыкундинцах и их жалобе. Закончил он свою краткую горячую речь словами:
— Разве для того проливалась кровь героев, чтобы на их шею опять посадили кровососов-лихоимцев и баев с их вонючими ублюдками? Сейчас у нас Советская власть, власть рабочих и дехкан. И мы не позволим, чтобы разная мразь тянула свои лапы к завоеваниям революции.
Слабым движением руки великий назир предложил Санджару замолчать. Лицо назира потемнело и стало жестким. Губы скривились в усмешке.
— Уважаемый... э... э... уважаемый, мы вас звали, но разве для этого? Разве мы интересовались вашим мнением об этом кишлаке Сар... Сар... как его?
462
— Сары-Кунда,— подсказал сотник
— Да, да, спасибо, об этом... этом кишлаке. Вы, кажется, военный человек. Ну и надеемся, вы будете заниматься вашими военными делами, пожалуйста, а государственные вопросы... да... вопросы государственные предоставьте кому это доверено... народом.— Обернувшись к сотнику, назир промолвил: — Займитесь стариком. Объясните ему неудобство и неприличие его поступка... Пусть обратится к этому, как его...— Устроившись поудобнее на подушке, он холодно взглянул на Санджара: — Уважаемый... Мы вас звали... выразить одобрение, одобрение храбрости вашей и ваших... э... людей. Да... да.
Он медленно и нехотя цедил слова. И удивительно — содержание их никак не вязалось с холодным равнодушием тона, которым они произносились. И удовлетворение, которое в первое мгновение испытал Санджар, начало сменяться чувством недоумения. В памяти промелькнула первая встреча с назиром, там, у дорожного источника. А назир все так же сухо и холодно тянул:
— Поразительная храбрость ваша, товарищ... товарищ...
Один из сидевших на возвышении подсказал: «Командир Санджар».
— Да, да, благодарю... товарищ Санджар. Но, отдавая должное вашей отваге, мы должны... вы только не примите наших слов как осуждение...
Санджар насторожился.
— Вы, нам передавали, нарушили приказ командования. Вы ушли с отрядом в Бабатаг. Вы долго отсутствовали... Оставили штаб в неизвестности... что внесло путаницу...
— Это не так!— запротестовал Санджар.— Мы преследовали Кудрат-бия, мне было приказано...
— Простите, товарищ...— И снова назир наморщил лоб, якобы досадуя на свою забывчивость.
Обернувшись к своим собеседникам, он многозначительно покачал головой, как бы говоря: «А вы хотите от него дисциплины! Да он и разговаривать с людьми не умеет».
— Так вот что,— продолжал великий назир, и голос его стал елейным.— Времена партизанщины прошли. И мы боимся, что такие ваши действия могут принести вред вместо пользы. Поэтому...
463
Командир шагнул вперед. Все прыгало перед ним в тумане. Ярость душила его.
— Я воин... я темный пастух. Стал воином народа. Я сражаюсь с черной стаей волков уже три года. Я не заслужил... Мои действия вредят? Нет!
Тогда великий назир, успокоительно подняв руку, проговорил:
— Спокойнее... Не волнуйтесь. Ваши заслуги нам известны, но ваши недостатки известны тоже. Когда мы сложили ваши заслуги на одну чашу весов, а ваши пороки на другую чашу,— вторая чаша перетянула. И мы решили...— он обвел присутствующих взглядом.— Да, мы решили сказать. Вы неправильно воюете. Басмачи — обманутый народ. Мирный народ. Вы безжалостно истребляете их. Когда нужно действовать уговорами и лаской, вы пускаете в ход саблю и пулю. Вы убили Салиха-курбаши, вы убили Сулеймана-ишана... наконец, погиб сам Кудрат-бий.
— Но они уничтожены в бою! Они жгли кишлаки, резали дехкан, предавали позору женщин и девушек. Они... Врага, если встретишь, не щади!
— Разве Кудрат-бий не изъявил покорность? Он сложил оружие в Денау... А вы... Наше решение: отряд ваш, как формирование Бухарской народной республики, направляется на отдых... временно, конечно. Вам мы дадим отпуск. Отдохните тоже... Примите нашу благосклонность.
Земля и небо пошатнулись. Как мог этот картавящий юнец говорить такие слова ему, Санджару, участнику бесчисленных боевых схваток с басмачами? Как смеет этот юноша, пусть он будет сам великий назир, судить его?.. Где Кошуба? Где его начальник? Он бы не позволил...
И Санджар сдавленным голосом проговорил:
— Это клевета, меня оклеветали.
Он круто повернулся и, не видя ничего перед собой, пошел к воротам. По знаку назира сотник и еще один вооруженный человек побежали вслед за Санджаром. Сотник притронулся к его руке.
Тогда командир остановился. Вид его был так страшен, что сотник отпрянул назад.
Санджар посмотрел на него невидящим взглядом и ушел.
464
Никто не посмел остановить его.
Старинная узбекская пословица гласит: «Голова храбреца к земле не опускается».
Санджар поскакал в Миршаде, куда ушел после боя у мазара Хызра Пайгамбара его отряд. О чем думал командир, когда он гнал коня по пыльной дороге? Какие мысли теснились в его горячей голове? Никто не может сказать. А сам Санджар не рассказывал о своих переживаниях тех дней. Он спешил к своим друзьям и соратникам, чтобы посоветоваться с ними, обсудить все случившееся.
Санджар примчался в Миршаде под вечер. Он издали равнодушно пробежал глазами по знакомой картине. Тянулись рядами черные юрты полукочевых узбеков. Высились белые глиняные столбы, соединенные полукружиями дувалов, защищавших от сора и грязи глубокие колодцы. Около них толпились стада овец, пригнанных на водопой.
Косые лучи золотили пыль у многочисленных чайхан, вытянувшихся рядами вдоль единственной кривой улицы. На постоялых дворах в караван-сараях ревели ишаки.
Уже с первого взгляда Санджара поразила пустота Миршаде. Он не видел ни одного своего бойца.
— Привет храброму Санджар-беку! — крикнул чайханщик Самад, «вместилище всех новостей и сплетен», как его называли на всем протяжении Дюшамбинского тракта.
— Салям!— ответил Санджар.
Чайханщик подбежал к Санджару и зашептал:
— Вашего отряда нет...
— Как! Что вы сказали?
— Его нет...
И Самад рассказал командиру, что сегодня на рассвете прибыл в Миршаде отряд милиции с приказом Бухарского правительства о роспуске отряда Санджара. Бойцам предложили немедленно разойтись по домам.
По мере рассказа голова Санджара опускалась все ниже и ниже. Он ничего не сказал Самаду, хлестнул Тулпара и ускакал в сторону Ущелья Смерти.
— Выпейте чаю!— крикнул чайханщик.— Отдохните! Но фигура всадника растворилась в быстро спускавшихся с гор красноватых сумерках...
465
XIV
Странно было услышать среди совершенно пустынных холмов нежный детский голосок. На кочковатой жесткой дороге, заливаясь серебристым смехом, стояла совсем крохотная девочка в бархатном камзоле, в золотой тюбетейке с фазаньим перышком.
Ее неожиданное появление будто разорвало напряжение, сковывавшее путешественников многие тягостные дни и ночи. Люди изумленно оглядывались по сторонам, шевелили плечами, как будто с них свалилась большая тяжесть и, смущенно улыбаясь, поглядывали на девочку.
— Папа,— сказала девочка по-гиссарски,— какие красивые лошадки!
Она остановилась и, раскачиваясь на неуверенных пухлых, в перевязочках, ножках, раскинула широко объятия, вполне уверенная, что вся скрипящая и топочущая махина экспедиции, вывернувшаяся из-за поворота дороги, остановится по одному мановению ее руки. И весь грохочущий караван арб, всадников, верблюдов застопорил, как вкопанный, перед девочкой.
Она снова засмеялась, задорно и торжествующе.
— Честное слово,— прозвучал осипший голос Николая Николаевича,— твоя карточка, Джалалов, столь отвратна в своем обросшем, неумытом виде, что ты должен бы напугать ее, а она тебе улыбается...
Все посмотрели друг на друга. Да, непривлекательно выглядели участники экспедиции: покрытые щетиной лица с воспаленными красными глазами, с облупившимися носами и щеками, полинявшие от солнца гимнастерки, просалившиеся от конского пота штаны, рваная, запыленная обувь...
Особенно тяжело дались последние двое суток. Слухи сменялись слухами. По ночам на юге полыхали зарева, частенько доносились далекие раскаты пальбы. Горели чьи-то сигнальные костры. Днем по окрестным горам мчались подозрительные всадники. В караване поймали басмаческого лазутчика.
Ибрагимбековские банды пытались наверстать упущенное Кудрат-бием. И каждый дал волю своим нервам: смолкли шутки, разговоры, смех. Все, даже Джалалов, пали духом. Ждали худшего.
466
И внезапно, при виде смеющейся девочки, все вспомнили, что мир состоит не только из басмачей, пыли, знойной духоты, свинцовой усталости, что есть еще жизнь, радость, смех!
— Доченька, куда ты?
Из-за развалившегося дувала вышел такой высокий, такой чернобородый до синевы, такой смуглый таджик в красной чалме, что все даже были ошеломлены немного. Таджик подхватил девочку за руки и только тогда величественно поздоровался.
— А-а-а,— протянул Николай Николаевич,— неужели у вас нет более подходящего места, чтобы обучать ваше несмышленое дитя хождению на задних лапках?
— Что угодно?— синебородый удивленно поднял глаза.
— А далеко ли еще до Дюшамбе?— перебил Джалалов.
Великан ласково улыбнулся, но не Джалалову, а дочке, и на вопрос ответил вопросом:
— Есть ли у почтенных путешественников глаза?
В словах таджика звучала явная насмешка, и Джалалов вскипел:
— Мы спрашиваем, а вы...
— Постойте,— осторожно проговорил таджик,— посмотрите перед собой.
И тогда из множества грудей вырвалось:
— Впереди Дюшамбе!..
В туманной мгле, стлавшейся над плоской долиной, прорезанной блестящими лентами протоков реки, темнели зеленые чинары и пирамидальные тополя Дюшамбе.
— Мы у цели. Мы в сердце таинственной страны гор — Восточной Бухары. Еще час пути, и кончатся наши мытарства,— еще час пути,— и нас ждет заслуженный отдых...
Кто сказал это, неважно. Во всяком случае, он выразил единодушное мнение едва ли не всех участников экспедиции.
— Отдых? Тихая жизнь?— прозвучал совсем неожиданно суховатый голос.— Кто размечтался об отдыхе?
К краю обрыва, откуда расстилается вид на Дюшамбе, выехал Кошуба. Всем бросилось в глаза, что комбриг сегодня был особенно подтянут. Его, видавшая виды, выцветшая гимнастерка выглядела даже щеголевато,
467
воротник застегнут на все пуговицы, подшит чистый подворотничок. Командир был гладко выбрит. Сапоги начищены до блеска.
Несколько минут Кошуба молча смотрел на город.
— Вот Дюшамбе! Вчера еще летняя резиденция гиссарских беков — властителей Кухистана, господ над таджиками, владетелей их душ и тел. Завтра — столица свободной, самостоятельной горной республики, гордого, свободного таджикского народа. И, конечно, этот город не будет называться так некрасиво, по базарному дню — Средой. Нет, трудящиеся найдут ему достойное название, подобающее героической истории таджикского народа.
Сам того не замечая, Кошуба перешел на торжественный тон.
Но вдруг он заговорил по-другому:
— Смотрите, вы, мечтающие об отдыхе! Что вы видите? Полосу зелени, мирные домики, утопающие в изумрудных садах. И вы кричите: Дюшамбе, Дюшамбе! Думаете увидеть нечто вроде города восточных сказок Бухары или хотя бы красивого кишлака Каратага? Так лучше вас предупредить заранее: там ничего нет. Ни базаров, ни медресе, ни домов. Все разбито, все разрушено. Там, за стеной зелени,— развалины. Эмир, когда бежал из Дюшамбе, приказал все разрушить. Его кровавые прихвостни так и сделали. И там ничего не осталось, кроме битых кирпичей и скорпионов...
— Хотелось бы знать,— проворчал Джалалов,— зачем тогда мы сюда тащились!?
Командир медленно раскурил трубку и долго смотрел на желтые обрывы, белую пенящуюся воду Варзоб-Дарьи, на черную точку не то всадника, не то барана, ползущую по далекому склону уже выгоревшего холма, высившегося над садами Дюшамбе. Широкая полоса серой гальки начиналась на севере от самого черного зева ущелья, где тоненькой арочкой виднелся мост. Вправо, до темных невысоких гор Локая на юге, тянулись заросли камыша. Сквозь туман вдали белел высокий холм, увенчанный башнями. То был Гиссар, в недавнем прошлом столица гиссарского бекства, ныне почти совсем заброшенный и вымерший от малярии город.
Вдруг Кошуба прервал молчание. Он протянул вперед руку и громко, так, чтобы все слышали, скапал:
468
— Вот здесь я вижу в недалеком будущем мост. Большой красивый железнодорожный мост, по которому пройдет до дюшамбинского вокзала московский поезд.
Все переглянулись. О каком железнодорожном мосте, о каком вокзале, о каком поезде говорит он здесь, в диких дебрях, в сотнях верст пути от ближней железнодорожной станции?.. И о каком скором поезде можно говорить людям, уже больше месяца не слышавшим паровозного гудка?
— Я вижу перед собой красивый город, который построит советский народ в изумительной долине Варзоб-Дарьи, — продолжал Кошуба.— Я уверен, что город, который будет здесь создан, превзойдет красотой многие города нашей страны. И вы, товарищи, сделаете все, чтобы этого добиться. Добиться, чтобы здесь вырос город, достойный эпохи социализма. Вы приехали сюда не отдыхать, как кто-то сейчас сказал, а работать, и как еще работать! То, что вы видели в пути, все пустяки; то были цветики, а ягодки впереди. И труды и, быть может, смертельная опасность ждут каждого из вас.— Вот вы, Николай Николаевич,— Кошуба обернулся к доктору,— молодой врач. Таких молодых врачей в Ленинграде сотни. Извините, но опыта у вас нет, навыков нет. Правда?
— Правда,— неуверенно буркнул Николай Николаевич. Он не понимал, куда клонит командир.
— Так вот, в Ленинграде, Москве, Туле, Ташкенте — сотни врачей, а здесь, в Дюшамбе и на пятьсот километров кругом, Николай Николаевич будет первым и едва ли не единственным врачом. С сотворения мира здесь не бывал никто из медиков, если не считать колдунов, габибов и прочих знахарей-шарлатанов, темных, невежественных. Зато было и есть неисчислимое количество болезней и больных. Можно ли думать об отдыхе врачу, когда здесь умирают дети от такой неопасной, по сути, болезни, как сухая экзема? Когда никем не леченная чесотка вконец изнуряет больных, лишает их работоспособности, превращает в инвалидов. И вот вы, Саодат,— и он быстро повернулся в седле к молодой женщине.— Вы выбрали тяжелый путь. Мне только вчера пришлось услышать в чайхане многозначительную фразу: «Одежда куцая, волосы на голове коротко острижены, руки голые, женщина занимает место мужчины. Приближается день страшного суда». Говорил так единственный грамотей кишлака, ныне
469
назначенный учителем только что открытой новой школы. А что творится в горных и степных кишлаках, где и таких грамотеев нет?
Глаза Саодат потемнели, губы сжались. Она упрямо тряхнула косами. Весь ее вид говорил: «Не смотрите, что я слаба и нежна на вид. Я знаю, на что иду».
Снова закурив, Кошуба смущенно улыбнулся.
— Получилось вроде поучения. Вот вы, Джалалов. Вы — огонь. У вас душа горит, а руки тянутся к самому горячему делу. Вы — бухарец, Джалалов, а будете работать среди горных таджиков, и вам будет очень трудно первое время, потому что эмиры бухарские много столетий тиранили и угнетали горцев. Но я уверен, что это вас не остановит. Подымите выше голову, друг, и пусть не пугают вас дела. А сколько их! Тут и политработа, и организация трудового дехканства, и укрепление местных исполкомов, и помощь разоренному басмачеством населению, и создание честной, проверенной милиции, и наделение землей безземельных, и семенная ссуда, и восстановление арыков, и, боже мой, сколько всякой работенки. Знаю, что вы, как в узбекской сказке... Забыл ее название... так там говорится: «Пусть зубы шакала вонзятся в мое сердце, пусть летучая мышь вцепится в мои волосы, пусть змея железными кольцами обовьется вокруг шеи, пусть стрела пронзит грудь, пусть тело мое покроется язвами, но с прямого пути я не сойду». Пусть клятва эта будет моим напутствием, друзья.
Возгласы удивления послышались кругом.
— Почему напутствием?
— Разве вы не с нами?
— В чем дело?
Из-под свода крытой арбы высунулась, вся в бинтах, голова. Медведь искал одним оставшимся глазом Кошубу. Командир встрепенулся.
— Ой, ой! Товарищ, Медведь,— сказал он ласково,— марш обратно. Вам надо лежать и лежать. Отдохнете, полечитесь, и вас доставят обратно в Ташкент.
— В Ташкент?
— Да, вам не повезло. И в таком пекле вам нечего делать.
— Ну, нет,— весело заговорил Медведь.— Вот уже на этот раз вы ошибаетесь, извините старика. Меня отсюда теперь не выманите. Когда я ехал сюда, я воображал, как
470
подобает ученому, вышивочки да орнаментики изучать... Оказывается, совсем не так. Нет, спасибо покойнику Кудрат-бию за науку. Я знаю таджикский язык, я имею образование, и мне найдется здесь работа...
— Но... — начал было Кошуба.
— Я здесь останусь и, надеюсь, от того, что я помогу, например, делу народного образования, моя наука не пострадает.
Ученый исчез за пологом арбы.
— Ну, кажется, я заговорился с вами, прощайте,— глухо сказал Кошуба.
Снова прозвучал хор голосов.
— Почему же?
— Ведь Дюшамбе рядом?..
...Кошуба молча спрыгнул с лошади и подошел к арбе, где сидела Саодат. Лицо ее было очень грустно. Она наклонилась и протянула свою тоненькую белую руку Кошубе. Оба они молчали. Глаза Саодат были опущены и взгляд ее скрыт длинными ресницами. Кошуба был смущен и разглядывал пальчики, задержавшиеся в его темной ладони.
— Смотрите,— сказал сдавленным голосом Николай Николаевич,— как высоко парит орел!
Все, жмурясь от лучей поднимающегося солнца начали выискивать в небесной синеве орла...
Топот коня заставил всех обернуться. Саодат уже спряталась под навесом арбы.
Всадник скакал галопом по тропинке вдоль вереницы арб...
XV
Ниязбек долго не слезал с коня. Сохраняя непринужденный вид, он несколько раз проехал мимо разбросанных на склонах одинокого степного холма строений.
Несомненно, это был тот самый кишлак Кенегес, о котором говорил Али-Мардан. И название, и многие приметы совпадали. Но как быть дальше? Где искать дом, в котором были оставлены сокровища рудника Сияния? А быть может, нет никаких сокровищ, может быть, они давно исчезли?
Снова и снова Ниязбек вглядывался в желтые квадратные мазанки, стараясь угадать, какая же из них? Навстречу попадались одинокие прохожие. Мужчины отчуж-
471
денно бормотали приветствия, не проявляя ни малейшего желания вступить в беседу с незнакомцем, имевшим слишком независимый вид, женщины же, пугливо сверкнув черными глазами и кое-как натянув на голову халат, стремглав кидались за первый попавшийся дувал.
Целая свора злобно лаявших овчарок следовала за всадником по пятам; собаки высоко подпрыгивали, стараясь вцепиться в его сапог зубами.
Что предпринял бы дальше Ниязбек — трудно сказать. Никакого готового плана у него в голове не было.
Помог случай. Проехав мимо медленно шагавшего навстречу по пыльной тропинке старика, Ниязбек вдруг сообразил, что уже видел это лицо с седыми клочковатыми бровями, бегающими глазами и недовольно выпяченной нижней губой.
Он стремительно обернулся и встретился с злым взглядом прохожего.
Тенгихарамский помещик и старик внимательно изучали друг друга. Они не произнесли ни слова.
Нет, ничего в этом человеке не было примечательного. Самое заурядное, грубо вылепленное природой лицо, каких в степи можно встретить немало. И в одежде не было ничего своеобразного. Большая грязная чалма, потрепанный, посеревший от пыли желтый халат, запыленные порыжевшие сапоги. Обыденная одежда степняка.
Прохожий тоже остался, видимо, недоволен осмотром. Вобрав голову в плечи, он отвернулся и пошел своей дорогой.
В эту минуту Ниязбек вспомнил:
«Гузар. Питейный дом, ярко освещенная богатая михманхана. Так вот кто!»
— Эй, Сайд Ахмад!
Прохожий резко обернулся.
— Что надо?— огрызнулся он. Вдруг лицо его просветлело. — А, это вы? То-то, смотрю, где я этого человека видел? Что вы у нас делаете?
Длинно и туманно Ниязбек начал рассказывать, как он попал в Кенегес, но Сайд Ахмад снова помрачнел и поспешно перебил собеседника:
— Хорошо, хорошо, только не здесь разговаривать, на дороге...
472
И взглядом показал в сторону. Там, на краю тропинки словно из-под земли выросли пять или шесть дехкан. Лица их были равнодушны и непроницаемы, только по глазам можно было заметить, что они крайне заинтересованы и слушают с напряженным вниманием.
Громко, чтобы все слышали, Сайд Ахмад заговорил:
— Пожалуйте, любезный странник. Будете гостем. Прошу в мою хижину, отдохните с дороги. А там и поговорим о делах.
Он высокомерно посмотрел на дехкан и пошел по тропинке, показывая дорогу.
Сайд Ахмад привел Ниязбека к стоявшему на отлете домику, выделявшемуся среди остальных мазанок кишлака Кенегес только несколько более крупными размерами и небольшим, огороженным дувалом, двором.
Проводив неожиданного гостя в низкую, темную комнату, Сайд Ахмад сделал широкий жест рукой и стонущим голосом протянул:
— Прошу, прошу. Вот как живем мы теперь, мы, кому принадлежала половина здешней степи. Вот все, что оставили большевики и их отродье нам, мусульманам.
И он запричитал, по-бабьи охая и всхлипывая. Он вскакивал, выбегал, отдавал кому-то распоряжения, снова возвращался, присаживался на пыльную кошму и все жаловался на горькую судьбу, на неблагодарных, и неизменно возвращался к революции, из-за которой он потерял и имение, и стада, и жен.
— Хочу, друг, все бросить, уйти в священный город мусульман —Мазар-и-Шериф.
— Но это в стране афган... Там, если в таком виде приедете, — Ниязбек окинул взглядом скромную одежду степняка,— в таком виде никто, кроме черной кости, с вами и разговаривать не захочет. Там глаза открываются только при сиянии золота и шелесте шелка.
Сайд Ахмад вздохнул:
— Знаю, и потому только согласился воспользоваться гостеприимством здешних вшивых пастухов. Они из рода кенегес, и я кенегес. Вот и живу. Только...
— Что только?
— Только и устои рода рушатся. И среди кенегесцев завелись большевики. Подымают голос. Того и гляди...
Только теперь Ниязбек рассмотрел, как изменился грозный помещик. Он осунулся, постарел. Руки дрожали.
473
— Что случилось?
Сайд Ахмад только безнадежно покачал головой.
— Из Каршей приехали... Хотели арестовать. Еле от них ушел.
Он снова тяжело вздохнул.
Оба долго и жадно ели из грубой деревянной миски. Ниязбек так был поглощен своими мыслями, что и не разобрал толком, чем его накормили...
«Говорить ему или не говорить? Лучше, конечно, не говорить. Но как тогда найти? А этот Сайд Ахмад, оказывается, кенегесец. В степи родовые устои крепки...»
Он решился.
Кратко рассказав о кладе, оставшемся в одном из домов кишлака, Ниязбек попросил помощи.
— Трудное дело, темное дело,— покачал головой Сайд Ахмад, но глаза его загорелись алчным огнем.— Трудное дело. Как узнать, как узнать? Вот разве поговорить с Дедом.
— А кто такой Дед?
— Самый старый в роде. Без него ничего не делают. Все его слушают.— Ниязбек поднялся: — Идемте к нему.
— Зачем же? Подождите.— И он позвал: —Айниса! Айниса!
В комнату вошла, постукивая калошами, очень молодая, цветущая женщина, вся увешанная серебряными украшениями.
— Постыдитесь, в комнате посторонний,— заворчал Сайд Ахмад,— закройте лицо.
Женщина, не обращая внимания на замечание, смотрела во все глаза на Ниязбека. Только на повторное замечание Сайд Ахмада она нагловато улыбнулась и резко спросила:
— Что вам?
— Сбегай к папаше Гафуру и скажи, чтобы Дед пришел. Я хочу...
— Буду я шляться ночью по кишлаку...
— Ну, иди сейчас же!
— Идите сами.
Круто повернувшись, она вышла, вызывающе покачивая бедрами. Ниязбек с недоумением и явным интересом посмотрел ей вслед, затем перевел взгляд на хозяина.
474
— Дочь ваша?
Сайд Ахмад, кряхтя, поднялся и, сконфуженно заморгав, пробормотал:
— Нет, нет! Жена. Недавно... э... Супруга. Строптива только...
— Что ж вы не поучите ее?
— Ох, ох! Если бы раньше... В старое время... э...— и доверительно зашептал:— Теперь молодые жены не очень-то почитают нас, стариков. В прошлом году женился, а она, чуть что, кричит: «Старый козел! Вонючий козел! Ты бы себе бабушку Салиму в жены взял. А куда тебе молодую!»
Обрадовавшись знакомому, старик забыл о том, что не полагается откровенничать в делах семейных, и разболтался, шепелявя и брызгая слюной.
— Неслыханно! Вы бы поучили ее,— повторил брезгливо Ниязбек.
Но Сайд Ахмад, уже в дверях, пробормотал что-то «о новых временах, о развратных влияниях» и ушел.
Ходил он долго. Сквозь дремоту Ниязбек слышал далекий лай собак.
Наконец послышались голоса, шаги. Хозяин вернулся в сопровождении глубокого старца.
Старик почтительно называл Сайд Ахмада «таксыр», но подозрительно посматривал на Ниязбека и на все вопросы отговаривался незнанием.
Ниязбек долго ходил вокруг да около. Но вдруг, по неуловимым колебаниям в голосе старца, Ниязбек понял: «Дед что-то знает!» Тогда он решил схитрить.
— Уважаемый отец,— почтительно заговорил он,— вы напрасно становитесь на пути утаивания и осторожности. Сам светоч всех доблестей, воин Санджар-бек прислал меня.
— О, Санджар! Могучий богатырь. Он поднял оружие за нас, пастухов.
— Так вот, Санджар хочет знать, когда здесь был человек эмира — Али-Мардан?
— Бухарский пес был здесь в дни, когда народ и красные воины низвергли в прах эмирский арк, а сам эмир еле унес свою жирную задницу в Гиссар.
— Что здесь делал Али-Мардан?
— Он искал убежища.
— И он получил его?
475
— Нет. Мы, старейшины рода кенегес, решили: этот бухарец нанес обиду кенегесцу, а потому он не гость нам.
— В чьем доме он останавливался тогда?
— Он переночевал в доме Касыма.
Ниязбек и Сайд Ахмад переглянулись. Нить была в их руках.
Утром они посетили дом Касыма. Поверив, что Ниязбек представитель Советской власти, Касым подробно рассказал о том, как три года назад в кишлаке появился усталый вельможа и как его прогнали старейшины рода кенегес.
— Когда он ушел, он ничего не оставил?
Касым задумался. Он припоминал. Тень сомнения затуманила его мозг.
— Говорите!— нетерпеливо настаивал Ниязбек.
— Хорошо. Я скажу. Тот человек оставил...— Он встал, открыл стоявший в нише сундук и, порывшись в нем, достал дорогой бархатный пояс, какие носили во времена эмира знатные бухарцы.
Ниязбек и Сайд Ахмад жадно ощупали пояс со всех сторон.
Значит, слова Али-Мардана о сокровище не были пустым разговором.
— Почтеннейший,— резко воскликнул Ниязбек,— где то, что было в поясе?
Он испытующе оглядел Касыма — его истрепанный халат, порыжевшие сапоги.
Если бы сокровище попало в руки этого пастуха, вряд ли он жил бы сейчас так нищенски. Нет, не может быть! Но тогда где же...
И Ниязбек проговорил мрачно:
— Имейте в виду, вы ответите перед судом, если хоть один грош из того, что было в поясе, пропал. Это... собственность казны.
Хозяин оробел. Сквозь загар было видно, как кровь то приливает к его лицу, то отливает от него. Касым мучительно старался что-то припомнить. Наконец он выдавил из себя:
— Камешки...
— Где они?— В один голос воскликнули Ниязбек и Сайд Ахмад.— Сейчас же давайте сюда...
Оба вскочили и угрожающе смотрели на пастуха. Тот с удивлением взглянул на одного, на другого.
476
— Я честный мусульманин. Всю жизнь я жил своим трудом и чужого не брал... Чужого мне не нужно. Идем!— Он вывел их на двор и подвел к очагу. — Вот здесь.
Толкаясь и мешая друг другу, Ниязбек и Сайд Ахмад разломали глиняные стенки очага.
— Вот они!— прохрипел Ниязбек, выбирая из глины и пыли невзрачные камешки.
Растерянно смотрел Касым на двух почтенных людей, которые бормоча проклятия и захлебываясь от радости, рылись в пыли. Он наклонился и поднял один камешек, откатившийся к его ногам. Повертев в руке, Касым поднес его поближе к глазам и недоуменно покачал головой. Сайд Ахмад поднялся и грубо схватил Касыма за руку.
— Ты что? Ты зачем берешь?
Пастух безропотно разжал пальцы и выпустил камешек. Цепкая рука помещика сразу же подхватила его.
— Зачем они вам?— спросил Касым.— Какая от них польза?
— В них большая сила,— раздраженно проговорил Ниязбек, все еще шаря в груде сухой глины,— только набери песку полон рот и помалкивай. Если ты хороший мусульманин, то должен понимать, что здесь болтуну не избежать гнева эмира. Понял?..
— Эмира?— удивленно пробормотал Касым.
Им овладели сомнения. Едва только непрошенные гости ушли, Касым уехал из кишлака. Нахлестывая коня камчой, он бормотал: «камешки», «большая сила», «достояние народа», «гнев эмира».
Пересчитывая камни в михманхане Сайд Ахмада, Ниязбек нечаянно посмотрел в открытую дверь на расстилавшуюся до самого горизонта степь.
— Смотрите. Кто это едет?
— Это Касым!
— Куда он поехал?
Скотовод не отвечал. В бессильной злобе он сжимал и разжимал кулаки. Ниязбек встревожился:
— Надо скорее убираться отсюда. Этот человек приведет в кишлак кого-нибудь... кого не нужно.
Они долго следили за медленно удалявшимся всадником.
— Когда он доберется до Кассана? — спросил Ниязбек.
— Утром... если будет ехать всю ночь.
477
Ни слова не говоря, тенгихарамский помещик вышел во двор и начал седлать коня. Сайд Ахмад последовал его примеру. Сборы были недолги. Когда кишлак погрузился в сумерки, из саидахмадовской усадьбы выехали два всадника. Они ехали почти неслышно по дороге, устланной толстым слоем пыли. Тем не менее, их услышали.
У подножья холма от приземистого кишлачного домика отделилась тень. На дорогу вышел человек. Густым басом он проговорил:
— А, здравствуйте, хозяин!
Сайд Ахмад нетерпеливо бросил:
— Здравствуйте. Что вы стали на дороге? Что вам надо?
Дехканин сделал шаг в сторону.
— Дорога ночью полна неудобств. Если позволите посоветовать, лучше не ездите.
— Убирайся ты лучше со своими советами...
— Лучше поверните лошадей назад,— сказал дехканин,— вас ждут неприятности на ночной дороге.
«Хлестнуть коня. Сшибить окаянного дурака, посмевшего встать на дороге. Ускакать. Да и кто догонит их на жалких кляченках?» Мысли мелькали как вспышки зарниц...
Но в голосе дехканина, звучавшем глухо, было что-то, внушавшее Ниязбеку тревогу. За низким дувалом и дальше по улочке слышалось шуршание подошв, сдержанные голоса, покряхтывание. Может быть, это были обычные шорохи ночного селения, и только обостренное тревогой воображение видело в них угрозу, но, во всяком случае, промелькнувшие позади одного из строений две тени с длинными предметами, весьма напоминающими тяжелые старинные ружья, никак нельзя было принять за галлюцинацию. Заметил эти тени и Сайд Ахмад. Неожиданно мягко он проговорил:
— Дружок, вы напрасно волнуетесь. Мы хорошо знаем свой путь. Мы хотим попасть на зимовку в Самык-кудук. Там завтра свадьба...
— Нет, не ездите, хозяин,— упрямо твердил дехканин.
— Нам очень нужно...
Тогда вмешался Ниязбек. Он наклонился к скотоводу и шепотом сказал ему:
478
— Вернемся.— Громко он проговорил:— Спасибо, друг. Вы правы... Мы поедем завтра утром.
В полном молчании они поднялись на вершину холма, спешились и, крадучись, задами глиняных мазанок начали пробираться на кассанскую дорогу. Казалось, все благоприятствовало им: и разбросанность домов кишлака, и бесчисленные тропинки, пересекавшие во всех направлениях холм, и тьма безлунной ночи. Весь кишлак, как обычно бывает в степи, лег спать с заходом солнца, и даже собаки как-то нехотя и лениво ворчали, провожая беглецов.
Но выбраться из селения не удалось и по кассанской дороге. И здесь их поджидали. Более того, Ниязбек и Сайд Ахмад убедились, что за каждым их шагом следили. Ужас начал проникать в их души, когда они увидели, что кишлак Кенегес не выпускает их.
Пришлось вернуться.
Добравшись до михманханы, Ниязбек свалился на ковер.
— Что они хотят от нас? — бормотал Сайд Ахмад. Нижняя губа у него отвисла, обнажив желтые корешки гнилых зубов.
— Проклятая!— сорвалось с губ Ниязбека.— Это ваша жена разболтала всему свету. Свернуть надо подлой шлюхе шею... Где она?
Скотовод, не отвечая, возился с фонарем.
— Надо посмотреть, не подслушивает ли это дерьмо опять под дверью. Пойдите же!— крикнул раздраженно Ниязбек.
— Да нет же, я смотрел. Ее нет в доме. Когда мы уезжали, она спала. А теперь ее нет.
— Хорош муженек! Жена шляется где-то, треплет подол своей рубашки по чужим одеялам, а ему все равно.
— Молчите, мой бек!— в дрожащем голосе Сайд Ахмада зазвучало глухое раздражение.— Молчите о чужой жене. Вот скажите, что нам делать? А?
Ниязбек высыпал на скатерть драгоценные камни и начал раскладывать их на три кучки. В одну кучку он клал по три, в другую — по два и в третью — по одному камешку. Скотовод с интересом следил за ним, временами прислушиваясь к тому, что творится за дверью. Но там царила полная тишина. Наконец, он спросил:
— Что вы делаете, мой бек?
479
— Вот это эмиру,— показал Ниязбек на самую большую кучку,— а это вам. И он ткнул пальцем в самую маленькую.
Даже при слабом свете фонаря можно было заметить, что Сайд Ахмад передернулся. Он ничего не сказал, а только тяжело, с присвистом вздохнул. И этот вздох был так красноречив, что Ниязбек невольно поднял голову. Посмотрев на скотовода, он небрежно заметил:
— Что такое вы? Вы только оказавший нам гостеприимство. И ваша доброта возмещена сторицею. Каждый камешек — богатство, а смотрите сколько я вам отсыпал. Ну, так и быть великий эмир не сочтет за обиду, если... мы возьмем у него немножко.
И он небрежно взял из большой кучи горсточку камешков и подсыпал в самую маленькую. Поколебавшись немного, он отделил ребром ладони от эмирской доли изрядную часть и присоединил к своей.
— Их величество,— пояснил он, слегка усмехнувшись,— и так богат, и проживает в Кабуле в довольстве и достатке, а нас большевики обездолили и ввергли в нищету.
— Тогда...— Сайд Ахмад выразительно посмотрел на большую кучку камней.
Поколебавшись секунду, Ниязбек быстро-быстро начал делить эмирскую долю. Он посмеивался в усы, но, видимо, не совсем был спокоен, так как раз или два воровато оглянулся, как будто побаивался, что за ним следят.
Но вот он встал и потянулся:
— Ну, хозяин... Спасибо. Вы оставайтесь, а я уйду.
Он тщательно уложил мешочек в хурджун.
Только, тогда Сайд Ахмад заговорил.
— А я? А мы?
— Вы здешний... вас не тронут. Желаю вам всяческого благополучия.
Почтительно кланяясь и бормоча прощальные приветствия и пожелания. Сайд Ахмад подхватил хурджун и засеменил вслед за Ниязбеком. На дворе было по-прежнему темно. Только в вышине слабо мерцали затянутые дымкой звезды.
Перекинув через плечо поданный ему хурджун, Ниязбек перелез через дувал и, крадучись, начал выбираться из кишлака. Долго полз он на животе, замирая при
480
малейшем шорохе. Крепкие, как железо, колючки раздирали кожу на руках и коленях, рвали одежду. Подавляя стоны и чуть слышно шепча ругательства, обливаясь потом, он все полз и полз. Уже последние дома остались позади, а Ниязбек не решался подняться на ноги.
Наконец он, совершенно обессиленный, свалился в неглубокую канавку.
Было все так же темно. Несмотря на страшную усталость и саднящую боль в руках, Ниязбек чувствовал небывалый подъем. Все ликовало в его душе. Он вырвался из лап кенегесцев. Клад в его руках. Он сунул руку в хурджун — и замер.
Мешочек исчез. Холодный пот выступил на лбу. Ниязбек колебался только минуту. «Нет! Сайд Ахмад не получит теперь ничего».
И он двинулся обратно. В ярости он забыл о всяких предосторожностях. Он вошел в кишлак и едва сделал несколько шагов по улочке, как его окружили дехкане с тяжелыми дубинками в руках. Зажгли фонарь.
— В чем дело?— прозвучал чей-то голос.
Ниязбек растерянно бормотал:
— Что вы хотите? Я уважаемый человек. Что вам надо от меня?
— Поистине, потерявший халат боится щипков. А что же ты ночью делаешь в степи?
— Хожу... Пройтись вышел...
Тот же голос проговорил:
— Пойдем!
— Куда?
— А вот сейчас увидишь.
Ниязбека повели. Он доказывал, угрожал... Его столкнули в яму из-под зерна. В углу зашевелился человек.
— Кто тут?
— А кто вы?— испуганно вскрикнул Ниязбек.— Боже, это вы, Сайд Ахмад?
— Не подходите! У меня нож, острый нож,— завизжал старик,— не приближайтесь.
Усевшись поудобнее на земле, Ниязбек удовлетворенно проговорил:
— И вы, любезный друг, здесь. Ну, я очень доволен: вошь попала под ноготь, очень доволен.
— Не подходите! — продолжал вопить Сайд Ахмад.
481
Наверху кто-то негромко заметил:
— Ворона вороне глаз выклюет.
Другой ответил:
— Кто попал в воду, сухим не выйдет, кто попал в могилу, живым не выйдет.
Ниязбек завернулся поплотнее в халат и затих. Он не сказал больше ни слова.
XVI
Горячий «афганец» прижимал тяжелую пелену серо-желтой пыли к белесой от выступившей соли степи, и от этого становилось все труднее и труднее дышать. Горы скрылись в дымке, горизонт сузился до маленького, совсем крохотного пространства вокруг невесть как выросшего среди великой суши единственного тополя. Хотя было и мрачно от того, что солнце превратилось в кирпично-красный круг, не столько светивший, сколько излучавший зной и жар, но глянцевая свежая зелень молодого деревца улыбалась истомленному путнику и приветливо манила его в слабую свою тень.
Прислонясь к бархатистой белой коре тополя, прямо на земле сидел великий назир. Его нежное, тонкое лицо потеряло обычную привлекательность. Оно побагровело и покрылось бурыми пятнами. Гримаса раздражения исказила его.
Энергично потирая колени, назир капризно тянул:
— Когда, наконец, когда же? Сколько нам еще здесь придется проторчать?
Назир не поднимал глаз, но при всем том ясно было, что он обращался к стоявшему в пяти шагах от него толстому человеку, державшему под уздцы двух коней. К седлу одного из них был приторочен убитый джейран.
Толстяк серьезно и даже сурово смотрел на назира и не торопился с ответом! Он только украдкой сдвинул со лба свою большую синюю в полоску чалму и неторопливо почесал кончик носа.
После довольно длительной паузы назир, наконец, поднял веки и взглянул на своего молчаливого собеседника. Выражение лица толстяка мгновенно изменилось. Oт суровости не осталось и следа. По всей его широкой физиономии разлилось добродушие, глаза стали масляные, щеки затряслись от сдержанного смешка.
482
— Ну, председатель, или как там тебя... Что же ты молчишь?
— Нижайшие извинения, великодушного прощения просим, что вы изволите приказать?
Тот, кого назир назвал председателем, склонился в легком почтительном поклоне, чего никак нельзя было ожидать при его грузной, неуклюжей фигуре.
— Что изволите... что изволите, — передразнил назир и фыркнул,— подлец ты, хоть и председатель... Я спрашиваю, долго мы будем здесь глотать пыль?
— Нам не дано знать.
— А кто же знает?
Осторожно откашлявшись в жирную ладонь, толстяк еще подобострастнее проговорил:
— Вы, господин назир, приказали указать вам путь к Белому тополю. Мы выполнили ваше приказание...
— Дурак,— процедил назир и бессильно опустил веки. Страдальческие складки залегли в уголках его изящно очерченных губ.
Вот уже часа два он сидел под тополем и нетерпеливо ждал. Кого он ждал, он не говорил, а толстяк не находил нужным спрашивать.
Сегодня его, председателя пограничного сельсовета, разбудили на рассвете шумливые люди, оказавшиеся приближенными великого назира, и приказали поднять дехкан для устройства облавы на антилоп, более известных в Средней Азии под названием джейранов. Ворчали кишлачники, потихонечку проклиная приезжих охотников, но пришлось им бросить свои дехканские дела и тащиться под палящие лучи солнца в солончаки, где, как пугливые тени, носятся легконогие джейраны. Не угнаться за ними самым резвым скакунам и, чтобы охота была успешной, нужно устраивать облавы. Много верст пришлось прошагать по знойной степи дехканам, пока они смогли вспугнуть джейранов и погнать их в нужном направлении, прямо на охотников.
В разгар охоты назир подозвал толстяка-председателя и приказал: «Веди меня в урочище Белый тополь... Знаешь дорогу?» Председатель ничего не ответил, а только кивнул головой. Назир запретил своим спутникам следовать за ним. Белый тополь оказался довольно близко, да и сам назир, очевидно неплохо знал к нему дорогу. Доехали за полчаса. Около одинокого дерева, чудом выросшего в
483
мертвой степи и чудом уцелевшего среди буйных сухих ветров, никого не оказалось. Назир слез с лошади, решив, видимо, ждать. Кругом на много километров не видно было ни души. Вскоре потянул «афганец», и все — и степь, и холмы, и далекие горы затянуло мглой.
Злобно бормоча что-то под нос, назир смахивал песок с шелкового халата и нет-нет принимался рукавом стирать со лба испарину, размазывая бурую грязь. Ветер нисколько не освежал. Он только с силой загонял песчинки в уши, глаза, нос, раздражал.
Толстяк присел около лошадей на корточки и камчой пытался задерживать мчавшиеся по земле былинки, комки иссохшей колючки, соломинки. Духота, песок, колючий вихрь нисколько не отражались на самочувствии председателя, он даже затянул вполголоса какую-то песенку. Но ему скоро надоело петь и, сладко зевнув, он проговорил:
— Хорошая охота! А?
Едва ли он ждал ответа, просто ему было скучно и захотелось как-нибудь нарушить молчание. Но назир вдруг встрепенулся.
— Хорошая, говоришь? Ты смеешься, малоумный. Какая же это охота? Одно мучение. Только такое мужичье с дубленой шкурой, как ты, может выносить укусы проклятого гармсиля.— Помолчав, он спросил: — Послушай, ты здешний?
— Да.
— Давно живешь здесь?
— Давно.
— Как тебя звать?
— Гулямом.
— Ты Гулям Магог?
— Так меня прозвали.
— Ты что, у Кудрат-бия служил? Почему от него ушел?
Толстяк поднял очи горе и, вздохнув с таким шумом, как будто он выпускал воздух не из груди, а из могучих кузнечных мехов, пробормотал что-то насчет коловращения судеб и неблагоприятных обстоятельств, приведших курбаши Кудрат-бия на путь погибели.
— Ты знаешь, господин бараний курдюк,— нетерпеливо прервал Магога назир,— тебя должны были расстрелять?
484
Магог удивился:
— За что?
— Как за что? Дурья твоя башка. За дезертирство. Ты же ушел к Кудрат-бию из Красной Армии. Ты же дезертир.
Пухлое лицо Гуляма Магога олицетворяло полнейшее недоумение. Он открыл рот, чтобы возразить, но тут же, спохватился и только успел издать нечленораздельный звук — среднее между «э...» и «у...» А назир продолжал:
— Да, господин хороший, тебя уже расстреляли бы и твой жир пошел бы на плов могильным червям... А ты знаешь, болван, кому ты обязан своей вонючей жизнью?
Выразительными гримасами, суетливыми жестами коротеньких своих ручек Магог постарался показать, что он не знает имени своего спасителя. Гулям боялся, что, скажи он хоть слово, и он выдаст себя.
— Да будет тебе известно,— продолжал назир,— что мы остановили приговор...
— А разве был приговор? — вырвалось у Гуляма.
— Мы отменили приговор... вот этой самой рукой.
Он протянул руку, очевидно, надеясь, что Магог бросится целовать ее, но толстяк хитро зажмурил свои маленькие глазки и, раскачиваясь, стонал: «Велик аллах, избавивший нас от неминуемой гибели».
Гулям Магог имел все основания недоумевать и удивляться. Из всего, что сейчас говорил назир, соответствовало истине только то, что Магог действительно служил в Красной Армии. Все остальное было, как сразу же понял Магог, плодом досужего вымысла назира, который для не совсем ясных целей попытался обманом снискать его, Магога, признательность.
Стало очевидно, что назир многого не знал и не имел никакого представления об истинной роли Гуляма. Не знал он и о том, что Гулям был в разведке и выполнял особо ответственные задания командования. Так было и сейчас. На днях комдив Кошуба вызвал Магога, долго расспрашивал о его родном кишлаке и сказал: «Дорогой мой, снимай армейскую форму, получай у каптенармуса халат и отправляйся-ка домой. Нет! Никаких возражений... Слушать мою команду! Кишлачишко твой уж больно хорошо на самой границе стоит. Ты каждую там собаку знаешь. Поезжай. Держи связь с начальником погран-
485
заставы... Понял?» — Кошуба так многозначительно похлопал толстяка по плечу, что тот только понимающе улыбнулся.
Не успел Магог поселиться в родном кишлаке, как односельчане поспешили выбрать его председателем только что организованного сельского совета. Они считали, что для этого у них имеются все основания: Гулям был бедняком, ненависть его к баям и басмачам была хорошо известна, наконец, он демобилизовался из Красной Армии с хорошими отзывами командования. С пограничниками у Магога установились самые теплые отношения.
...Не дождавшись изъявлений благодарности, назир снова заговорил:
— Ты мусульманин, неблагодарная ты скотина?
— О, конечно, мы...
— Так помни же об обязанностях мусульманина перед мусульманином.
Магог только собрался ответить, но назир поднял руку:
— Тише ты, болтун...
Где-то совсем близко слышались голоса, позвякивание подков. Но за густой пылью всадников нельзя было разглядеть.
Тогда назир быстро заговорил, обращаясь к Магогу:
— Ты мусульманин, и помни это. Ты был в воинстве ислама, и помни это. Мы сохранили тебе жизнь, и помни это... А теперь крикни... Дадим знать, что мы здесь.
Минуту спустя в бурой мгле вырисовались смутные силуэты двух верховых, а еще немного погодя всадники уже слезали с коней у тополя.
Магогу бросилось в глаза, что при появлении всадников назир проявил суетливость и подобострастие, совсем не подобающие его высокому званию, тем более, что приехавшие люди были по виду своему очень невзрачны, а одеты бедно, чуть ли не в отрепья. И, несмотря на то, что свое «вассалям алейкум» они произнесли нараспев и как подобает мусульманам, подержали руки назира в своих руках, их темные от загара лица оставались в течение всего разговора мрачными и суровыми. Более молодой из них, которого коротко называли эфенди, держался властно и повелительно. Он часто перебивал своих собеседников на полуслове. В обращении его со
486
своим спутником сквозило чуть заметное пренебрежение, а с назиром он обращался по меньшей мере, как хозяин со слугой. И самое удивительное — надменный назир принимал такое обращение как должное,— по крайней мере так показалось Гулям Магогу.
— Эфенди,— пригласил назир приезжего и рукой показал на пятно тени под тополем,— прошу вас, мы...
— Это что за бык?— перебил эфенди, остановившись перед все еще сидевшим около лошадей Гулям Магогом.— Что этому пузану здесь нужно? А ну-ка, проваливай отсюда!
— Помилуйте, эфенди, это только неграмотный босяк. Он нам не помешает. Он был в рядах борцов за веру.
— Ах, так,— эфенди испытующе сверлил глазами добродушное, расплывшееся лицо Магога, стараясь поймать его взгляд. Но Магог незаметно дернул поводья, и кони шарахнулись в сторону. Эфенди мог теперь сколько угодно разглядывать широченный гулямовский зад. Увидев, что возня с лошадьми затянулась, эфенди повернулся к назиру и, казалось, забыл про толстяка.
— Так. Ну, что же, приступим. Только покороче. Времени у нас мало.
Назир молчал. Губы эфенди покривились, и он с усмешечкой спросил:
— Что же? Язык у вас отнялся? Зачем вы нас вызвали? Только для того, чтобы в этой дрянной яме париться в своем собственном соку?
Назир, наконец, заговорил, и Магог поразился — до чего жалобен стал его голос! В нем звучали плаксивые, даже истерические нотки.
— Я не могу больше. Я не могу. Я покидаю здешние края, на них легла тень несчастья...
Эфенди ничего не сказал. Теперь глаза его смотрели на назира уже не напряженно, а с нескрываемым любопытством. Воспользовавшись тем, что про него забыли, Магог бросил заниматься лошадьми и весь обратился в слух, стараясь не пропустить ни одного слова. Он, как выражался впоследствии, повесил уши внимания на гвоздик любопытства, или, если оставить в стороне цветы восточного красноречия, уподобился своей сплетнице-сестрице, всерьез заболевшей только потому, что ей не удалось узнать, что говорил на ухо настоятель мечети хорошенькой жене Бутабая, когда... Впрочем, сейчас
487
было не до всех этих сплетен. Магог подошел еще ближе и, усевшись прямо на горячую землю, начал рукояткой камчи чертить на песке линии, состроив на своей физиономии маску скуки и равнодушия.
— Я остался по приказанию ваших начальников,— продолжал назир.— Я пошел на тысячи самых тонких хитростей, я ежесекундно подставлял свою голову под меч ЧЕК'а, я... Да что там и говорить, я, рискуя жизнью, выполнял каждое ваше указание, даже если оно было сделано шепотом, я старался выполнять все, о чем вы не успели еще подумать. И что же? Где обещанные войска, которые должны были ринуться подобно всеосвежающему пламени из-за Дарьи, где конница под зеленым знаменем пророка, где пушки, о которых мне писали из Мазар-и-Шерифа, где пулеметы?.. Проклятие! Почему не посылаете вы нашему воинству пулеметы, пушки? Где обещанные многоопытные офицеры инглизы?.. Где, я спрашиваю вас!..
Приезжие хранили по-прежнему настороженное молчание и едва заметно переглядывались. Всегда медлительный в своих движениях, на этот раз назир резко жестикулировал, неуклюже взмахивая руками. Он то наступал на своих собеседников, то начинал бегать взад и вперед. Наскочив на спокойно сидевшего Магога, он выругался и, подбежав к эфенди, хрипло закричал:
— Господин эмир сбежал как трусливый джейран и, услаждаясь розовотелыми пери, позвякивает золотыми червончиками, полученными за краденный каракуль. А мы? Отдав, ха, добровольно большевикам свои сады и дома, свои стада и богатства, мы изображаем из себя революционеров и обязаны день и ночь путаться с ободранцами, которые с сотворения мира не осмеливались переступить даже порога дома достойных людей.
Заметно стало, что эфенди едва сдерживается. Он поднял руку, и этого оказалось достаточно, чтобы назир остановился на полуслове.
— Вы, господин, плохо руководите армией ислама. Как могло получиться, что Кудрат-бий погиб, что могучие его отряды рассеяны? Где амуниция, которую мы вам прислали, где винтовки, где золото?.. Почему еще мешают нам такие выскочки как неграмотный пастух Санджар? Как умудрились вы пропустить в Дюшамбе сотни арб и тысячи верблюдов с товарами, с советскими работниками,
488
с советскими деньгами?.. Как это случилось, когда у вас были тысячи воинов ислама, а эту экспедицию охраняло несколько десятков красных кавалеристов, которых вы могли и должны были стереть в ... — эфенди сделал выразительную паузу и растер подошвой своего сапога комок глины.— Из-за вашего ротозейства советские работники стали хозяевами Восточной Бухары, советские деньги изгоняют нашу валюту, московская мануфактура задушила манчестерские ткани. Еще неделю назад мы были хозяевами здесь, товары с всемирно известной маркой «Made in England» совершали торжественный марш на север, а теперь, прозевав экспедицию, вы нанесли нам смертельный удар, наша коммерция рухнула, как карточный домик. Какой рынок ускользнул! Индусские и кабульские купцы, как зайцы, перебираются через Пяндж. Завтра сюда, в Восточную Бухару, ни один коммерсант не посмеет сунуть нос. Какие убытки! Клянусь, вы ответите нам за это, господин назир. Вы знаете — в каждом порядочном торговом доме такой порядок: когда приказчик нерадив и неспособен, его прогоняют вон... А? Как вы думаете?
Казалось, назир только и ждал этих слов. С необычайной живостью он приблизил свое лицо к лицу эфенди и, брызгая слюной, прохрипел:
— Слава всевышнему. Я согласен... Я больше не работаю на вас... Довольно. У меня в Кабуле хватит денег, чтобы обойтись и без ваших фунтов стерлингов.
Эфенди, поглядев на своего спутника, резко бросил по-персидски:
— Ну, майор, разъясните сему молокососу обстановку.
Едва ли можно было допустить, что под обличием грязного заросшего кудлатой бородой степняка мог прятаться не только майор, но даже и гораздо более низкий военный чин, но спутник эфенди при обращении к нему поднял холодные, жестокие глаза и глухим, безжизненным тоном проговорил:
— Послушайте, мальчик, вы не с папочкой и мамочкой в игрушечки играете. Поймите только одно, упорство до добра не доводит. Не успеете вы показаться в Кабуле и вас...
Майор выразительно пощелкал пальцами и замолк.
Этот мертвенный голос, эта циничная усмешечка подействовали сразу же. Назир пришел в себя. Хныкающим тоном он рассказал о все усложняющейся обстановке
489
в Восточной Бухаре, о том, что простой народ перестал слушать помещиков и духовенство, что басмачи потеряли в глазах трудового дехканства всякий авторитет, что людям надоели войны и кровь, что большевиков полюбили и стали уважать...
— Уважать... большевиков?— в свою очередь взвизгнул эфенди.— Бояться, слушаться из-под палки — это я еще понимаю, а чтобы уважать... Вы бредите!
— Именно уважают, а большевики никого не заставляют слушаться из-под палки. Вот возьмите Кошубу — самый беспощадный большевик, а он не только никого не ударил, но даже и не прикрикнул на дехканина. Его так и зовут — справедливый Кошуба...
— Э, да вы, миленький, тоже, кажется, за большевиков! Но, к черту болтологию, к черту агитацию! Наше последнее слово таково. Продержитесь месяца три-четыре. Действуйте еще осторожнее, чем до сих пор. Копите силы. Пусть большевики подумают, что начинается успокоение, пусть немного расхлябаются. Пока только усильте связи с «Мелли иттихад», с верными людьми из бывших младобухарцев, вводите их в советский аппарат, пусть они станут советскими чиновниками, пусть они проникают всюду. Чем больше будет среди большевиков наших людей, тем лучше... Действуйте. Не за горами день, когда мы бросим к вам целую армию, боевую армию, и тогда... берегитесь, большевики!
Еще продолжая говорить, эфенди направился к лошади. Назир шел за ним и упрямо повторял:
— Ничего не выйдет... Я больной. Отпустите меня. Я не могу, я поеду с вами...
Сняв с седла тяжелый хурджун, эфенди бросил его на землю и со словами: «На, слюнтяй, на мелкие расходы» — легко вскочил на коня и, не прощаясь, поскакал в сторону от тополя. Майор последовал его примеру. Через минуту фигуры всадников скрылись в густой мгле гармсиля.
Долго стоял назир в полной растерянности, вперив пустой взгляд в землю. Губы его кривились, а по щекам пробегали легкие судороги.
Снова подул резкими порывами горячий ветер, погнал по солончаку зашуршавшие, зазвеневшие песчинки, степную солому, блеклые листочки колючки. Стало еще более душно. Назир нехотя поднял голову, и тут его
490
взгляд встретился с взглядом все так же неподвижно сидевшего на земле Гуляма Магога. На целую минуту глаза назира потемнели от ничем неприкрытого ужаса. Он мучительно соображал. Мысли его ясно читались и по глазам и по всей растерянной физиономии, и Гуляму Магогу ничего не стоило их прочесть.
«А, молодой человек, — размышлял толстяк, пока назир старался оправиться от безумного волнения, сжавшего ему до боли сердце,— ага, ты только сейчас сообразил, что мы тоже имеем уши, что мы тоже кое-что понимаем в вопросах жизни нашей родной страны и в делах некоторых темных людишек, которые из заграницы лезут со своими цепкими лапами к нашему горлу, хотят, очень хотят волосяной аркан на горле народа затянуть... Вот о чем ты думаешь, дорогой юноша. И ты думаешь еще, как бы хорошо было, если б этого неприятного свидетеля твоей неприятной беседы здесь не было. И ты еще думаешь, господин выродок, о том, как бы этому свидетелю заткнуть глотку и оставить его здесь посреди пустыни, чтобы шакалы ободрали и слопали его мясо, а солнце и гармсили высушили его кости. Ну, нет, господин потаскушка, аллах не напрасно вложил зернышко мудрости в череп Гуляму, и мы еще проведем за нос вашу паршивую желторотую милость...»
— Эй ты, жирняк, — хрипло проговорил назир, — что ты расселся, как кази-калан бухарский...
— А, что угодно вашей милости?
— Ты что, оглох? Иди сюда... Положи хурджун на нашего коня...
— А? — Магог приложил ладонь к уху и рысцой побежал к назиру.— А? Что вы изволили приказывать? Ветер, господин... относит ваши слова, господин...
— Да ты глуховат, я вижу, — с заметным облегчением сказал назир и повторил крикливым, капризным голосом приказание.
— Будет исполнено, будет исполнено, вот теперь мы слышим...— и Гулям Магог потащил тяжелый хурджув к своей лошади.
— Стой! — крикнул назир.— Стой... не туда несешь, говорят тебе... глухой дурак. У тебя жиром, что ли, уши заплыли?
Но до тех пор, пока он не схватил за плечо Гулям Магога, тот так и не обернулся на крик.
491
Толстяк так наивно моргал глазами, так забавно оттопыривал нижнюю губу, что назир, даже если и имел в душе какие-нибудь сомнения, теперь окончательно уверовал в то, что этот грузный, бестолковый степняк глуховат, придурковат и совершенно безвреден. Проследив за тем, чтобы хурджун был хорошо приторочен к седлу, назир взобрался на коня и, приказав показывать дорогу, направился к далеким холмам, чуть маячившим в желто-пегой мари.
Но когда Гулям Магог, следуя приказанию, вздумал поехать впереди, назир истерическим выкриком остановил его:
— Куда? не смей вырываться вперед... Позади меня поедешь.
Магог в полном недоумении остановил лошадь.
— Так-то, — проворчал, проезжая мимо, назир.
— Но... а дорогу как я буду показывать?
— А ты вежливо объясняй: «Будьте милостивы, поверните вправо! Поверните, если вас это не затруднит, налево!» — И тихо добавил: — Так вас, мужланов, надо учить...
«Афганец» все крепчал. Степь уже не шелестела, не звенела. Низко над землей сплошным потоком мчался, ревя и воя, песчаный поток. Песок больно хлестал по лицу, по рукам. В воздухе стоял все нарастающий стон, заглушавший все прочие звуки. Быть может, поэтому назир только один раз, да и то очень смутно, слышал голос своего проводника...
Когда назир уже в кромешной тьме по чуть мерцавшему огоньку костра набрел на своих людей, он вознамерился строго допросить Гулям Магога, но оказалось, что тот исчез.
— Видно, он не только глух, но и слеп. Мы же сами нашли дорогу, — самодовольно заявил своим спутникам назир и, рисуясь, добавил: — Что значит закалять свою волю и тело охотой... Ну, а теперь в путь. Скорее из этой проклятой долины.
Через минуту кавалькада двинулась прямо на север.
Темна ночь, когда свирепствует «афганец» на границе. Скрежещет по оконному стеклу крупный песок. Да-
492
леко на чужой стороне полыхают зарева тревожных костров...
Прижав к уху трубку полевого телефона, пограничник четко и раздельно произносит слова рапорта. Несмотря на стоящую в комнате пыль, несмотря на гнетущую духоту, командир в полной красноармейской форме. Гимнастерка застегнута на все пуговицы, ремни и кобура блестят, слышно позвякивание шпор. На тоненьком ремешке на руке висит дорогой работы камча. Из-под щеголеватой буденовки выбиваются русые кудри; щеки, подбородок тщательно выбриты.
— Докладывает начальник заставы,— говорит в телефонную трубку пограничник,— разрешите доложить...
Он вскидывает глаза на толстощекое, лоснящееся лицо Гуляма Магога и многозначительно хмурит брови. Толстяк навалился всем телом на грубо обтесанные доски стола и так внимательно слушает, что даже губы у него шевелятся. Точно он старается вместе с начальником заставы передать кому-то на другом конце провода все самые последние новости.
— Одного взяли, — продолжает докладывать пограничник,— из Дарьи вытащили... Захлебнулся, но отошел... Нет, товарищ комбриг, не говорит, ничего не говорит. На кого похож?.. Вроде как не здешний,— и обличье и одежда. Нет, не афганец, нет... Разрешите доложить, товарищ Кошуба, второго упустили, то есть утонул он... Да, так точно.
Последовала небольшая пауза. «Зуммер», попискивая, передавал, судя по выражению лица командира, что-то очень значительное. От сознания важности минуты Гулям даже приподнялся на табурете, и стол затрещал под напором его могучего тела.
Пограничник отчаянно замахал на него рукой и прокричал в трубку:
— Товарищ Кошуба, дело-то очень серьезное. Прикажите самому доставить нарушителя. Надо лично вам доложить про... Этот самый задержанный встречался у Белого тополя с одним бухарским работником... А... что? По телефону нельзя? Так точно, нельзя. Послезавтра быть в Дюшамбе? Есть, быть в Дюшамбе. С Гулямом? Есть быть с Гулямом.
Толстяк совсем лег на стол и с напряженной и в то же время умильной улыбкой смотрел на пограничника.
493
— Скажите командиру Кошубе, — молил он свистящим шепотом, — скажите начальнику и другу нашему Кошубе, что друг его и верный слуга Гулям по прозвищу Магог шлет ему поклон и пожелание всяческого благополучия.
XVII
Трудно проследить путь одинокого всадника на горных каменистых тропах... Затерялся в горах и след Санджара.
Рассказывают, что видели командира в Сары-Кунда.
Был большой той у мечети и ликование народа. Санджар сидел на почетном месте в кругу стариков, рука об руку с Сираджеддином. Только Сабирбай да мухтасиб не присутствовали на празднике. Сабир, узнав, что приехал Санджар, впал в великий гнев и, как говорили дехкане, черная кровь дошла до сердца и он в гневе умер. А «вонючий» блюститель нравственности бежал прямо из мечети в горы столь поспешно, что забыл свои калоши и резной посох.
Видели якобы Санджара в Ущелье Смерти.
Одинокий, он скакал ночью при свете желтой луны по берегу соленой речки, и тень его отражалась в поблескивающих струях. Говорили, что вслед за Санджаром скакали на некотором расстоянии еще два всадника. У Могилы Афганца, когда луна зашла за тучи, внезапно послышалась стрельба, лязг стали о сталь. Ночную тьму прорезало дикое ржание лошадей, человеческий вопль. А когда луна выкатилась снова на звездный простор небес, всадник все так же ровным галопом скакал на запад. На следующий день ехавшие в Миршаде кочевые узбеки обнаружили уже застывшие трупы двух неизвестных, увешанных дорогим оружием.
Впрочем, так ли это было, трудно сказать. Имя Санджара-непобедимого и поступки его стремительно обрастали легендами, и правду становилось нелегко отличить от вымысла...
Рассказывают, что вблизи Байсуна Санджар, как вихрь, ринулся с саблей наголо в кишлак Сагын, где свирепый басмач Пансат Исмаил, непримиримый враг Советов, пировал на своей свадьбе с дочерью местного помещика Атабека. Басмачи разбежались, как трусливые
494
шакалы, а самого Пансата Санджар вел за собой много верст на веревке, привязанной к седлу.
Дехкане несколько раз кидались с палками и камнями на подлого курбаши и пытались прикончить его. И только потому, что Санджар говорил народу: «Не трогайте эту вонуючую гадину, дайте мне отвести его в Байсун! Там будет над ним суд скорый и правый»,— люди сдерживали себя и ограничивались криками и угрозами. Но когда Санджар уехал из Байсуна, они вырвали курбаши из рук милиционеров и повесили его на базаре....
Видели Санджара и дальше на древней дороге, что идет от Самарканда через железные ворота лесистого Дербента к Городу Львов — Ширабаду.
Всадника замечали и запоминали, ибо имя Санджара-непобедимого стало любимым и уважаемым в народе.
В гарнизонах славному воину оказывали почетные встречи. Коменданты давали ему в провожатые сильную охрану, так как в те дни не принято было ездить в горах в одиночестве. Но Санджар неизменно отказывался от конвоя и, как одержимый, устремлялся в дальнейший путь.
Комендант гарнизона Тенги-Харам, вопреки воле командира, послал десять красных конников сопровождать его до следующей станции. И кстати. Потому что банда отпетых кзыл-аяков налетела на Санджара и, как ни был он храбр, они сгубили бы его, не подоспей бойцы, ехавшие на близком расстоянии.
К легендам нужно отнести, несомненно, и рассказ о том, что Санджар приехал в дом Гияс-ходжи в кишлаке Янги-Кент. Он пробыл здесь, по обычаю, трое суток: «Гость дорог три дня», но не дождался мутавалли и, уехав, сказал: «Передайте же вашему мудрому, как лисица, хозяину, если только он осмелится здесь показаться: счастлив он, что не застал я его здесь. Но мы с ним еще встретимся...»
Санджар пил айран и отдыхал у того самого колодца, хранителем которого был безумный отшельник.
За три года многое изменилось в Карнапчульской степи. Не было больше помещика, никто не трепетал при упоминании его имени, а у колодца по вечерам собирались на водопой стада, принадлежащие кишлачным скотоводческим артелям и отдельным дехканам.
495
Отшельник перестал мечтать о звании святого и стал всеми уважаемым бош-чабаном, то есть главным, пастухом местных отар...
Скоро след Санджара затерялся на бесчисленных, больших и малых дорогах и дорожках, верблюжьих тропах и тропках безбрежной Карнапчульской степи. Да и где тут встретить одинокого всадника, когда от одного малолюдного кишлака до другого здесь нужно ехать от восхода солнца до заката...
XVIII
— Молчи, Волк, молчи! Ты мешаешь мне думать.
Прижимая обрубленные уши к густой шерсти загривка, могучий пес поднимал голову, смотрел сквозь красные языки пламени костра и робко взвизгивал. Волк прислушивался к далеким звукам ночной степи.
Стрекотали мириады кузнечиков, пели цикады, шелестели на ветру сухие, жесткие стебли травы. Далеко-далеко выла гиена. По твердой земле шлепали чьи-то калоши и стучал посох.
— Молчи, Волк,— шептала тетушка Зайнаб,— или ты, глупый, не узнаешь? То слепой суфи идет спать к себе домой.
Тетушка Зайнаб запустила руку в шерсть Волка и ласково потрепала упрямую голову. Но замер шум одиноких шагов, а собака все еще вела себя беспокойно. Она встала, отряхнулась и подошла к открытой двери, вглядываясь в темноту.
Старуха помешала угли в очаге. Сноп искр метнулся к потолку и на минуту озарил скорбно поджатые губы и затуманенные глаза. Чугунный кувшинчик, поставленный в самый жар углей, давно раскипелся и, плескаясь и плюясь, вздымал облака пара. Но тетушка Зайнаб не обращала на него внимания. Она ничего не видела и не слышала.
Встрепенулась старушка только при звуке быстрых, легких шагов и нежного голоса...
С улицы приближалась песня.
Курухайт, Чибор, конь моего тюри!
Веселей скачи, не отставай, смотри.
Для тебя яйлой высокогорной будь,
Белая моя девическая грудь!
496
Волосы мои на щетку отдам,
Чтобы чистить шерстку мягкую твою.
Конь алмазноногий, быстро доскачи,
Снежные холмы грудей моих топчи,
Только с милым другом нас не разлучи...
— Здравствуйте, тетя Зайнаб! Здравствуй,злой Волк!
В дверях появилась, блистая серебряными украшениями и румянцем нежных щек, Гульайин. Она сбросила изящные кожаные калоши на высоких туркменских каблучках и, ласково обняв старуху одной рукой за плечи, присела на корточки около очага и выхватила кувшинчик из огня.
— Ой, тетя, у вас вся вода ушла. Я тут кое-что принесла, попробуйте. Я напекла.
Тряхнув тяжелыми глянцевыми косами так, что зазвенели все подвески, она развернула платок, в котором лежали белые лепешки, посыпанные кунжутом. Приятный запах распространился по комнате.
— Что ты там пела, дочка,— спросила Зайнаб,— не очень... подобающее девушке?
— Ну вот! Почему неподобающее? Это в дастане девушка поет о коне своего жениха, поджидая его.
— А ты кого поджидаешь?
То ли пламя костра вспыхнуло особенно сильно, то ли отсвет красного платья пал на лицо Гульайин, но щеки ее сейчас казались пунцовыми.
— Никого...
Пурпур залил лоб, уши, подбородок, шею девушки.
— А я все смотрю,— задумчиво проговорила тетушка Зайнаб,— что это Волк волнуется, на месте не сидит? Он, плут, свежий хлеб почуял. Ну, доченька, спасибо! Давай чаю попьем...
— Ой, тетя, мне некогда. Там у нас гости.
— Кто же, Гульайин?
— Тетушки из Таджик-кудука приехали,— личико Гульайин омрачилось и поблекло.— Ой, кажется они сватать меня приехали.
— Ну и правильно. Что за непорядки! Тебе, доченька, уже скоро девятнадцать, твои однолетки по два ребенка уже имеют, а ты все еще блохой прыгаешь. Да, а твой папаша Сабир-ата, хоть и похож своей черной бородищей и большой чалмой на самого кушбеги бухарского, а
497
мягкий он, как вата. Все потакает капризам своей дочки... Балует он тебя. Новые времена, новые нравы. Да разве в наши дни с нами, женщинами, стали бы разговаривать?!
Девушка простодушно улыбнулась.
— Папаша у меня очень послушный... — и передразнивая, по-видимому, отца, басом продолжала, поглаживая воображаемую бороду. — Дочь моя, я так хочу, делай так, как я повелеваю. Ой, доченька, ой, что я сказал такого, что твои глазки опечалились? Нет, нет, поступай по-своему. Как хочешь! Как хочешь! Даже, если за тебя предложат калым, как в сказке — тысячу верблюдов, тысячу баранов, тысячу псов без хвостов и тысячу блох, и то я не буду огорчать свою Гульайин.
— Редкий у тебя отец, дочка. Но почему же ты замуж не идешь? Ведь такие подходящие женихи есть...
— Ой, тетя, успею еще...
— Смотри, егоза, хоть у нас новые порядки, и даже мы, женщины, стали рассуждать, только как бы тебе не попасть в перестарки. Кто тебя лет двадцати возьмет?
— Тетя, оставим это...
Гульайин нагнулась к углям и начала усиленно раздувать их, хотя никакой надобности в этом не было. Когда она подняла голову, лицо ее было снова красно, очевидно, от жара пламени.
Тетушка Зайнаб многозначительно поджала губы. Она-то знала истинную причину смущения Гульайин, но разве об этом можно и нужно говорить? Да к тому же...
— Ветер мчит лист, сорванный ураганом с ветки, по степи... Когда-то он вернется к родному дереву?
Девушка снова опустила голову и сказала:
— До страшного суда будут сражаться герои. — Вдруг она показала на Волка.— Смотрите, тетя, что с ним?
Пес снова начал повизгивать. Он топтался на месте, кружился, выбегал на двор, снова возвращался, напряженно прислушивался.
— Волк, перестань, иди сюда, ложись!— крикнула тетушка Зайнаб.— Заболел, что ли?
Собака нехотя подошла к хозяйке, покорно ткнулась холодным мокрым носом в ее руку и вдруг с воем кинулась в дверь и исчезла в темноте. Испуганно смотрели
498
вслед ей женщины, прислушиваясь к все удалявшемуся радостному лаю.
— Ва-алло,— бормотала тетушка Зайнаб,— уж не взбесился ли наш Волк?
— Нет!— взволнованно вскочила с места Гульайин.— Волк радуется...
Она стояла около двери, держась за сердце, и бесчисленные серебряные подвески на голове, на плечах, на высокой груди опять весело зазвенели, переливаясь блеском.
Тетушка Зайнаб тоже вскочила и, приоткрыв рот, замерла, не в состоянии сделать ни шага.
В кишлаке творилось что-то необычное. Все собаки разразились, как по команде, дружным лаем. Скрипели двери, слышались тревожные голоса.
Совсем близко раздался топот копыт. Кто-то громко сказал:
— Салом, салом!
В ответ прозвучал неуверенный голос:
— Кто там?
Лошади зафыркали на дворе, звякнул металл о металл. Послышались властные, решительные шаги, зазвенели шпоры.
— Можно войти?— прогремел мужественный голос. В дверях выросла фигура военного. Он вынужден был наклонить голову, чтобы не удариться о притолоку. На груди его поблескивали ордена.
Зайнаб и Гульайин вскрикнули от неожиданности и разочарования.
Войдя в комнату, командир улыбнулся и сказал приветливо.
— Здравствуйте. Пусть не доставит вам мой приход беспокойства.
— Кто вы?— испуганно спросила тетушка Зайнаб.
Она так растерялась, что не прикрыла полой халата лицо. Не до этого ей было. С величайшим волнением смотрела она на неожиданного гостя. И вдруг узнала его. Ведь он приходил к ней, когда она приезжала в Гиссарскую долину в поисках Санджара. Неожиданный гость, не отвечая на вопрос, спросил:
— Где ваш сын? Где же Санджар?
Старушка растерянно молчала. Тогда выступил вперед только что вошедший в михманхану староста киш-
499
лака Кош-Как Сабир-ата. Тот самый бородатый Сабир-ата, который любил говорить: «Украшение базара — лавочки, украшение мужчины — борода». Вежливо и стеснительно покашливая в руку, он заметил:
— Гость, извините глупость тетушки Зайнаб. Да к тому же женщинам неприлично вступать в разговоры с посторонними мужчинами. Лучше я скажу. Сын тетушки Зайнаб Санджар вот уже три года в бегах... убежал из кишлака и ничего о нем не слышно.
— Неправда,— неожиданно звонко выкрикнула Гульайин,— Санджар стал воином, и весь кишлак знает это.
— Дочь моя,— степенно возразил кошкакский старшина, свирепо шевеля холеными усами и густыми бровями.— Совет женщины годится только женщине. Тебе здесь совсем не место. Убирайся домой!
— Ну вот, ну вот,— воскликнула девушка.— Тут новости, а меня гонят.
Глаза ее предательски заблестели, бахромой головного платка она смахнула воображаемую слезинку.
— Доченька, не надо, не надо,— испуганно забормотал Сабир-ата и в смущении стал теребить свою прославленную бороду.— Как хочешь, только прикрой лицо. Все же, по закону...
Командир засмеялся.
— Зачем же закрывать такую прелестную розу от глаз людей? Тетушка Зайнаб! Меня зовут Кошуба. Я товарищ и друг вашего сына Санджара. И я приехал узнать, где он и что с ним?
— Где он? Что с ним? Мы сами не знаем.
Тревога и боль прозвучала в ответе старушки. Тогда Сабир-ата, отстранив тетушку и свою своенравную дочь, подошел к очагу и, расправив одеяла, пригласил Кошубу присесть:
— Прошу пожаловать, дорогой гость. Отдохните с дороги у домашнего очага. Прошу, прошу! А вы, женщины, принимайте гостя.
Через минуту комната была полна народу. Во дворе у дверей толпились женщины. Свет костра нет-нет и выхватывал из темноты их лица.
Садясь к огню, Кошуба произнес установленное обычаем «бисмилля»... чем приятно поразил степняков. В этом «бисмилля» пастухи и дехкане не столько видели мусульманскую молитву, сколько призыв к добрым
500
силам помочь дому и обитателям его в их делах. Старейший из старейших жителей кишлака, Баба-калян, наклонился к соседу и сказал шепотом:
— Сынок, добрый человек наш гость...
«Сынок» важно погладил седую бороду и прошамкал в ответ что-то благочестивое. Ему было по меньшей мере лет восемьдесят.
Никто не раскрывал больше рта; все с интересом разглядывали гостя.
Несмотря на только что проделанный дальний путь, Кошуба, как всегда, был тщательно выбрит; аккуратно подстриженные усы делали его лицо солидным, представительным. Степняки, видевшие на своем веку из военных только оборванных, грязных и всегда голодных эмирских воинов, остались довольны результатами осмотра, Кошуба подождал вопросов, но, так как никто не заговорил, он сам решил рассказать о цели своего приезда,
— Очень жалею,— сказал он,— очень огорчен, что не вижу в родном доме, у родного очага брата моего Санджара. Семьдесят ташей я проскакал на своем коне, чтобы обнять его и приветствовать...— Кошуба помолчал. Неожиданно он задал вопрос.— Кем был у вас в кишлаке Санджар?
Сабир-ата наклонился вперед и ответил:
— Чабаном. Подпаском. Три года назад Санджар был молод, и ему нельзя было доверить отару.
Повернувшись к Сабиру-ата, Кошуба прижал руку к сердцу, как бы благодаря за разъяснение, и продолжал:
— Кем стал сейчас молодой юноша, которому три года тому назад нельзя было доверить стадо бессловесных животных? — И, так как все молчали в напряженном ожидании, Кошуба ответил на вопрос сам: —Позвольте сказать мне, человеку, который идет трудными путями битв почти десятилетие. Я скажу: юноша стал мужем. Пастух стал богатырем, он — Рустам! Он — Алпамыш! Вот кем стал ваш Санджар...
Ропот удовлетворения прокатился по комнате. Радостно вскрикнула тетушка Зайнаб, но мгновенно закрыла рот рукой. Даже при неверном свете костра можно было заметить, что лицо Гульайин залил густой румянец.
— Да, советский воин Санджар прославил себя великими подвигами,— продолжал торжественно Кошуба.—
501
Звенящая сабля Санджара снесла немало басмаческих голове Воины добровольческого отряда Санджара избавили от верной гибели цветущие кишлаки. Санджар защищал дехкан от алчности баев, девушек от позора, вдов от притеснения, детей от голодной смерти. Сам великий вождь трудящихся Владимир Ильич Ленин знает о достойном чести и прославления Санджаре...— Волнуясь, Кошуба встал и, обращаясь к тетушке Зайнаб, сказал:
— Тетушка Зайнаб! Советское государство и Красная Армия благодарят вас за то, что вы вырастили такого сына.
Сидя в уголку и закрывшись платком, старушка плакала.
Тогда Кошуба обратился к старикам:
— Спасибо вам, аксакалы, что вы воспитали в своем кишлаке такого доблестного воина!
Он обвел взглядом лица присутствующих и на секунду залюбовался живописной картиной. Словно выточенные из темно-красного дерева, теснились вокруг костра лица с ниспадающими на халаты черными и белыми бородами, с густыми насупленными бровями. За кольцом уважаемых людей до самой двери сидели пастухи; многие пришли со своими посохами, многие кутались в тяжелые овчины. Судя по доносившимся со двора возгласам и шуму, и там было полно народу.
Весь степной кишлак Кош-Как пришел сегодня к бедному домику тетушки Зайнаб послушать о славе ее приемного сына.
Тетушка Зайнаб снова всхлипнула. Гульайин наклонилась к ней и, нежно поглаживая по плечу, быстро-быстро зашептала:
— Не плакать нужно... радоваться следует. Тетя, тетечка. Ой, сердце мое сжимается. Куда убежал Волк? Вы ничего не слышите?
Вытирая слезы, тетушка Зайнаб улыбнулась и, подняв голову, начала прислушиваться. И сквозь шум голосов она, со свойственным степнячке умением различать самые далекие и тонкие звуки, услышала...
Не веря своим ушам, она покачала головой и проговорила все так же тихо:
— Ничего не слышу.
— А я слышу... Слушайте!
502
Далеко, далеко в ночи лаяла собака. И лай этот, захлебывающийся и истеричный, выражал безумную радость. А в перерывах чуть слышался дробный топот копыт по иссохшей от летнего солнца степи...
Широко открыв глаза, тетушка Зайнаб и Гульайин сквозь ночь пытались рассмотреть неведомого всадника. Они почти верили, почти знали, кто это. Но не только вслух друг другу, даже самим себе, в самых глубинах души они не решались произнести такое любимое, такое священное для них имя...
Как сквозь сон, до ушей тетушки Зайнаб донеслись слова Кошубы:
— Матушка, я так жалею, что не увидел под этой крышей вашего сына. Я не могу больше здесь задерживаться. Я уезжаю. Прошу же вас передать Санджару...
 — Салом! Кто говорит
об отъезде? Я не пущу вас, Кошуба.
— Салом! Кто говорит
об отъезде? Я не пущу вас, Кошуба.
Все вздрогнули.
В черном четырехугольнике открытой двери, как в рамке, стоял Санджар. Свет ударял ему в глаза, и он невольно зажмурился, протянув вперед руки.
Дико вскрикнула тетушка Зайнаб. Бросившись к сыну, она обхватила его руками и, плача, запричитала.
— Санджар!— прозвенел девичий голос.
— Санджар! Санджар! — зашумела толпа. — Санджар Непобедимый!
Отбросив сдержанность Зайнаб обнимала Санджара и шептала: «Сынок! Мальчик мой!»
С пылающими щеками, с горящими, как звезды, глазами стояла в двух шагах Гульайин и смотрела на Санджара. Но едва только он посмотрел на нее и взгляды их встретились, она закрыла лицо руками и выбежала из михманханы.
Шагнул вперед Кошуба. Голос его слегка прерывался и правая щека подергивалась, как всегда, когда он был сильно чем-либо взволнован.
— Здравствуй друг! Разве так делают друзья...
— Здравствуйте, командир!
— Разве так делают... Не посоветовавшись ускакал... Они обнялись и расцеловались троекратно по-русскому обычаю. Все еще не выпуская его руки из своей, Кошуба заговорил, поглядывая на тетушку Зайнаб, повисшую на другой руке воина.
503
— Я приехал поздравить тебя Санджар. Советское правительство наградило тебя орденом Боевого Красного Знамени.
Он не смог продолжать; его слова утонули в возгласах одобрения.
Но во взгляде его, устремленном на воина, вдруг промелькнула тревога. И появившаяся было на лице Санджара детски-счастливая улыбка мгновенно исчезла. Лицо его посуровело.
— Что это?— проговорил вполголоса Кошуба.
— Где-то стреляют,— с сердцем отрезал Санджар.— И сюда они добираются...
Командиры переглянулись. Кошуба вышел. И тотчас же со двора донеслась негромкая его команда: «По коням!»
Замерший в напряженном внимании Санджар вздрогнул и бросился к двери.
— Сын мой!— рванулась за ним тетушка Зайнаб. Но его уже не было в комнате.
... И в недрах ночной степи глухо загудел стремительно удаляющийся топот копыт многих коней...

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
Аман — просьба о милости, пощаде.
Амлякдар — чиновник, ведавший сбором налогов в провинции Бухарского эмирата.
Анаша (или наша) — сильно действующий наркотик, изготовляемый из листьев конопли.
А р к — дворец; замок в центре Бухары, резиденция эмира.
В а й д о д — крик, о помощи.
В а к у ф — церковное недвижимое имущество.
В а с и к а — здесь купчая крепость на недвижимое имущество.
Вилойят — уезд в восточном государстве и, в частности, Бухарском эмирате.
Г а у — мера площади; количество земли, которое может быть вспахано запряжкой волов за один день.
Д а с т а н — народная героическая поэма.
Дастархан — скатерть. В переносном смысле — угощение.
Джахид— воин, сражающийся за веру.
Джевачи, чухра, аксы, мирахур — военные чины бухарской армии.
З а к е т — налог.
И б н - С и н а — Абу Али ибн Сина (Авиценна) — бухарский врач, основоположник средневековой и европейской медицины.
Илликбаши — пятидесятник.
Имам — священнослужитель.
И н а к — чиновник.
И ч к а р и — женская половина.
К а з и й — судья.
К а у ш и — кожаные калоши.
К а з ы - к а л я и — «великий» судья, глава мусульманского суда в эмирской Бухаре.
К ы з - т о й — девичник.
Лат и Манат — идолы, которым поклонялись некоторые арабские племена до принятия ислама.
Л у к м а н — легендарный восточный врач.
Лям, алиф — буквы арабского алфавита.
М а з а р — сооружение на могиле, мавзолей.
М а к т а б — начальная духовная школа.
Мардикер — батрак.
Махалля — квартал.
М е д р е с е — высшее мусульманское духовное училище.
М и м б а р — возвышение в мечети, с которого имам произносит проповеди.
Мингбаши — волостной.
Мирахур — придворное звание в эмирской Бухаре.
Михманхана — комната для гостей-мужчин.
Мутавалли — смотритель вакуфа, обычно — высокопоставленное духовное лицо.
Муфтий — высший духовный чин.
Мухтасиб — духовное лицо, на котором лежала обязанность надзирать за нравственностью мусульман.
Мюрид — ученик ишана, глава мусульманского дервишского ордена.
Нас — жевательный табак.
О в р и н г — искусственный карниз на горной тропе.
Сандал — низкий столик, устанавливаемый в комнате над ямкой, куда насыпаются угли. Сверху на сандал стелется ватное одеяло. Под него сидящие вокруг сандала засовывают ноги.
Сардар — начальник.
С у ч и — знаток бродов и переправ.
Т а б и б — знахарь.
Т а к с ы р — господин.
Такыр — глиняная площадка, заполняемая весенними водами.
Т е н ь г а — бухарская серебряная монета достоинством около 20 копеек.
Той — пир, празднество.
Токсаба — полковник.
Туг — шест с хвостом яка. Устанавливался на могиле того, кто считался «святым».
У л а к — конские состязания.
Ф а т и х а — молитва.
Ференги— так называли в Бухаре европейцев.
Ф е т в а — письменное повеление, указ.
Ходжа — так называли в Средней Азии тех, кто считался потомком пророка Мухаммеда.
X а ш а р — взаимопомощь в дореволюционной деревне.
Худай — жертва.
Хурджун — переметная сума.
Чилим — кальян.
Чох — медная монета достоинством в ¹/з или ¼ копейки.
Ю з б а ш и — сотский.
Яша — да здравствует!