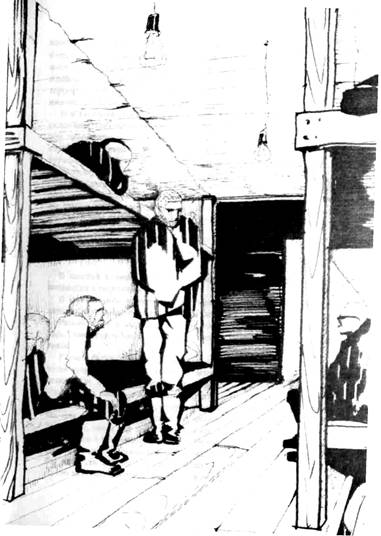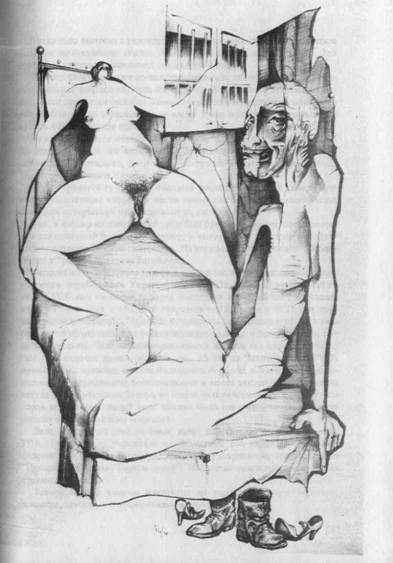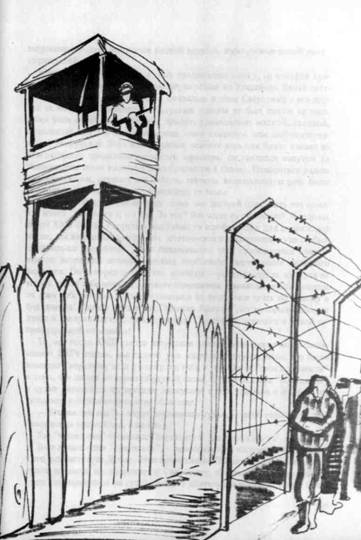Юрий Вудка
МОСКОВЩИНА
Издательство «Мория»
Израиль 1984
Рисунки Виктора Богуславского,
узника Сиона, одного из участников описываемых событий
[1] – Так помечены номера страниц
|
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие [3]
Следствие
1. Безысходность [5]
2. Воды Стикса [7]
3. На том свете [10]
4. Любовь к животным [13]
5. Типы [15]
6. Погружение в трюм [18]
7. Дыхание рая [20]
8. День в камере [23]
9. Смена состава [26]
10. Шантаж [29]
11. Ребята [31]
12. Отдых [33]
13. Конформист [35]
14. Русский Отелло [38]
15. «Спасите прокурора!» [40]
16. Разоблачение [43]
17. Первый этап [46]
Лагеря
18. Приехали! [51]
19. Новый мир [53]
20. Сплошные неожиданности [55]
21. Казнь серостью [60]
22. Империя [62]
23. Чудеса медицины [66]
24. Брахман в БУРе [69]
25. Евреи [75]
26. Украинцы [78]
27. Каторга [81]
28. Душа Ленина [84]
29. Патологии [88]
30. Провокации [92]
31. «Наши» пришли! [95]
32. Разделяй и властвуй [99]
33. Майские жуки [101]
34. Кибуцы в Мордовии [103]
35. «Жидомасонский заговор» [107]
36. Президент Никсон и мы [112]
37. Великий этап [120]
38. Корабль дураков [125]
39. «Стреляйте красных!» [133]
40. Как коммунист коммунисту [141]
41. —54° С. [145]
42. Белый таракан [152]
Владимирская тюрьма
43. Два месяца в одиночке [159]
44. Обычный стиль [162]
45. Камеру затопляет [167]
46. Тройник [172]
47. Напрасная радость [176]
48. Шальные ребята [180]
49. Труба в глотке [185]
50. «Умереть бы!» [190]
51. Яша и людоед [195]
52. Люди из Китая [201]
53. Медицина в тюрьме [209]
54. Психоцид [214]
55. Чистопольский централ 0—0 [219]
56. Божественная болезнь [224]
57. Скифия – Русь – Украина [226]
58. Тюремные истории [233]
59. Бандиты в погонах [239]
60. Опять Урал [242]
61. Прорыв блокады [246]
62. Нелегкий исход [251]

ПРЕДИСЛОВИЕ
…Родившись, я тут же заорал так, что сбежался весь роддом. Я не был больным ребенком, наоборот, скорее напоминал монгольского батыра. Сбежавшиеся в большинстве своем дивились моему уродству, невероятно узким и раскосым щелочкам глаз. Зато тело было крепким. В отличие от прочих младенцев, я почти не спал, а все время орал, оглушительно и беспричинно. Заканчивал свой крик каким-то особым завыванием.
Долго потом, в мальчишескую пору, у меня был ненормально большой пуп, который я тогда накричал. Что было в этом крике – знак или предчувствие?
* * *
О концлагерях Брежнева известно немного. Я был приведен в замешательство наивными вопросами и нескрываемым удивлением тех, кто, казалось бы, должен знать всю подноготную. Бывшие узники о чем-то рассказывают, но эти мозаичные плиточки еще не сложены в [3] единую картину. Кроме того, очевидцу требуется определенное «везение», чтобы уловить все тонкости современных ужасов, которые и не снились примитивным сталинским громилам.
Выражаясь высокопарным марксистским языком, концлагерь – это концентрированное выражение породившей его страны. Без этого не понять по-настоящему, что за сила втиснула танковые орды в сердце Европы. А против непонятого противника нет противоядия.
Вспоминаю занятный разговор в вагоне-ресторане с подвыпившим майором советской армии. Майор разоткровенничался и поведал случайному собеседнику о планах советского командования в отношении Европы, изложенных на политзанятиях для высших офицеров. Планы эти несложны. Скандинавия будет занята в течение двух дней. Финляндию пройдут за считанные часы, в походных, а не в боевых порядках, так как никакого противодействия не предусматривается.
На восьмой день краснозвездные танки выйдут к атлантическому побережью Испании, оставляя далеко позади еще не раздавленные очаги сопротивления.
Случайный этот разговор, которому я тогда не придал особого значения, позднее помог понять суть советских концлагерей и самой системы в целом, направленной на медленный, поэтапный захват мира.[4]
Это книга воспоминаний, написанная сразу же после репатриации, по свежим еще впечатлениям. В ней нет литературного вымысла или художественных добавлений. Это голые факты, мысли и переживания такие, какими они были там.
СЛЕДСТВИЕ
1. БЕЗЫСХОДНОСТЬ
Я родился в семье «прогрессивно настроенного» еврея-варшавянина, попавшего в СССР в 1939 году. Он освоил русский язык и женился на еврейке из маленького украинского городка, которая стала моей матерью. До войны в городе ключом била еврейская жизнь: синагога с прекрасным кантором, самодеятельный еврейский театр. Преобладало еврейское население. Молодежь – огонь. Даже нееврейские юноши и девушки часто предпочитали дружить с веселыми, жизнерадостными еврейскими парнями.
Этого мира я не застал. От него остались рвы, заполненные костями, да полуразрушенное еврейское кладбище на окраине. Возле кладбища стоит дом, в котором обмывали мертвецов. Теперь там продают водку. В городе остались считанные еврейские семьи. Катастрофа и реальная угроза ее завершения в последние годы жизни Сталина надломили народную душу, столько перенесшую. Евреи привыкли бояться и стыдиться своего происхождения. Новое поколение росло в плотном антисемитском кольце. Мы знали только, что наш народ очень талантлив, и что его ненавидят повсюду. Более этого мы ничего не знали. Родители еще кое-как понимали идиш, но прибегали к нему только тогда, когда [5] хотели что-то скрыть от детей. К стопроцентной национальной атрофии добавлялось специфическое воспитание. Тоталитарная Россия вообще страна чудовищной подозрительности. Евреи же, естественно, подозреваются втройне. Их защитная реакция – сверхлояльность. Из детей всеми силами формируют больших «католиков», чем папа. Делается это под аккомпанемент массы болезненных комплексов.
В результате, не только дети, но и муж нередко старается взять фамилию русской жены. В моем городке, где концентрация евреев минимальна, а традиции забыты и заброшены, я не знаю ни одного случая несмешанного брака среди еврейской молодежи. Некоторые открыто говорят, что хотят жениться только на русской, чтобы избавить своих детей от того ада, через который прошли сами. Так русский этноцид доводит до национального самоубийства. Многие русские вступают в брак с евреями, несмотря на антисемитизм, так как евреи более культурны, не пьяницы, хорошо зарабатывают.
Может быть, и мне была уготована такая судьба, но мой отец уж чересчур старался сделать меня католичнее папы. В результате, столкнувшись с жизнью, я никак не мог примирить внушенную мне лживую теорию с гнусной практикой тоталитаризма. Однако в то время господствующая идеология с самого раннего возраста брала в плен безраздельно. Никакой другой духовной пищи не было. Самиздат только зарождался и почти не проникал в провинцию. Приходилось изобретать велосипед самостоятельно. И я изобретал. В конце концов постиг, что в красной России под прикрытием разнузданной демагогии сформировался самый эксплуататорский, самый классовый строй на земле, что нигде в мире правящая элита не обладает такой концентрацией богатства и власти, что народ лишен абсолютно всех прав, так как даже человеческое слово является монополией озверевшего и заскорузлого класса партаппаратчиков, этой касты всесильных и непогрешимых жрецов. Я понял, что термин «империалистические монополии» – абсурден, так как «монополия» по самой этимологии своей должна быть в единственном числе. Истинная, всеобъемлющая и законченная монополия – это московское Политбюро. «Социализм» – это класс рабов в концлагерях, класс гос. крепостных в колхозах, бесправных пролетариев в городах, интеллигенции с замком на устах, и над всем этим – репрессивный аппарат и партаппаратчики, то есть пайщики империалистической сверхмонополии.[6] Параллельно с идеологической эмансипацией шло национальное созревание. Этому блестяще содействовала Шестидневная война, вызвавшая всплеск самосознания умирающего народа. Живые силы еврейской молодежи все явственнее ощущали Израиль своей единственной Родиной. Но как до нее добраться? В то время выезд был почти невозможен. И казалось естественным, что сначала надо добиваться изменения порядка вещей в России, чтобы обрести возможность уехать из нее. Сейчас трудно представить себе ту страшную обстановку, когда мы, порвавшие цепи официальных догм, окруженные ненавистью и безысходностью, ночами напролет спорили о том, можно ли вырваться из Советского Союза на воздушном шаре, а в перерывах со слезами на глазах слушали еврейские песни и последние известия из Израиля. Израиль был для нас раем небесным, мечтой родниковой чистоты, святыней из святынь. Теперь, когда Израиль стал бытом со всеми его недостатками, мы с улыбкой вспоминаем те далекие времена.
Мы, группа студентов, обменивались своими мыслями, добывали крохи Самиздата, записывали, печатали на машинке и размножали фотоспособом свои изыскания. Конечно, за закрытыми дверями, тайно, вручную, кустарно, в каких-то десятках экземпляров.
Этого было достаточно, чтобы нас признали «особо опасными государственными преступниками» и на долгие годы бросили в концентрационные тартарары.
2. ВОДЫ СТИКСА
Летом 1969 года казалось, что появилась небольшая отдушина, шанс на исход. Кое-кого уже отпустили из Риги, из других мест. Мы с женой решили, что переберемся из Рязани, где мы учились, к ее родителям в Черновцы. Там мы должны были срочно оформить брак в советском ЗАГСе и подать документы в ОВИР по вызову от ее родственников. Жена уехала в Черновцы раньше, а я остался оформить документы, так как в России при паспортной системе переселение в другой город – дело непростое.
30 июля мой паспорт был уже выписан, в кармане лежал билет на ближайший поезд, и я с легким сердцем запаковывал свои старенькие чемоданы.
Общежития мне не давали. Приходилось снимать «углы» в частных [7] домах, в невероятной тесноте и скученности. Стоит такой «угол» немало для студенческого бюджета. Моя последняя «квартира» была на зеленой улице недалеко от института. Ее хозяйка – бойкая краснощекая бабка в старомодных круглых очках, умела добывать деньги. Мы с ней, впрочем, ладили. Муж бабки, пожилой однорукий пьяница с русыми усами, «под градусом» гонялся за бабкой с топором, требуя денег на похмелье. Его голубые глазки наливались кровью. Бабка с визгом выбегала на улицу или пряталась в нашей комнатушке. У нас он тоже просил «троячок», но уже без топора. У бабки была девяностолетняя мамаша, прикованная к постели и впавшая в старческий маразм. Бабка жестоко била ее, пронзительно при этом вопя: «Все не подыхаешь и не подыхаешь!» Когда же мамаша выполнила ее желание, бабка устроила ей пышные похороны с отпеванием, поминками и пр. Бабка была богомольной, у нее висели иконы, имелся старинный молитвенник. К ней хаживали сверстницы, сестры по вере. У нас она иногда глубокомысленно спрашивала, кто наш Б-г, не Пилат ли? На наши объяснения степенно кивала головой с гладко зачесанными под пробор поседевшими волосами под косынкой, но ничего не понимала. На следствии она не дала против нас никаких отрицательных показаний.
Мы с братом спали на одной кровати, но бабке этого показалось мало, и она отвела в нашей комнатушке раскладушку еще для одного постояльца. Это был тоже студент, сын русского полковника с Украины. Пил он беспробудно вместе со своими товарищами, такими же пьянствующими хулиганами. Пропивал за несколько дней всю стипендию и немалую родительскую помощь, а потом побирался у нас на черный хлеб. К тому же и он, и его друзья повадились водить в нашу комнату шлюх, так как на улице было холодно. Из-за бесконечных оргий страшно было возвращаться домой.
– Я уже два месяца не был в бане – задумчиво говорил один из собутыльников.
– Подумаешь! А я так вообще забыл, что это такое – хвалился другой.
Вонь от нашего соседа исходила нестерпимая. Увидев его загнивающую на корню ногу, мы едва не теряли сознание. Это не мешало ему наряжаться в белоснежную рубашку, обильно спрыскивая ее одеколоном. Когда он, наконец, вылетел из института и загремел в армию, напоследок залив всю нашу постель вином, мы облегченно вздохнули и предложили бабке повышенную квартплату с условием не пускать к нам третьего. Наш сосед не был исключением.[8] В институте, к примеру, стенки кабинок туалета были, кроме мата, украшены мазками кала: многие студенты вместо бумаги пользовались собственными пальцами. В свете этого можно понять, с каким чувством я, сидя на запакованном чемодане, прощался со своим «уютом», в последний раз обозревая покрытые облезлой зеленой краской деревянные стены и потолок.
Раздался стук в дверь.
– Мы из КГБ – представились вошедшие откормленные мужчины в шляпах. – Вот ордер на обыск.
Меня почему-то охватило абсолютное спокойствие, спокойствие мертвеца.
Пока они изымали машинописные статьи Жаботинского, какой-то роман Булгакова и еще что-то, я незаметно уничтожил бумажку с адресами и телефонами. Советские книжки на идиш, по которым я пытался учиться языку, и даже «Элеф милим» (часть 1) они не тронули, только перелистали. Затем чекистская «Волга» повезла меня в мрачное здание КГБ. Полковник Маркелов с темной одутловатой физиономией сидел в просторном кабинете. Он, хозяин этого офиса, старался произвести на меня грозное впечатление. Потребовал, чтобы я рассказал все о себе, в том числе о своих связях с «сионистским интернационалом» (так он выразился). Я ответил, что не обязан с ним разговаривать. «Неужели вы не понимаете, где вы находитесь?» – внушительно вопрошал Маркелов, пристально глядя на меня. Я отвечал, что в цивилизованном мире такие органы занимаются ловлей шпионов, и только. «А вы не шпион?» – настороженно промолвил полковник, подавшись вперед всем телом.
Я невесело улыбнулся: «Пока нет». – «Ну что ж, вам придется убедиться, что мы занимаемся не только этими делами» – и Маркелов кивнул подчиненным.
Меня увели в другой кабинет, поменьше. Там сидел начальник следственного отдела майор Сконников (все они были в гражданском). Сконников был похож на Кащея, циничный, со взглядом удава. Он стал вразброс выкладывать мне всякие данные о нашей деятельности, стараясь создать впечатление, будто им все уже известно. Мне стало ясно, что известно им очень многое, но не все; что во многом он путается, сбивается. В соответствии с существовавшей между нами договоренностью я отказался «помогать» майору. Он сунул мне лист бумаги и потребовал, чтобы я написал на нем список всех своих знакомых.
– Нет, – твердо ответил я.[9]
Сконников положил передо мной ордер на арест и стал заполнять протокол. «Почему отказываетесь давать показания?» – кричал он, стуча кулаком по столу. «Отказываюсь объяснять причину».
– Да мы вас в сумасшедший дом упрячем!.. на экспертизу… – добавил он, зловеще усмехнувшись.
Это не помогло, и та же «Волга» повезла меня в старую городскую тюрьму, выстроенную в екатерининском стиле.
Меня втолкнули в бокс и захлопнули дверь. Это было узкое вытянутое помещение со скамейкой, парашей и лампочкой. Негде было повернуться. В дверях – застекленный глазок, наружная крышка которого иногда поворачивается… Приятного мало. Стены беспорядочно заляпаны цементом. Обыск и допрос продолжались полдня. Я был очень голоден, устал, ломило спину. Думал, что это и есть моя камера. Сел на край скамейки, лег на нее спиной, скрестив руки на груди и упираясь ногами в пол, так как для них места не оставалось. Прошло много времени.
Заскрежетал ключ. Я открыл глаза и встал. Вывели, раздели, тщательно ошмонали, составили протокол, приказали одеться и повели в баню. Баня стояла возле высокого забора, огораживающего тюремный двор. Все было опутано колючей проволокой и сигнализацией. Вышка, вспаханная полоса.
В бане остригли наголо. Только когда волосы падали ко мне на колени, я по-настоящему осознал, что старая жизнь кончена.
Тюремные лестницы, коридоры, надзиратели со скрежещущими и звякающими ключами.
Камера, отталкивающие лица уголовников. Кто-то предлагает мне глинистый хлеб. Есть кровать с грязным матрасом и одеялом. Можно отдохнуть.
3. НА ТОМ СВЕТЕ
Машина следствия раскручивалась медленно и неумолимо. У них было уже много показаний, продолжались аресты, двое говорили и подписывали все, что знали. Следствие продолжалось и в самой камере, хотя я, по неопытности, лишь смутно об этом догадывался.
Шло следствие над мыслью, над «деянием» (то есть изложением мысли), над интимной жизнью. Первое необходимо для выяснения степени «социальной опасности», второе – обнаруживает уровень «вины», [10] третье – копание в грязном белье в поисках чего-нибудь «компрометирующего».
Одновременно искали удобный предлог для пожизненного заключения в сумасшедший дом.
В советских тюрьмах норма жилплощади – два с половиной квадратных метра на человека (как на кладбище), но и это не всегда соблюдается. Питание отвратительное, первое время есть его невозможно. Шаткие, скрипучие кровати стоят друг на друге в два яруса. Окошко забрано изнутри решеткой, а снаружи – густые железные жалюзи, так что увидеть из него невозможно ничего, кроме узких полосок неба. Весь день горит лампа накаливания. На ночь ее выключают, но зажигают другую, более слабую. Юмористы называют эти круглосуточные подслеповатые светильники «лампочкой Ильича». На прогулку выводят раз в день, продолжительность – один час. Прогулочные дворики представляют собой сплошной ряд каменных коробок с решеткой вместо крыши. Посреди дворика – скамейка. Он закрывается на ключ, в железной двери – глазок, его площадь зачастую еще меньше камеры. Зато в него проникает воздух и солнце, а по дороге можно незаметно прикоснуться к траве или увидеть деревья за забором. Сам дворик заасфальтирован, в нем нет ни травинки.
В советской тюрьме человек, как правило, лишен уединения. Одиночное заключение – тоже пытка, но и постоянная тесная скученность, тем более с растленными уголовниками, давит на психику. Кроме того, в любой момент может приоткрыться глазок, и недремлющее око уставится на тебя сквозь стекло. Зачастую в камере два глазка: один в двери, другой в углу, где стоит параша, почти на уровне паха. Пол узников и надзирателей не учитывается: баба может дежурить у мужских камер и туалетов, а мужик – у женских. Причем, выводя людей утром и вечером в туалет для опорожнения параши и желудков надзиратель обязан наблюдать в глазок, чем они там занимаются. Антисанитария невероятная. Помыться можно только в грязном туалете, и тут же надо нести в камеру опорожненную вонючую парашу. Надзиратель выводит в туалет не тогда, когда возникают позывы у кого-то из зеков, а всех скопом и когда заблагорассудится. Опорожнить желудок в парашу – последнее дело, так как воздух в камере и без того спертый, гнусный. Параша, как правило, используется для мочи. Она и оборудована только для этого. Надо быть циркачом, чтобы использовать ее сверх данного назначения. А пища отвратительная, вызывает поносы.[11]
Зеки бьют в дверь, требуют врача, так как надзиратель выводить в туалет в «неурочное» время отказывается. Врач обычно не является, а зека наказывают «за буйство». Возникает конфликт между зеком, не могущим удержаться, и его соседями, не желающими целый день дышать нестерпимой вонью. Каждая физиологическая потребность человека искусственно превращается в орудие издевательства над ним.
Еще одна пытка – радио. В камере нет выключателя, и радио орет от подъема до отбоя. Уголовникам это даже нравится: помогает забыться, выбивает из головы мучительные мысли. Но для интеллекта такое круглосуточное нагнетание идиотизма невыносимо. Плюс уголовное окружение, нередко сотрудничающее с властями… Чекистам можно в такой обстановке давить на зеков: быстрее, быстрее, кончайте следствие, уезжайте в лагерь! Все равно мы все узнаем или уже знаем! Пойдем вам навстречу, дадим ничтожный срок, сразу выпустим, амнистируем – только говорите, говорите побольше и побыстрее – для вашего же блага! Неужели вам еще не надоела эта тюрьма? Все равно ведь такой-то и такой все рассказывают – вот их протоколы, полюбуйтесь – и мы их поэтому вообще не арестовывали! Говорите, – и мы вас всех выпустим! Это ведь только профилактика – чтобы вы не занимались глупостями! Сами же будете нас потом благодарить! Подумайте о своей матери, ребенке, возлюбленной! Вы, вы сами делаете их несчастными! Вы свою больную мать доведете до могилы! Говорите, скорее говорите, и идите к ней! А вокруг только подслеповатый полумрак, мертвые стены, цемент и железо, горький хлеб по соседству со зловонной парашей, час за часом, месяц за месяцем… А где-то ослепительное летнее солнце заливает пляжи, кружатся роскошные листья осени, мерцают в лунном сиянии снежные просторы, пробиваются весенние травы… Кажется, повалиться в траву, вдохнуть ее запах – самое большое счастье на земле. «Помогающие следствию» уголовники тоже давят по-своему: одни, пользуясь полнейшей неосведомленностью слушателя, убеждают его, что только от него одного зависит «гуманный» подход и к нему, и к остальным: другие угрожают, шантажируют, иногда бьют «предателя», посягнувшего на святость империи.
В уголовной тюрьме открывается жуткий, ирреальный мир, дотоле сокрытый от глаз, как преисподняя. Выясняется, что вся страна покрыта густой сетью концлагерей – на север и восток все гуще и страшнее… Вдруг узнаешь, что едва ли не в каждой семье кто-то сидит или сидел. Осознаешь, в какие черные бездны пала нравственность народа.[12] Оборотная сторона медали – свирепые, драконовские законы.
Да, «законы»… В красной России человеческие слова приобрели обратное значение.
4. ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ
(Добавление к Брему)
Иногда мент неплотно прикрывал глазок, и тогда я приникал к стеклышку, так как рядом в коридоре было окно, не заглушённое тяжелым железным щитом. В свою щелку я видел с высоты второго этажа склоны железнодорожных насыпей за забором, иногда – крыши вагонов проезжающего между ними товарного поезда. Ветерок шевелил густую темно-зеленую крону кудрявого дерева, и ветви потягивались, нежились в его объятиях, роились, как муравьи. Боже, как тянуло меня туда! Разве может человек в нормальных условиях испытывать такое обостренно-болезненное чувство?
Мне кажется, нечто подобное происходит в России и с жизнью духа.
Здесь, в цивилизованном мире, где духовная пища на любой вкус имеется в изобилии, бери – не хочу, люди вряд ли поймут то обостренное восприятие, ту болезненную тягу, тот блеск в глазах и тот алкогольный запой, с которым там, как наркоманы, приникают к каждой капле живительной влаги… Не в этом ли секрет огромной энергии, которую извергает задавленная режимами Россия? Не является ли красная лава результатом извращенного, но неудержимого извержения задавленного духа? Какие еще мировые ураганы породит эта запрессованная страна?
И точно так же из-под пресса официально-бесполого ханжества прорывается сексуальная энергия чудовищной мощи и извращенности.
Может быть, эти два явления как-то взаимосвязаны. Во всяком случае, за неполный год пребывания среди уголовников мне довелось слышать (иногда не только слышать) о таких невероятных извращениях, что невинно-распущенный Запад при всем старании не додумался бы до них.
Обычное дело: группа подростков изнасиловала шестидесятилетнюю старуху.
Или наоборот: дед изнасиловал собственную шестилетнюю внучку, а в объяснение своего поступка заявил: «Как это так: всю жизнь прожить – и шестилетней не попробовать?»[13]
Или такие изобретения: любящий папаша предлагает своему ничего не разумеющему младенцу вместо соски кое-что другое…
В уголовных лагерях вместо женщины используют запряженную лошадь. Скотина привыкает и уже сама останавливается в уединенном месте, ждет.
Идет по селу подвыпивший агроном с бригадиром и спор заводит: «Огуляю я эту козу или не огуляю?» И вывгрывает пари. Хозяйка козы, не знающая, что теперь делать с ней, доносит. Агронома сажают.
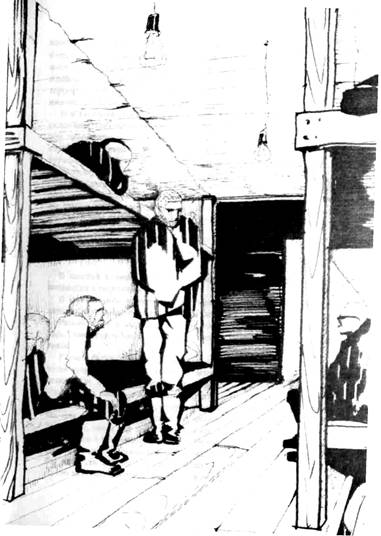
Некоторые уголовники после отсидки специально устраиваются пастухами и заводят со своими козами целые романы. Они могут часами описывать взаимные заигрывания и нежности с развращенными животными. Но в особом почете – свинья, так как она, по словам уголовников, «горячая» (то есть у нее высокая температура тела). С горящими глазами рассказывает он, как подбирается к ней в хлеву, как чешет ей брюхо, как она хрюкает, как он хрюкает и так далее. По его словам, никакая женщина не доставляет такого удовольствия, как это родственное животное. Но и скотиной дело не ограничивается. Вожделение распространяется даже на птиц. Куры, по словам уголовников, после этого умирают, а гуски выживают.
Один рассказывал о том, как рыбаки насиловали… пойманного сома! Его холодное извивающееся тело как-то по-особому раздражало их похоть.
Но кто бы мог подумать, что вместо женщины можно использовать… муху! Да, да, обыкновенную муху! Тут, правда, требуется инженерный ум. Влюбленный забирается в ванну с водой, обрывает у своей возлюбленной крылышки, усаживает ее на торчащий из воды кончик, и несчастное насекомое ползает по этому островку, щекоча своего владыку.
В лагерях нет ванны, зато бывают кошки. И вот гении извращенности догадались то самое место, по которому заставляют ползать муху, обмазывать валерьянкой. После этого кошку пускают под одеяло и блаженствуют. Есть и другой метод: «кот в сапоге» (кошку, загнанную в сапог, держат при этом за задние ноги).
О том, как уголовники используют друг друга, не стоит и говорить: это достаточно банально.
Рассказывают, что когда в «исправительную» колонию для малолетних прибывает новичок, его уже ждут у входа восемнадцатилетние лбы, жаждущие по-всякому использовать его тело.[14] Их называют «законниками, потому что они, в дополнение к жестоким советским законам, придумывают массу своих, не менее скрупулезно нелепых, и жестоко бьют не только ослушников, но и просто неосведомленных. Администрация их поддерживает, они ведь наводят «порядок» в зоне, терроризируют ее неуемных обитателей. «Законники» считаются официальным «активом» зоны.
И в такой-то стране людей сажают в раздельнополые лагеря за «изнасилование собственной жены» (жене достаточно заявить), за нормальное совокупление с собственной женой в неклассической позе (по доносу ханжествующей тещи), за сожительство с женщиной, даже проституткой, которой через несколько дней исполнится восемнадцать лет (еще ведь не исполнилось, а значит – растление малолетней).
И невоздержанные обыватели, озверевшие от лагерного монашества, доходят до последних глубин падения. В лагерях особого режима менты при проверке иногда сбиваются со счета и, обнаружив спаренных, как ни в чем не бывало говорят: ах! так вас двое! Ну, значит все в порядке!
5.ТИПЫ
В каждой камере есть «центральная фигура», обычно тайно сотрудничающая с тюремщиками.
В моей первой камере это был бывший «вор в законе», профессиональный преступник по фамилии Потапов.
Разместился я над ним, ярусом выше. Часто моя кровать сотрясалась: там, внизу, мой сосед откровенно занимался самоудовлетворением.
У него было очень потемневшее, вытянутое лицо с явственной печатью порока. Глубоко запавшие черные глаза вечно горели мрачным огнем. Он был неутомим в бузотерстве и в отплясывании чечетки. Любил петь блатные песенки, знал их уйму. Рассказывать всякие истории мог целыми днями, попутно незаметно выспрашивая то, что нужно, или навязывая определенную концепцию. Я с такой-то женщиной делал так, так и вот эдак. А ты так пробовал? Почему?! И он уставлялся на меня с недоуменным видом. Потом рассказывал, каким извращениям предаются женщины в лагерях, как он их ненавидит, как хотел бы работать женским палачом, вешать их на дыбы, бить, пытать и попутно вступать с ними в простую и извращенную связь.[15]
В России, кстати, попадается такой тип насильника, который, насилуя, одновременно режет жертву ножом, чтобы синхронизировать свой оргазм с ее агонией. В мое отсутствие он, по описанию сокамерников, посреди камеры мастурбировал в сторону двери, заслышав за ней женские голоса. При мне почему-то стеснялся.
– Как ты думаешь, сколько мне лет, – спрашивал Потапов, напряженно заглядывая мне в глаза и натянуто улыбаясь.
Я понимал, что для него это очень важный вопрос, и потому отвечал – лет сорок (выглядел он на все пятьдесят, истасканный, истатуированный, изрезанный). Он облегченно расслаблялся, хлопал меня по плечу:
– Молодец, Дубчек, угадал – сорок один! Значит я сохранился еще! Уголовники любят давать клички. Меня, политического, они поспешили окрестить известным в то время именем Дубчека.
С легкой руки Потапова все уголовники в камере целыми днями состязались в том, кто громче испустит газы. Однажды, когда они думали, что я сплю, молодой костлявый, белобрысый хулиган обратился к Потапову, своему камерному учителю по части мастурбации:
– Что за человек Дубчек! За все время ни разу не…!
Оказалось, его крайне удивило мое неучастие в их многозвучном соревновании. Удивляло их и отсутствие мата в моей речи, и множество других мелочей, создающих незримую, но всеми признаваемую границу.
Однажды в камеру привели «малолетку» – наивного пухленького подростка. Это было ЧП: «малолеток» обязаны держать отдельно от взрослых. Но тут все было продумано. Потапов с ходу стал расспрашивать ребенка, уговаривать его написать «явку с повинной» (тогда все, мол, простят), действовал так убедительно и настойчиво, что «малолетка», как под гипнозом, описал на бумаге абсолютно все свои похождения. Потапов подбадривал его, говорил, что вот бы ему такого помощника, они бы вместе горы своротили, весь мир обворовали; выяснял адреса, обещал встретиться на свободе – скоро – и тогда…
– Ты бери на себя и те преступления, что не совершал, но которые у них не раскрыты; они отблагодарят, срок поменьше дадут, – бойко орал провокатор. Как только бумага попала на стол следователя, «ошибку» обнаружили и «малолетку» вернули к его сверстникам. Но и короткого времени было достаточно, чтобы заглянуть в мир детской преступности. Это обычные искатели приключений, дикие, невоспитанные. Они не очень-то знают цену деньгам, гоняются больше за острыми ощущениями. Отсюда, в первую очередь, – повальное хулиганство.[16]
Затем – пьянство, разврат и воровство. Наверное, больше всего ему нравилось замирание сердца, когда он забирался на чужой балкон и утаскивал какую-нибудь вещь из-под носа у ворочающихся во сне хозяев… Любой стук, любое неверное движение в темной незнакомой комнате может погубить… У него были десятки таких экспедиций. Крали и на вокзале, сбывали по дешевке, в общем – работали «из любви к искусству».
Как-то ночью забрались в столовку и вместо поисков денег стали баловаться, швыряться друг в друга тортами.
Я знал эту среду еще по школе. В России очень немногие подростки совершенно отстраняются от всего преступного, В подавляющем большинстве нет четкой границы между преступником и шалуном. Им ничего не стоит вымогать у прохожих деньги на выпивку и сигареты, жестоко избивать не давших. Старшие, молодежь, мало от них отличаются, и вместо того, чтобы одернуть, втягивают в свои преступные дела. Лишь часть преступлений известна милиции, остальные покрыты тьмой, так как закон государства никогда не был там законом сердца, и преступное поведение – норма. Кража у казны вообще считается «возвращением своего», но зато и строже карается. Уважения к человеческой личности нет и в помине. Откуда? В этих условиях попадание подростка или юноши в тюрьму – дело случая, и только. Пьют, в конце концов, почти все. А спьяну да за компанию чего не совершишь?
Вот что рассказывал мне тринадцатилетний одноклассник о своих приключениях (все они остались без последствий для участников). Некоторые старые проститутки любят совращать тринадцатилетних мальчиков, обычно – скопом. Переполненные советские квартиры возбуждают в детях ранний мучительный интерес к интимной жизни взрослых. Бесквартирная молодежь превращает общежития и парки в гнезда разврата. Мальчишки бегают по ночам подсматривать из-за кустов. Потом – коллективные побоища между разными районами города, искони враждующими. Не обходится без жертв. Танцплощадки с поножовщиной. Зверские истязания кошек и собак. Наконец, взрослый парень берет его «на дело». Девчонка-десятиклассница «не дает», да еще издевается. Они подстерегают ее. На шумном многолюдном пляже девушка заплывает на середину реки. Они догоняют ее. В ослепительных солнечных бликах никто толком не разглядит, что происходит. Гам стоит такой, что и собственного голоса не услышишь. К тому же простой советский снежный человек не станет никого спасать от преступников:[17] сделает вид, что не заметил, поспешит исчезнуть. Парень держит девушку за руки, если сопротивляется – топит ее в воде, а мальчишка, ныряя и захлебываясь, развязывает тесемки купальника и стаскивает его. Наконец, купальник на берегу, подруг с ней нет, девушка из реки умоляет парня вернуть купальник. Парень требует встречной уступки, она долго не соглашается, но холодная вода в конце концов берет свое. В ответ на твердое обещание парень возвращает купальник и уводит девушку в лесопосадку. Мальчишка, помощник, бежит следом и награждается разрешением потихоньку любоваться зрелищем.
– Но она же могла обмануть, не пойти с ним.
– Ты что, зарежет! Девки знаешь как боятся?!
Телевизоров в то время было мало. Весь двор собирался смотреть в одну комнату. Как-то получилось, что вместе с несколькими мальчишками смотрела одна девочка. Старший (пятнадцатилетний) подросток подговорил остальных, и все вместе набросились на девчонку и стали ее «лапать». Видимо, впечатление оказалось неизгладимым, и вскоре отроковица дала понять старшему, что для него на все согласна. Тот поведал остальным, чтобы полакомиться всем вместе. От восторга дети повалили забор. Такое обилие юных жеребчиков оказалось тягостным для девочки скорее физически, чем морально.
Потом они достали конский возбудитель и проверили его действие на этом же моем однокласснике. Видимо, доза оказалась лошадиной, потому что ничего не соображающий мальчик стал ловить на улице за ноги бабу с коромыслом. Та отбивалась ведрами, пока друзья-экспериментаторы не связали его и не надели на голову ведро. И на этот раз все обошлось. Не знаю, как сложилась его дальнейшая жизнь, но уже тогда у него были планы поступить в семинарию (огромная стипендия), а потом всю жизнь зарабатывать на «разоблачениях поповщины».
6. ПОГРУЖЕНИЕ В ТРЮМ
Вслед за Сконниковым мною занялся майор Проданов из Саратовского КГБ. Это был жирный обрюзгший детина в летах с белесыми глазками и грушевидной физиономией. Главная задача чекистов – нащупать у человека больное место, чтобы, наступая на самую чувствительную мозоль, выдавливать все, что необходимо.[18]
У меня арестовали брата, который был совсем мальчишкой и почти ни в чем не был замешан. Добиться его освобождения казалось реальным. Проданов твердо обещал мне это в течение месяца, если я буду давать показания. Конечно, это было дежурной чекистской ложью. Позже я убедился, что чекисты не могут не лгать даже тогда, когда ложь ничего им не может дать, даже если заведомо ясно, что человек знает правду. Не громоздить горы лжи они просто не могут. Проданов, как оказалось, вскоре должен был вернуться в свой Саратов, а там хоть трава не расти. Главное – урвать сегодня. Я издалека незаметно подсматривал в его бумаги и протоколы, разложенные на столе, стараясь с видом полной искренности повторять лишь то, что уже было им хорошо известно. Вряд ли моя уловка не была разгадана. Проданов зато компенсировал себя тем, что в формулировках изо всех сил выпячивал свою решающую роль в извлечении из меня показаний, фабрикуя козыри для карьеры. После его отъезда и недоумения коллег по поводу продановских обещаний, их дела со мной застопорились. К тому же, они начали из других источников раскапывать связи с известными людьми, а я в этих вопросах либо молчал, либо говорил, что это к делу не относится.
Сидел я тогда уже в башне, в маленькой сводчатой камере с круглым окошком, к дверям которой надо взбираться по железной лестнице. Камера была крохотной, но радиорупор, защищенный железом и вделанный в стену, был очень большим и невыносимо пронзительным. Раскалывалась голова. Гулкое эхо от сводов превращало камеру в сплошной резонатор. Даже уголовники не выдерживали и вместе со мной железными крючьями от кровати пытались сломать это пыточное орудие. Мы возликовали, когда кому-то это удалось.
В дверях камеры всегда есть наглухо запираемая форточка – кормушка. Ее открывают, когда дают еду, когда приказывают кому-нибудь собираться с вещами или без вещей. И теперь только открываемая кормушка, да посещение камеры утром и вечером дежурным старшиной нарушали наш блаженный покой, сладостную тишину.
Но недолго я наслаждался. Мой новый следователь, старший лейтенант Четин (к концу следствия он стал уже капитаном), черноволосый, белокожий коми-пермяк из Кировского КГБ, начал проявлять нервозность. У него были смешные уши, с вросшими мочками и маленькой, но очень толстой верхней частью. Он очень смешно хохотал, сморщивая носик, как рыльце, и становясь удивительно похожим на поросенка.[19]
Был он невысокий, полненький и по характеру лучше других. Но тут у него ничего не получалось в самом кульминационном пункте следствия, когда была надежда заарканить таких зубров оппозиции, что голова шла кругом. На него, несомненно, давили сверху, и Четин сказал многозначительным тоном, что мне будет предоставлена возможность подумать…
В тот же день за «поломку радио» опер отправил меня в карцер, хотя никаких официальных данных о моей «вине» не было. Так я покинул камеру, в которой был вместе с тремя уголовниками. Один – убийца. Кто-то подкрадывался ночью к его сараю, и Иван застрелил его из ружья. Как выяснилось, в сарае не было ничего, кроме цемента, который и утащить-то нелегко. Иван даже в тюрьме оставался очень толстым, с большим животом. Был он мордастый, круглоголовый, заросший темной щетиной. Спал, как сурок, громко храпел. Просыпаясь, жрал сало и рассуждал о том, сколько он получит и как бы оттуда поскорее выйти на поселение. Грубый, толстокожий, но спокойный. Мне не верится, что мысль об убийстве хоть раз взяла его за сердце. Ивана волновало только наказание.
Второй был какой-то местной шишечкой, выдавал шоферские права парням – за взятку или выпивку, девкам – за постель. Был он воплощенной серостью: серая кожа, серые глаза, серые волосы, большая, расширяющаяся от плеч к животу серая фигура, серая душа. Любил сплевывать под кровать. Стучал. Рассказывал, как он с другом, развратничая, подцепил паразитов, обитающих в интимных местах.
Третий – ассимилированный татарин, с которым было приятнее, чем с другими. Он попал случайно, по пьянке, отделался бы пятнадцатью сутками, но кто-то из ментов вывел его из себя, и он в кабинете угрожающе взял в руки табуретку. Это было уже совсем серьезное преступление и его арестовали по-настоящему.
Вот, с кем я расстался, чтобы никогда уже их не встретить.
7. ДЫХАНИЕ РАЯ
Перед карцером раздевают догола, отбирают одежду и обувь, оставляют только трусы и майку. В качестве верхней одежды выдают легкую хлопчатобумажную робу, не первой свежести, обычно без пуговиц, с дырами. Шапку тоже отбирают. На ноги дают специальные карцерные [20] шлепанцы. Уходя, оставляешь их для преемника. При этом никто не интересуется, есть ли у тебя грибок.
Вот и карцер – маленький бетонный гроб. Стены заляпаны беспорядочными цементными брызгами («шубой»), впечатление ужасное; в неровностях скапливается многолетняя сыроватая пыль. Помещение подвальное, окошко маленькое, очень высоко, загорожено многочисленными густыми решетками; стекла матовые. Полумрак. Двери обиты железом, рассверленным заусенцами внутрь камеры (чтобы не мог стучать – руки изранятся в кровь).
Над дверью – зарешеченная сквозная ниша, в ней – слабая лампочка накаливания, бросающая оранжевый, переплетенный тенью решетки отсвет на потолок. В стену вделан крохотный «стульчик», на нем едва уместится одна детская ягодица. Это, чтобы не засиживались. Столик чуть больше, холодный, каменный, чтобы не использовали не по назначению. Пол из ледяного бетона. Ни лечь, ни сесть. Грязь, никакого умывальника. Парашу обнаруживаешь по запаху, прежде чем умудришься разглядеть ее в сгущающихся книзу вечных сумерках. Затхлый, спертый воздух, сырость, холод. Главное – холод. От него негде и нечем укрыться. Затем – отсутствие какого бы то ни было дела. Абсолютный информационный вакуум. Ни книг, ни собеседников. Горячую жидкую похлебку дают через день. В «летные» дни остается только 450 граммов сырого, тяжелого черного хлеба и вода. На ночь дают «вертолет» – деревянный, грубо сколоченный топчан, который кладется прямо на холодный пол (внизу вообще холоднее, ноги особенно мерзнут). В десять вечера топчан выдают, в шесть утра забирают. Калорийность ужасной пищи ниже уровня основного обмена, то есть той энергии, которая тратится организмом в условиях самого комфортабельного, абсолютного покоя.
Человек умудряется ко всему приспособиться, привыкнуть, но первый раз этот пыточный комплекс невыносим. До тюрьмы я привык к очень напряженному и насыщенному жизненному ритму. И вдруг – полнейшая пустота, бесконечная, мучительная.
И особенно грызла мысль о том, что это ведь только начало, что теперь, скорее всего, этот кошмар будет подминать меня постоянно, до самой смерти. Зачем же оттягивать ее?
На холодной батарее я обнаружил ощупью непонятно откуда взявшийся кусок старого сала, шокировавшего меня нестерпимой даже здесь вонью. Случайность?[21] Под батареей в крохотном стенном углублении, полном праха, завалялась ручка алюминиевой ложки. Металл, – может пригодиться… Пожалуй, меня спасло необычайное событие, самое яркое и таинственное в моей жизни. Случилось это, когда я, обессиленный многочасовым зябким курсированием из угла в угол каменного гроба, прикорнул у стола в перекрученной, неудобной позе. Не знаю, спал я или нет. Не знаю, сколько прошло времени (часы отбирают еще у входа в тюрьму).
Когда поднял голову, матовое окошечко было окрашено ультрамариновым цветом вечера. Еще явственнее оттенился зарешеченный отсвет лампочки на потолке. Клеточки тени были трапециевидные: узкие внизу и все более широкие вверху. Все оставалось на месте, и в то же время преобразилось непередаваемо. Карцер стал как бы сквозным; весь мир и меня самого пронизывало сияние неземного блаженства. Пыточный гроб всеми фибрами своими трепетал от такого нечеловеческого счастья, что я, переполненный ликованием, бросился на пол с горячей молитвой, мешая русские и еврейские слова.
Это была молитва благодарности. Я ощущал все необычайно явственно. И невыразимо четко осознавал, что никогда в своей земной жизни не испытывал и наверняка не испытаю ничего даже отдаленно похожего на это чистое, святое, невозможное блаженство. Это было дыхание вечности, в котором бесследно растворялось все злое, наносное, второстепенное. Это был не тот внутренний огонь, который подобен жестокому пламени в черной пещере, а тихий, неугасимый светильник. Это состояние уходило медленно, постепенно, слабея и замирая день за днем. Оставляло неизбывную память. Остывало неспешно, как море. Никогда не забуду, с какой улыбкой величайшей радости засыпал я на голых досках. Ни холода, ни боли, ни зла, ни смерти для меня не существовало. Мне не только ничего больше не было нужно, но наоборот, я не знал, на кого и как излить переполняющее меня блаженство.
Лишь через несколько дней, когда теплился только его слабый остаток, я вспомнил о голоде. И какой вкусной казалась мне тогда жидкая похлебка со «шрапнелью»! До сих пор помню, как загорались во время еды мои глаза (я это чувствовал физически), и как переливалась каждая клеточка тела. Привычного человека не удивишь, не испугаешь, не восхитишь, но впервые – все впечатляет необычайно.
В предпоследний день меня вывели из карцера и, в чем был, повели в кабинет допроса, где сидели Сконников и Четин с протоколами. Видимо, они ожидали увидеть раздавленную и на все согласную жертву.[22]
Вместо этого они увидели веселого, бледного, наголо остриженного зека, который в своей нелепой робе как-то чересчур раскованно заявил им, что говорить ему теперь с ними не о чем, что карцер – средство давления, и что ничего подписывать не собирается. Они, конечно, стали оправдываться. Как положено, врали, что о карцере впервые слышат, что от них это, конечно же, никак не зависит. Я нагло усмехнулся и молчал, пока меня не увели.
8. ДЕНЬ В КАМЕРЕ
В моей новой камере было весело. «Командовал парадом» русый неисчерпаемый и неутомимый хулиган. Пожалуй, с психикой у него было не все в порядке. Он же был камерной «наседкой» (стукачом). Его лукавые, узкие серые глазки постоянно искрились на скуластом чуть загорелом лице. Остальная публика была пассивной.
Звонок подъема. В камере зажигается «дневная» лампочка. Кое-кто просыпается, начинает шевелиться. Хулиган, спящий подо мной, мигом натягивает на белье свой замызганный синий бушлат, с энергичной улыбкой идиота сует грязные ноги в мои туфли (свои сапоги он разбросал в разные стороны) и, сминая задники, бежит к трубе отопления, идущей от батареи вниз. В руках у него алюминиевая кружка с оторванной ручкой. Он стучит по трубе условным стуком, прислоняет кружку донышком к металлу и кричит: «Девки, девки, доброе утро-о-о!» В ответ снизу доносится постукивание. Хулиган переворачивает кружку ободком к трубе, прикладывает ухо к ее донышку. Мы слышим характерный металлический тембр, как будто говорят по плохому телефону. Но прислоненное ухо отчетливо слышит ответное приветствие. Затем начинаются расспросы, как спалось; сальности насчет виденных снов, объяснения в любви и прочая дребедень. Неожиданно беззвучно открывается кормушка. Мент многозначительно смотрит, как хулиган распластался на своем бушлате и, ничего вокруг не замечая, с головой ушел в разговор со своей «любимой» Галкой и том, что бы они делали, окажись вдруг вместе в одной камере. Наконец, насладившись, как кот, видом пойманной мыши, мент выразительно произносит назидательным басом:
– И долго ты будешь х-ей заниматься?
(Межкамерные переговоры запрещены.)
Хулиган вздрагивает от неожиданности, мигом поворачивается, стучит два раза по трубе «расход» и бежит к кормушке.[23]
– Ну, начальничек, старшой, больше не буду, честное слово, последний раз, любовь у меня там, не пиши рапорт, а? – строчит он, как из пулемета.
– Любовь, – довольно усмехается мент. – Может, той любови восемьдесят лет, ты откеля знаешь?
– А и правда, сука, ковырялка, врет, наверно, что ей двадцать семь? Ну, начальничек, я ей покажу! Пусти в туалет, наберу в таз воды пол помыть!
– И то верно, ты сегодня дневальный, – осклабился мент.
Хулиган делает вид, что старательно моет пол, а на самом деле заливает в щели, чтобы у «девок» (в женской камере этажом ниже) начало течь с потолка. Вскоре снизу доносится сначала стук по трубе, потом пронзительный мат через окно. В это время открывается кормушка и приносят еду.
Толстая Машка (тоже зечка) в белом халате разливает в алюминиевые миски по черпаку сизой похлебки. Забирая миску через кормушку, зеки стараются ущипнуть ее. С одним из них она давно уже «крутит любовь». При всяком удобном случае они устно или записочками договариваются о своей грядущей совместной жизни. Когда мент не смотрит, зек умудряется засунуть руку к ней за пазуху. Кроме этого маленького удовольствия, он получает более густую жижу в свою миску.
Шлепая по лужам, разлитым на полу, усаживаемся за стол на грубо сколоченных скамейках.
Завтрак окончен, миски забирают. Внезапно прибегает раньше времени взволнованный корпусной с требованием прекратить заливание нижней камеры.
– Кого мы заливаем? – дерзко удивляется хулиган.
– Ух ты, глаза обмороженные. Я бы тебе сделал…
И корпусный, ворча, уходит. Уголовнички усаживаются играть в домино. Они садят ядовитую русскую махорку. Я забираюсь на свой второй ярус с книжкой Толстого или Достоевского и под неумолчный гул радио, бесовский шум и крики снизу – отключаюсь, погружаюсь в мир литературы.
Посмотреть вниз – едкий дым коромыслом, оглушительный стук костяшек, бессмысленные крики.

– Братва, девок на прогулку забирают! – отрывается кто-то от домино, расслышав стук ключом в дверь нижней камеры.[24] Я не раз удивлялся способности уголовников по малейшим намекам восстанавливать картину происходящего в тюрьме.
Хулиган смешивает домино, достает из-под параши палочку, на которую привязано зеркальце и, с помощью этого перископа, акробатически забравшись на окно, пытается увидеть сквозь жалюзи дорогу в прогулочный дворик. «Девок» проводят под нашим окном, следуют сладострастные стоны и смачные комментарии.
– Все, мирюсь, – кричит хулиган – помогайте «ксиву» (письмо) сочинить!
Гогоча, помогают ему составлять громко обсуждаемое послание, где доминирует все та же банальная тема: вот бы если бы удалось пробить дырку в полу, тогда бы…
– «Коня» надо сделать! – снова кричит неуемный хулиган. («Конь» – это веревочка, на которой спускают записочки или мзду в нижние камеры.) Уголовнички рвут подматрасник (серый х/б. мешок, в котором спят зеки), отдирая от него тонкие полосы. По радио в это время вопят идиотские, примитивные, дикие частушки. Меня всего передергивает, а уголовнички радостно приплясывают, притоптывают.
Женщин возвращают с прогулки, хулиган снова бросается к трубе, уговаривает, обещает махорку, мирится и просит принять «коня».
Это целое искусство. Надо пропустить веревочку с грузом на конце сквозь щель жалюзи и спустить ее так, чтобы могли перехватить из нижнего окна. Некоторые виртуозы умудряются переправлять «коня» даже вбок, наискосок. В нижнем окне веревочку перехватывают каким-нибудь крючком, втаскивают в камеру, отвязывают «почту» и дергают, чтобы тянули обратно. Кто-то стоит у двери, загораживая «глазок». Вдруг с грохотом распахивается кормушка. Акробат кубарем скатывается с окна. Оказывается, это Машка принесла обед, а мент ничего не заметил. Иногда менты перехватывают «коня» снизу, с земли, обрывают и несут добычу в оперчасть.
После обеда раздается оглушительный стук большим ключом в дверь: зовут на прогулку.
Стараюсь побольше смотреть на небо сквозь решетку прогулочной коробки: глаза отдыхают и вообще приятно. С непривычки так явственно чувствуешь объемность небосвода, неизмеримую глубину, отмеченную вехами перистых облаков.
Хулиган начинает приставать ко мне, угрожать, заявляя, что вот я такой-сякой, а он на границе, как зверь, служил, меня защищал.[25]
– От кого? – недоумеваю я.
Он продолжает угрожающе ворчать, но в драку лезть не решается или не имеет полномочий.
После прогулки все заваливаются спать. Солнце еще не померкло в глазах, и камера кажется особенно мрачной и темной.
Вечером хулигана начинает тянуть к «похмелью», но водки нет. Чем ее заменить? Как «поймать кайф»? Наконец, он решается на рискованный эксперимент: отмачивает в кружке с водой махорку и выпивает настой.
Вскоре, позеленев и схватившись за живот, он скрючивается над парашей, блюет. Немного очухавшись, добирается до постели, крутит головой, приговаривая:
«Ну и кайф поймал! Три камеры сразу увидел. Ну и кайф!»
Звенит отбой. За окнами раздаются крики: «Мальчики, спокойной ночи-и-и!»
«Галка, спокойной ночи!»
Смех, сальности, мат.
Из какой-то камеры доносится лай (проигравший в домино должен гавкнуть в окно соответствующее количество раз).
Кто-то в ответ кричит:
«Собака, собака, на тебе х..!»
Звонкий мальчишеский голос просит: «Тюрьма, тюрьма, дай кликуху!»
– А за что сидишь? – спрашивает густой бас.
– За изнасилование! – пищит малолетка.
– «Акушер»!
– Спасибо, тюрьма!
9. СМЕНА СОСТАВА
Попадаются среди уголовников личности даже симпатичные. Один высокий, крепкий брюнет с почти облысевшей головой, был человеком веселым и компанейским. Сидел не впервой: то стащит что-нибудь, то под пьяную лавочку еще чего-нибудь сотворит. Про хулигана он вскоре сказал: «Наседка. Их, волков, сразу видно». Я любил слушать его рассказы. Разговаривал он без лишнего мата, сочным выразительным языком. Интересная тема – встречи с домовым. Первый раз домовой [26] посетил лысого, когда тот был еще мальчишкой. Лежит на печи, и вдруг невидимая волосатая лапа скользнула по его телу. Он закричал, но мать успокоила: это мол, домовой, существо свое, бояться не надо, он тебя «узнает». Другой раз спрашивай, к добру или к худу. И вот во время первого срока в лагере парня утром, при пробуждении, что-то давило, не давало вздохнуть. «К добру или к худу?» – догадался прошептать зек. «К добру!» – ответил домовой и отпустил его. Действительно, вскоре досрочно освободили.
Сидели и просто случайные люди. Шофер на кого-то наехал. Он не уголовник, но любит отпустить крепкое словцо по адресу евреев. Я сообщаю ему о своем происхождении, и он успокаивается. Вообще среди обыкновенных уголовничков я не встречал такого оголтелого антисемитизма, как у некоторых «политических» с их абсолютно оторванными от реальной жизни теориями космических масштабов.
Был мордвин лет тридцати с правильным смугловатым лицом и стальным зубом. У него был элемент национальных настроений. Те мордвины, которые не работают надзирателями, голодают в своих нищих колхозах. Он тоже наголодался, вместе с другими вынужден был выезжать в соседние русские области подрабатывать землекопом. Был он едва грамотный, библиотечные книги рвал бездумно на любые нужды. В колхозе был конюхом, однажды вылетел из конюшни полумертвый от страха, увидев там призрак своего покойного отца. На вопрос библиотекарши, какие книги ему принести, отвечал простодушно: «Про б-ство». Увидев ее смущение и возмущение, оправдывался, что не знает, как иначе сказать. Дружил с хулиганом, приглашал его в Мордовию: там, мол, мордвинки простые, доступные, да еще с «поперечными»… Так он шутил. Хулиган в ответ начинал распространяться насчет подробностей своей интимной жизни с женой, тема вызывала живой интерес, и в камере царило веселье. Но однажды хулиган, слишком уж положившись на покровительство опера, разошелся свыше меры и его, вроде бы, решили отправить в карцер. Надзиратели возненавидели его за бесконечные выходки. Кроме того, он был глуп, как пень, и опер вряд ли оставался доволен его работой. Обычно «наседки» дополняют добытые скудные сведения обильной фантазией (с политическими это особенно легко, так как следствие идет над неуловимой мыслью), но хулиган наверняка выдумывал такое, что даже у чекистов уши вяли.
И камеру расформировали.[27]
Накануне события один из зеков рассказывал вещий сон: снилось ему, что открыл кормушку мент с какой-то бумагой, выкрикнул его фамилию, и тут он проснулся, не зная, что должно было последовать дальше.
Если даже сны такие серые, то каковы же видящие их люди? Трудно описать степень идиотизма их споров, скажем, на политические темы, которые заканчивались следующим компромиссом:
«Ну, спросим у корпусного!» И действительно, на ближайшей проверке задавали очередной глубокомысленный вопрос полуграмотному старшине, а тот отвечал с грубоватым апломбом высшего авторитета, резал правду-матку.
Но так или иначе, сон сбылся. После завтрака людей одного за другим начали «выдергивать» «с вещами» (значит, насовсем).
Предпоследним вызвали меня. Я бросил свои вещи и книги в видавший виды выцветший от хлорки серый подматрасник, примерил его на спину, поставил на пустую кровать, сел в ожидании.
Наконец железный скрежет, дверь распахивается, мент зовет меня кивком головы. Взваливаю свой мешок за плечи, прощаюсь с еще остающимся зеком и выхожу в коридор. Два ряда багрово-оранжевых дверей с «глазками». Куда ведут? Опять лестница. Значит, снова камера в одной из угловых башен. Серая хлопчатобумажная материя подматрасника возле моего лица пахнет хлоркой. Менты говорят, что если стирать без хлорки, заводятся насекомые.
Вслед за ментом поднимаюсь по лестнице со своим мешком, задыхаясь в спертом воздухе.
В круглой, немного конической башенной камере сидит мрачный скуластый уголовник с маленькими зоркими черными глазками под едва заметными выцветшими бровями. Он криво усмехается. Физиономия большая, круглая, волевая, собранная. Напряженный прищур глазок, глубоко посаженных под выпуклым лбом. Камера от пола до уровня головы окрашена тем же зловещим цветом, что и двери. Окошко тоже круглое, низкое. Знакомимся. Его фамилия Малышев, он преступник-универсал, ничем не брезгует.
Открывается дверь и с матрасом в руках входит молодой зек, с которым я уже раньше сидел. Он приятнее других, и я чувствую прилив неожиданной радости. В этом закупоренном мирке каменных консервных банок постепенно складывается своя особая, ни на что не похожая жизнь, свои эмоции, необъяснимые извне. Заносов – такова его [28] фамилия – тоже счастлив. Оказаться рядом с человеком, от которого нечего ждать каких-нибудь пакостей – это там уже целое событие. Можно расслабиться, прийти в себя, психологически отдохнуть от вечной боевой готовности номер один. Заносову лет двадцать. Одно веко, как парализованное, нависает над глазом. У него простая бесхитростная физиономия: курносый нос, тонкая белая кожа, русые волосы. Он выше среднего роста и совсем не похож на сверхплотного квадратного Малышева.
Вот треугольник, одним из углов которого мне суждено теперь быть.
10. ШАНТАЖ
На другой день утром Заносов получает продуктовую передачу. Под следствием их разрешается получать раз в месяц. Ларек, если есть деньги – десять рублей в месяц. Многие зеки всеми забыты, и обычно передачи съедают вместе. Это – праздник, в течение которого зек оказывается не в состоянии прикасаться к гнусной тюремной пище. Отдыхает от нее. Жаль, что праздник короткий.
В передаче есть жареная рыба, и ее простой, такой домашний вкус на минуту выводит сознание из мира решеток и параш. В качестве приправы есть лук и чеснок.
После обеда меня вызывают на допрос. На этот раз ведут не к тюремным кабинетикам, как обычно, а к выходу. Сердце бьется сильнее. Одни за другими раскрываются со скрежетом решетчатые ворота, глухие железные двери, опять решетчатые… После обычного ожидания в боксике, меня принимают знакомые чекистские рожи в штатском, усаживают между собой на заднем сиденьи черной «Волги», и она мягко трогается…
Мой первый «выезд в свет». Смотрю, как открывается тюремный вход.
«Волга» мчится посреди улицы. Жадно ловлю глазами простор, движение, краски осени, человеческие лица. Может, увижу кого из знакомых? Люди ходят по улицам, как ни в чем не бывало…
Машина въезжает во двор КГБ, ворота закрываются. Через черный ход меня вводят в здание. Ожидание в вестибюле, какие-то формальности. Я стою, держа «руки назад», в свитере, на котором нарисовал звезды Давида. Пока они блюдут свою бдительность, прислушиваюсь [29] к говору из-за двери. Чувствуется, что там много народу. Вдруг дверь открывается, из нее выходит студент, которого я немного знал по институту. Бледная втянутая физиономия отслужившего солдата, пара стальных зубов, русый чуб наискось падает на низкий лоб. Он видит меня, делает вид, что его это ни в малейшей мере не интересует, отворачивается и возвращается в комнату, из которой доносится смутный гул многих голосов… Вот ты, оказывается, что за птица! И сколько же вас еще таких!
Наконец ведут наверх по каменной лестнице, укрытой ковром.
Опять просторный кабинет Маркелова. Он сидит под портретом Ленина. На его столе – бюстик Дзержинского. Сконников, Четин и прочая братия рассаживается в почтительном отдалении.
Мне указывают сесть у боковой стены кабинета.
Маркелов в ударе, он вещает мощно и бесперебойно. Темы калейдоскопически сменяют друг друга, мысли скачут, как резвые блохи. Распалившись, он начинает забываться и то и дело выпаливает сокровенное.
У меня, как назло, разболелся живот, а ораторскому извержению конца-края не видно. Сижу, страдаю.
– Предатель Павел (чешский министр в 1968 году) хотел опубликовать архивы чехословацкого КГБ – гремит Маркелов, – но наши ребята встали стеной, не дали врагу пройти! Грудью заслонили дорогу! – размахивает он кулаком.
«Нацисты проклятые!» – думаю я, наблюдая за их рожами.
– Вы думаете, нам делать нечего, ни за что большие деньги получаем? Неправда! Это теперь нас немного разгрузили, а вот кто работал с нами до пятьдесят второго года, те знают, как мы работали! Ночи напролет просиживали! И не за такую уж большую плату! Правда, товарищ Сконников?
– Правда, правда – истово кивает тощий Сконников, и глаза его загораются хищным блеском.
Четин, не работавший до пятьдесят второго года, скромно потупился.
– Вы думаете, нас так просто взять! – гипнотизирует он не то слушателей, не то самого себя. – А известно ли вам, что стоит мне нажать кнопку на этом столе, как тут стеной встанут автоматчики, надежные ребята! Как те, которые преградили дорогу Павелу! Они защитят родное КГБ от кого угодно, и вас, да, да, вас тоже защитят, потому что вы здесь находитесь! Я долго говорю с вами, но вы молчите! Вы молчите, а дело пора закрывать! Как мы его закроем – зависит от нас. Все в наших [30] руках! Понимаете? Мы можем закрыть дело по 70 статье – много не дадим – там максимум семь лет, но столько никто не получит. А можем перевести на 64 статью – измена Родине – а это от десяти лет до расстрела! До расс-тре-ла – понимаете? И все ваши свидетели пойдут тогда в обвиняемые! А срок – от десяти! Все в наших руках!
Почему вы молчите?
И Маркелов кратко, сжато, по-деловому изложил состояние следствия. Откровенно, без утайки, как еще ни один из следователей. Он ясно давал понять, что не требует никаких новых показаний – только подтверждения того, что им уже хорошо известно от других. Без этого нельзя полноценно закрыть дело, а тогда, как я понял, прощай наградные, новые чины и прочие продвижения.
– Но вы молчите. Почему вы молчите?!
Дело было серьезное. Я не мог больше высидеть там. Сказал только:
– Хорошо, я подумаю.
Возвращался в темноте. Еле-еле добрался до родной камеры, измочаленный вдрызг.
11. РЕБЯТА
Ребята вели себя каждый в соответствии со своим характером. Те двое, что не подверглись аресту – о них разговор особый. Брат держался очень резко, говорил чекистам в глаза все, что о них думал. В первые же дни нарисовал на своей одежде щит Давида.
Олег, в соответствии с потребностями своего аналитического ума, вел со следователями теоретические дискуссии, чем немало их озадачил. По-моему, они всерьез задумывались о его вменяемости.
Сложнее обстояло с Шимоном. Этот человек был воплощенной эмоцией, причем весьма бурной и деятельной. Оказавшись в четырех стенах, где месяцы протекали, как нечто несущественное, он не мог найти другого применения своей природной активности, кроме следственной отдушины. Эмоции легко обмануть, заставить работать на миражи. Эмоции сами себя ослепляют сказочными надеждами. Поэтому из Шимона большевикам удалось выжать больше, чем из других арестованных; хотя он впоследствии, в лагере, проявил не меньше мужества, чем другие.
Как-то я догадался нарисовать на дверях прогулочного дворика, исписанных и изрезанных сплошь, звезду Давида, в центре которой написал номер своей камеры.[31]
Через несколько дней углы звезды наполнились номерами камер моих товарищей.
Я уже начинал ориентироваться в расположении камер, и мне становилось ясно, что нас разбрасывают по разным углам разных этажей, чтобы связь была исключена.
Но однажды она все-таки состоялась.
Может быть, она была инспирирована чекистами с целью выуживания информации из нашего разговора – не знаю.
Информацию они вряд ли приобрели, так как язык общения оказался для них несколько неожиданным…
Я гулял с сокамерниками в прогулочном дворике, когда вдруг услышал свое еврейское имя, откуда-то громко произнесенное:
– Арье, Арье!
Мистика, да и только. Человек-невидимка.
– Арье, Арье, злодеи все знают про Вильно и Ковно! Ты слышишь меня? – кричал откуда-то голос брата на идиш.
– Знаю, знаю, – прокричал в ответ я, не зная, в какую сторону поворачиваться.
На помосте над прогулочным двориком вырастает злобный, чернявый, длинноносый мент. Немигающими совиными глазами уставляется он то на меня, то на ближайшую тюремную башню со слепыми загороженными железом окнами. Про него рассказывают, будто он приводит в исполнение смертные приговоры. Возможно, источником этих впечатлений была только его каменная злобность.
Брат продолжает кричать, я после некоторых колебаний отвечаю ему, не обращая внимания на мента.
От такой наглости он взрывается.
– Сколько учат их говорить по-человечески, а они все равно на своем собачьем языке! – аппелирует он к уголовникам.
Те не реагируют.
Мент явно не еврей, но по формальным внешним данным похож на еврея. Таким в детстве (только ли в детстве?) нередко перепадает от окружающих за их внешность, и в них вырабатывается особая, жгучая ненависть к невольным виновникам своих несчастий. Может быть, в этом психологическая разгадка формирования не только многих рядовых, но и некоторых виднейших антисемитов в истории. Кроме того, постоянные проявления ненависти к евреям со стороны такого антисемита отвлекают внимание окружающих от его собственной «подозрительной» внешности. Защитная реакция.[32]
Как я понял, брат из верхней камеры башни увидел меня в прогулочном дворике с помощью «перископа». Скорее всего ему помогли расторопные в таких делах уголовные соседи – то ли от нечего делать, то ли по заданию…
Последствий не было никаких.
Вскоре я сказал следователю, что возобновлю общение с ним, как только мне дадут очную ставку с Шимоном и с одной девушкой, привлеченной в качестве свидетеля.
Через пару дней меня ввели в один из тюремных кабинетиков. Сконников и Четин с какими-то нервозными ужимками сказали, что я должен подождать. Затем, нехотя сообщили, что сейчас приведут Шимона, что говорить надо только на русском языке и ни в коем случае ничего такого, иначе очная ставка немедленно будет прервана.
Привели Шимона и усадили в противоположном конце кабинетика. Стриженый, похудевший, побледневший. Чекисты разместились между нами.
Шимон парень догадливый, быстро понял, что я от него хочу, признал, что кое-что перепутал, и теперь чекистам в отношении некоторых видных личностей не за что было ухватиться.
Правда, оставалась та девушка, но нас было двое, а она – одна. Кроме того, я был уверен, что на очной ставке и она переведет свои показания в достаточно безобидное русло.
Чекисты, однако, сказали, что теперь все уже ясно, больше вопрос о затронутых людях подниматься не будет, суд этой стороны дела не коснется, и вообще, тема исчерпана. С девушкой они поговорят сами, напомнят ей, что дело было не так, а эдак, и все будет хорошо. (Впоследствии оказалось, что и тут соврали.)
12. ОТДЫХ
Если исключить отдельные критические моменты следствия, то в целом надо признать, что никогда я не испытывал такого полного, абсолютного спокойствия и отдохновения, как в тюрьме. Уже не чувствуешь себя в подвешенном состоянии; знаешь, что прочно приземлился. И, главное, никаких забот, ничего от тебя не зависит, все кончено. Наверное, подобное успокоение находит душа на том свете.[33]
Тюрьма напоминает потусторонний мир. Живые так же боятся думать о ней, замечать ее, как думать о смерти.
Но все равно она напоминает о себе, и они с тревожным, опасливым чувством косятся на стриженых «призраков», которые иногда на вокзалах, непонятно как и откуда возникают перед глазами. И живые догадываются, что есть рядом с ними изолированный, невидимый мир мертвых, царство теней, живущее по своим особым законам и редко соприкасающееся с миром живых. Но мало кому из живущих придет в голову, что невинно убиенные могут обретать там, за пределами, – недоступное и неведомое им блаженное успокоение…
Не то у уголовников. Один из них искренне возмущался: «Не понимаю, как это так – я тут сижу, а они (прохожие) ходят по улицам!» Другие радуются, когда приводят новенького: – Поймали-и-и!
Малышев был из таких. Опытный зек, сидит не впервой, лагеря знает наперечет, не болтает лишнего о причинах посадки. Но вообще говорить любит, больше все о себе, о былых приключениях. Наилучшие воспоминания остались у него о Ташкенте, где живут наивные «турки», которых так легко надувать и обворовывать.
Цветистый восточный базар. Есть все, чего душа пожелает. Торговцы наперебой зазывают попробовать их вина, фрукты, яства. И Малышев «пробует»… У одного, у другого, у третьего… Пока дошел до конца базара – сыт, и пьян, и покупать ничего не надо! Ну и «турки»! Кроме того, «турки» есть очень богатые, можно поживиться. Едешь в грузовике, ловишь «турка» за пояс, пояс раскручивается, а в нем – кошелек. Привет! Или молится «турок» своему Алле, так в это время его хоть на кусочки режь – не обернется. Самое время обобрать и бежать подальше, пока он молитву не кончил и не поднял гвалт. Хорошо в Ташкенте! Дома богатые, есть у кого воровать, не то что тут – голь перекатная, за копейку горло перервут. Там можно жить. В производстве ничего не смыслят. Поможешь ему машину починить – калым, большой человек, «джура» (друг). «Планом» (анашой) угостят. Хорошая штука! На Руси почему так много сидят? Потому что пьют, а с водки тянет на подвиги. После «плана» – нет, уединиться, покайфовать. Хорошо!
Малышев был стихийным носителем колонизаторских идеалов. Хотя, таким ли уж стихийным? Любил читать романы об историческом прошлом своей страны. Задумывался, мечтал: – Вот бы мне с моим понятием жить в те времена! Какие люди были забитые, темные, в Бога [34] верили! Может своего врага укокошить, а вместо этого говорит: «Я не убивец!» Хуже бабы! Я бы там такие дела делал! О-е-ей!
По радио передают «Пионерскую зорьку». Малышев прислушивается, комментирует:
– Голосок-то какой! Вот бы ее того…
– Так она же маленькая, лет десять!
– В самый раз! – улыбается он огромной лягушачьей пастью.
Заводя разговор об истории, непробиваемо твердит о вечном благородстве России, которая никогда никого не завоевывала, а на нее все нападали. Я привожу ему в пример Польшу, Прибалтику. Малышев вспыхивает. Сами, мол, на нас не то нападали «по-крысиному», не то спасти просили от капиталистов и помещиков, а теперь еще воют? Что, венгры? Перебить их всех надо, а заселить русскими! Завоевал – мое!
13. КОНФОРМИСТ
Часто уголовники разговаривали о судах, законах, прокурорах и прочих актуальных вещах.
Законы, мол, ужасно строгие, не продохнуть. Малышев сетовал:
– Как закатит прокурор речугу: «Свободы не иметь, на лодке не кататься!» Потом судья зачитает: «Именем российской педерастической республики…»
Но и эта тема надоедает. Уголовники начинают спорить об устройстве вилки в каком-то мотоцикле. Я, увлеченный книгой, не замечаю, как страсти час за часом накаляются.
Отрываюсь из-за громких криков и поражаюсь: им еще не надоела эта вилка!
Но дело принимает дурной оборот. Со стороны Малышева слышатся злобные, сдавленные угрозы. Более слабый Заносов поднимается и со слезой в голосе произносит:
– На, на, бей!
Я успеваю броситься между ними, и очень вовремя, потому что осатаневший Малышев с налившимися, как у быка, глазками, уже схватил заточенную у черенка ложку, которой обычно режут хлеб… С трудом разнимаю их, успокаиваю. Из-за чего, собственно, не поладили? Что, их жизнь от этой вилки зависит?
– Да, но он, сука, падло… [35]
– Сам не знает, а наскакивает…
После этого Заносов проникается ко мне уважением и рассказывает о своей жизни. Малышев отсыпается с тяжким храпом, а мы сидим на кровати Заносова и разговариваем о том, как его «занесло».
Обычный рабочий парень. Отец – пьяница. Пропивал домашнее имущество, наглел в доме, изводил и бил мать. Заносов, как подрос, сам стал давать ему сдачи, защищал маму. Что оставалось, кроме работы и дома? Друзья-собутыльники, девки. Как соберутся вечерком парни, так разве удержишься, чтобы не выпить. А выпьешь добрую косушку – вовсе понятие пропадает. Женитьба тоже не вытащила из болота. Скучно все время с бабой! Тянуло к друзьям, таким же «женатикам». После одной пьянки очнулся в сарае с какой-то проституткой. Вскоре обнаружил у себя признаки гонореи. Гадко, стыдно перед женой. Но ничего, вылечился, простила.
Все наладилось… И тут это дело… Все кончено… А жена беременная, скоро должна родить… Как на суде показаться ей на глаза?
Как ни странно, этот наиболее симпатичный и неиспорченный из встретившихся мне уголовников сидит за участие в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Не сразу, после долгого сидения с ним в одной камере я начал понимать, что привело его к такому финалу. Парень, сам по себе неплохой, среди других совершенно обезличивался. Предполагаю, что и его соучастники были такими же. Никто из них в отдельности, пожалуй, не совершил бы этого. Уж Заносов точно не совершил бы. Но собранные вместе, они превращались в коллективного бессмысленного зверя. Соединившись, они теряли себя, и никто из них уже не мог возвыситься до личной ответственности, до простых слов: «Что я делаю?» Произнеси хоть один из них эти слова – и все бы отрезвели, остановились. Но тут сумма была намного ниже каждого из слагаемых… Малышевы в обществе составляют меньшинство, но, увы, общество, суммируясь, превращается в одного большого Малышева…
Я читал обвинительное заключение Заносова.
Составлено оно было со слов потерпевшей, которая, по словам Заносова, себя старалась обелить и потому опускала ряд существенных моментов. Меня ему не было резона обманывать, и Заносов изложил все, как у них было.
Собрались вечерком три добрых молодца, все молодые, женатые, у кого ребенок уже есть, у кого жена на сносях. Как водится, выпили и пошли искать приключения. Смотрят, две девчонки стоят, они их [36] толком даже не разглядели. Один, понахальнее, подходит к ним «договариваться». Одна девчонка, видя пьяных, поспешно улетучивается. Вторая проявила больше женского любопытства и к тому же хотела досадить какому-то мальчику из своего класса.
– Договорились, – подмигивает парень дружкам. Идите следом, всем хватит.
Заносов со вторым товарищем заметно отстали от парочки, чтобы не мешать, потеряли ее из виду, шли медленно в потемках через луг, примыкающий к городу. Вдруг Заносов наткнулся на куст и в слабом свете луны увидел лежащую под ним парочку. Его нахальный друг завершал процесс раздевания незнакомой леди, а та, вроде бы, не проявляла особых признаков недовольства.
Заносов отшатнулся и вместе с напарником отошел в сторонку. Они уже порядочно удалились, как вдруг услышали крик. Обернулись. Увидели голую девку. Она бежала по тропинке от нахального друга, который кричал товарищам:
– Держи ее!
Этот крик решил все. Он слил индивидуальные души в единого безответственного зверя. Заносов с напарником бросились наперерез, ни о чем больше не рассуждая, с простодушием гончих, которым крикнули «ату!»
Видимо, в последнюю минуту девочка побоялась лишаться невинности, вырвалась и бросилась бежать. Но было поздно. Озверевшая орава настигла ее возле кукурузного поля, повалила на землю. Кто-то отломал большой кукурузный початок и пригрозил прибить девчонку, если будет брыкаться. Но тут произошел конфуз: то ли от пьянки, то ли от погони, то ли от азарта никто из троих в эту минуту не обладал потенцией совершить задуманное. Что делать? Один догадался возбудить себя механически, его примеру последовали остальные, и все трое стали полноправными соучастниками. После этого они разошлись по домам. Вернувшись домой совсем поздно, девочка застала взволнованную маму, которой подружка уже разболтала, что чадо куда-то пошло с пьяными мужиками. Естественно, от матери не укрылось происшедшее, и она побежала в милицию. Подружка пострадавшей запомнила неподнимающееся веко, и милиция легко отыскала виновников, которые давненько были у нее на примете.
Только теперь, под судом, Заносов по-настоящему разглядел свою жертву. Была она, по его словам, очень некрасивая, ни в жисть бы не [37] позарился. Надо же!
Расстрела никому не дали, но срока прокурор потребовал почти предельные.
14. РУССКИЙ ОТЕЛЛО
После завтрака раздался стук в дверь:
– Собирайтесь в баню!
Это тоже маленький праздник – водят ведь раз в десять дней, да еще воруют дни при межкамерных перетасовках. Все бурно зашевелились. Стаскиваем наволочки, бросаем в них белье, ждем. Скрежет ключа. Друг за другом выходим в коридор. Вслед за ментом направляемся под скрежет ключей наружу, в тюремный двор. Солнце больно ослепляет глаза; крепкий, чистый, морозный воздух чуть не валит с ног, опьяняет совершенно.
Грязный предбанник. Мент заглядывает в волчок – там еще моются бабы, доносятся женские голоса. Нам приходится ждать, а пока «парикмахер» стрижет головы тех, у кого волосы отрасли на сантиметр. Без дезинфекции, всех одной машинкой. Выводят и усаживают рядом с нами еще одного человека – этапного. У него на голое тело надета не застегнутая фуфайка, в руках другая – вот и все богатство. Подготовился к лагерю, едет из «крытой» (Владимирская тюрьма). Банщик, скучая, скалится на меня:
– Что, близок локоть, да не укусишь (пытается укусить свой локоть), крепка наша власть!
– Всему свое время.
– А ты, начальник, гнило-ой! – неожиданно присматривается к нему новенький.
И правда, весь он какой-то хлипкий, источенный завистью, злобностью маленькой собачонки.
– Прогниешь тут с вами! – ворчит «начальник» и отворачивается.
– Ты что, политический? – тихо спрашивает меня новенький.
– Да.
– Я тоже. Раньше был. Теперь за массовые беспорядки в лагерях переведен в «бандиты». Еду из «крытой» в тамбовские лагеря…
Между тем нам приказывают войти в баню, так как бабы уже вышли через другую дверь. Нам дают по крохотному кусочку вонючего мыла, мы с грязными тазами выстраиваемся в очередь к кранам. Ставим тазы [38] с водой на скамейки, моемся. Попутно я жадно расспрашиваю и рассматриваю человека из того мира, в который мне предстоит попасть. Вид у него, как в кинофильмах про концлагеря: длинный, истощенный, на тонких ногах, все кости наружу, пергаментная кожа…
– Кто сидит в политлагерях?
– Всякие есть. Кроме наших сидят полицаи. Говорит: «Я политический» – а сам сотню жидов в газовой камере замочил. Тоже ведь люди…
Несмотря на мой пиетет к старому зеку, это «тоже» больно резануло по сердцу.
Не успели мы намылиться, как мент (гнилой) начал стучать в дверь и пронзительно орать:
Кончайте, кончайте, время, выходите!
Препирательства, шум, крики. Одна из особенностей расейской жизни – отсутствие каких-либо четко установленных, объявленных и общеизвестных норм. Все аморфно, и каждый использует неопределенность в своих интересах. Банщик старается поскорее отделаться от своих обязанностей и отводит на мытье считанные минуты. «Прогульщик» ворует время прогулки, пользуясь отсутствием часов у зеков. Воровство наглое: по двадцать минут, по полчаса (из положенного часа). О каких-то десяти минутах никто и разговаривать не станет.
Наконец, с криком, воем и скандалом, оглушенные, охрипшие, обалдевшие, мы кое-как добились появления воды (банщик отключил краны) и поскорее смыли засохшее мыло с холодного тела.
Нашего случайного попутчика увели в этапную камеру, а мы вернулись в свою. Носки постирать в этот раз так и не успели. Прачечная их в стирку не берет, а в камере есть только бачок с питьевой водой, в обрез.
В камере застаем новенького; маленький, тщедушный, согнутый, как палец, человечек, пожилой, с плаксивым выражением лица.
«Стащил что-нибудь», – думаю я. Но нет: перед нами убийца своей любовницы.
Малышев с ходу начинает расспрашивать подробности: где, когда, кто, как.
Оказывается, он знал эту бабу, и не только знал, но вместе с каким-то дружком развлекался с ней в свое время.
– Ха-ха-ха! Такую бабу убил! Ей бы сносу не было! Кто только к ней ни ходил!
Малышев без конца повторяет свою «шутку».[39] А Отелло рассказывает, как он уговаривал ее не изменять, как она много раз обещала, а потом он обнаруживал очевидные признаки, устраивал скандал, она в пылу ссоры кричала:
– Да, да, и буду!
И тут он схватил нож и…
Над Заносовым уже состоялся суд, его увели в этапную камеру.
Когда Отелло удалялся на допрос, Малышев стачивал о стенку уголок домино, метил костяшки шулерства ради. Кроме того, он, как волшебник, в камерных условиях, почти из ничего изготовил великолепные миниатюрные карты, каких и в магазине не купишь.
Теперь они с Отелло день и ночь резались во все игры.
Тщедушный Отелло не мог отказать, хоть и видел, что Малышев его на каждом шагу надувает.
Начались довольно откровенные намеки о необходимости расплачиваться собственным телом. Но Отелло не захотел стать педерастом и откупился новыми туфлями.
– Бери, носи! – патетически воскликнул он. – Мне-то уже не понадобятся! – И всхлипнул.
Позже он по секрету показывал мне накопленный арсенал разных таблеток: в случае чего всей этой кучей отравиться, не ждать расстрела. Прочувственно продемонстрировал также приготовленную петлю.
Однако расстрела ему не дали.
15. «СПАСИТЕ ПРОКУРОРА!»
Я был знаком со студентами юридического института. Они жаловались на невозможную духовную атмосферу этой сталинской казармы. Всеобщая слежка, доносы, подозрения, характеристики. На старших курсах от студентов внаглую требуют, чтобы стучали чекисту о малейшем проявлении нелояльности. Какие же вы, мол, без этого юристы. Непокорных отчисляли по идеологическим мотивам.
Но и после этого жесткого отбора КГБ далеко не каждому юристу дает допуск к своим делам. Без допуска юрист не имеет права заниматься политическими. Малейшее непослушание этому всесильному Гестапо – и юрист рискует немедленным и вечным изгнанием из органов юриспруденции, волчьим билетом и пожизненной печатью опального. Таким образом, состязание сторон, юридические формальности и [40] прочее – сплошная видимость. Юристы – это артисты и статисты, выступающие по сценарию КГБ, где Гестапо – и автор и режиссер.
Прокуроры, судьи, заседатели, адвокаты – изначально и прочно сидят в кармане КГБ. Фактически не только вину, но и срок определяет исключительно КГБ. Суд – это лишь докучливый, но почему-то необходимый обряд, так же, как и выборы. Следственный орган, по сути, он же и прокурор, и судья, и адвокат, и даже законодатель. Вечно единогласный Верховный Совет полон явных и тайных чекистов.
И все же – наконец-то суд! Сколь ни тягостна эта процедура – она избавляет нас от общества уголовников, в котором порой просто выть хотелось.
Воронок, усиленный конвой. Выводят солдаты с оружием наизготовку. В пустом зале усаживают на скамью, окруженную оградой, со всех сторон военные в красных погонах. Наконец-то мы снова видим друг друга, сидим на одной скамье, но разговаривать, даже смотреть друг на друга нам строжайше запрещено. Но мы все равно пытаемся перекинуться парой слов на идиш, вызывая вспышки ярости и угрозы краснопогонников.
Зал постепенно заполняется чекистами, одетыми в гражданское. Суд-то ведь «открытый», требуется публика. Нашим родственникам едва остается место. Улыбаемся им, говорить нельзя. Появляется судья с заседателями, прокурор, секретарь суда. Адвокаты явились раньше.
Мне запомнились двое: судья и прокурор.
Первый, – бесцветная физиономия, водянистые глаза навыкате, модулированный голос не то привидения, не то робота.
Прокурор был более колоритен. Приземистый, с землистой мордой, которая в ширину раздалась больше, чем в длину, он похож был на кого угодно: на мужика, на взломщика, – но только не на человека, работающего в сфере юриспруденции. И эта внешность не была обманчивой. Его безграмотные, глупые реплики вызывали сдержанные улыбки коллег и почти хохот на скамье подсудимых.
Так, меня и Шимона он почему-то назвал «тяжелой артиллерией».
– Откуда вы узнали о существовании Берт… – Берт-ранела Рассела? – грозно вопрошал прокурор.
Вся комедия продолжалась несколько дней и была весьма утомительной.
Если что-то отклонялось от разработанного сценария, это вызывало паническую реакцию и пожарные меры.[41]
Особенно мило выступали адвокаты, которые большую часть в своей речи посвящали уверениям в своей лояльности, что они, дескать, понимают до чего мы докатились, но, увы, закон обязывает их защищать, а не клеймить нас, и они с болью в сердце вынуждены идти против самих себя…
Суд, формально, должен был касаться только антисоветчины, но их всех так и подмывало поплевать в сторону еврейства. Из свидетелей выжимали показания о любых разговорах на еврейские темы. Так, одну русскую студентку исторического факультета МГУ (на суде она поспешила объявить себя русофилкой), заставили очень подробно рассказывать о том, как я расспрашивал у нее, изучают ли хоть на ее факультете что-нибудь по еврейской истории.
– Зачем вы это спрашивали? – допытывался судья. – Нам ясны ваши националистические взгляды!
– Если желание знать язык, историю и культуру своего народа – это национализм, то я националист!
– Вы в первую очередь националисты! – шипела толстая адвокатесса.
Затем на суде был снова поднят на большую высоту вопрос о связях с оппозицией, казалось бы, уже давно зачеркнутый следствием. Чекистам хотелось еще раз попытаться; уж больно лакомый был кусок. На следствии же они твердо обещали, что судом этот вопрос не будет затронут.
Пришлось вслух напомнить об этом.
Прокурор потребовал семь, пять, пять и три года. Слава Богу, без последующей ссылки.
Суд удовлетворил его требования тютелька в тютельку.
Но торжество областного прокурора Дубнова было испорчено.
Когда судья монотонным голосом зачитывал бесконечно нудный и длинный приговор, кое-кто стал замечать, что с прокурором творится неладное.
Он зашатался. Еще минута – и грозный прокурор грохнулся бы на пол, так как сесть он не мог: после возгласа «встать, суд идет!» – сидеть не положено, тем более при чтении приговора.
И тут крик Шимона, перекрывающий жужжание судьи:
– Спасите прокурора!
Только тогда роботы опомнились и бросились спасать.
Еще до суда умер от сердечного приступа тюремный опер Козлов.
После суда тяжело заболел судья.[42]
– Всех вы свалили, – шепотом сказала мне потом моя адвокатесса.
Я удивился: не нашей рукой это было сделано.
16. РАЗОБЛАЧЕНИЕ
После приговора нас с Шимоном соединили. Был вечер, падал снег. В тюремном дворе, где нам выдавали матрасы, чтобы повести в одну из камер, Шимон бросился мне на шею. Мы едва не плакали от радости, чуть не задушили друг друга.
Шутка ли, вместе, без уголовников! И даже разговаривать друг с другом теперь разрешается! Это было, как медовый месяц. Мы говорили и не могли наговориться, отдыхали, читали, гуляли, наслаждались воздухом, небом, книгами, мыслями, а главное – покоем. Когда приходила передача – сколько было дополнительной радости!
Вскоре мы обнаружили, что в противоположной башне размещены Олег с моим братом, и что водят нас в один туалет. Мы начинаем общаться с помощью надписей, но менты регулярно осматривают двери, подоконник и стараются все стирать. Как быть? В туалете от потолка до пола шла толстая труба с отдушиной. Для чего она? Действует ли?
На всякий случай я незаметно сунул через отдушину вверх скомканную газету. Она хорошо держалась в трубе. На следующий день мы проверили – вытащили газету сухой и невредимой. Эврика! Но как сообщить нашим? Раздатчица – неплохая баба, дебелая донская казачка – отказывается. Она говорит, что прошлую записку мой брат читал, стоя посреди камеры, а такое позирование перед «глазком» может дорого обойтись передаточному звену. Мы обещаем вправить ему мозги, уговариваем, клянемся, что эта записка – последняя, и баба берет ее. Труба моментально заработала вовсю. Мы передавали друг другу целые книги и тетради, удерживая их в трубе плотной газетной пробкой. О чем только не дискутировали мы тогда! Даже о теории относительности. Если вселенная, по «красному смещению», разлеталась из одной точки, то эта точка является ее центром тяжести и одновременно центром изначального, абсолютного покоя. Чтобы вывести тело из этой точки, требовалось приложить к нему энергию для преодоления гравитации и для придания скорости. Это увеличивает массу тела по сравнению с массой абсолютного покоя в исходной точке, замедляет время и пр. Чтобы вернуть тело в исходную точку, надо отобрать у него [43] полученную ранее энергию (массу). Эта космоцентрическая теория возбуждала особенно бурные споры.
Как-то нас с Шимоном повели на прогулку. У выхода из тюремного корпуса мы вдруг увидели в коридоре… маленького ребенка! Свет падал на него через зарешеченную дверь, ментовка, шутя, гонялась за ним, а ребеночек смеялся и убегал, умилительно топая ножками. Это выводили на прогулку баб с нижнего этажа. Когда арестованной бабе ребенка оставить не на кого – он отправляется в тюрьму вместе с ней, сидит в той же общей камере, дышит той же физической и моральной атмосферой…
Нас внезапное появление ребенка потрясло пронзительной радостью и болью: счастье было видеть дите после стольких месяцев, и жутко было видеть его здесь…
Во дворик нас выводил молодой мент. Он оттягивал верх своей форменной фуражки а-ля эсэсовец. Многие менты стараются подражать духовным братьям. Мент сказал какую-то гадость о евреях, и у Шимона с ним чуть не дошло до драки. Мент струхнул, сбавил тон и ретировался.
Месяц шел за месяцем, а нас никуда не отправляли. Мы стали требовать соединения всех нас в одной камере. Угрожая голодовкой, добились своего. Дело в том, что начальнику тюрьмы Линькову уже пришлось столкнуться с такой формой протеста. Незадолго до суда я через раздатчицу узнал, что у Шимона перевязана голова, и что сделал это небезызвестный Малышев, которого после меня подсадили к Шимону.
Малышев еще при мне по трубе отопления (через кружку) поругался с грузинскими дельцами, сокамерниками Шимона. Что-то кто-то не так ответил, и пошло состязание в звенящих по трубе десятиэтажных выражениях с грузинским акцентом и без оного.
После этого Малышев, как разъяренный бык, сопя, ходил по камере и сдавленным голосом твердил:
– Ну, попадутся они мне… В соседний дворик выйдут погулять…
Через стену перепрыгну… Ох, и ма-аленьким этот дворик им покажется! С коробочку!
И выразительно хлопал об стол спичечным коробком. Он считал виновной всю камеру, так как кто и не говорил, тот все же слышал и не вмешался.
– Игнорируют, вымогают! Ух!
И вот, оказавшись с Шимоном, он к чему-то придрался, схватил деревянный совок, с помощью которого убирают камеру, и ударил [44] Шимона по голове.
Правда, Шимон подставил руку, о которую совок сломался, но Малышев тут же ударил его по голове обломком. Из рассеченной кожи хлынула кровь, заливая глаза.
Мне пришлось объявить голодовку, требуя отделить заштопанного и перевязанного Шимона от бандита, сотрудничающего с администрацией.
Не знаю, чего больше испугался Линьков: голодовки политического или разоблачения агента.
Сначала меня пытался припугнуть маленький нач. режима с совиной мордочкой садиста – Зайцев.
Когда это не помогло, вызвал сам Линьков в своей пышный кабинет.
После обычных дурацких расспросов (кто, зачем, почему, как и откуда) , Линьков испробовал грозный шантаж. Потом в примирительном тоне поведал, что Малышев уже в карцере, и к Шимону его больше не посадят. Под конец расчувствовался и стал рассказывать, где, когда, что и в каких ситуациях он любил выпить. Линьков был здоровый мужчина с красноватой физиономией, ясно говорившей о его «пристрастии».
– Ну, а что читаете?
– Пастернака.
– Вот скоро должен выйти поэт… (он заглянул в бумажку) Бальтмон… – и побагровел еще сильнее от непосильной демонстрации своей интеллектуальности.
Видимо, неприятные воспоминания Линькова помогли нам соединиться.
И совместными усилиями мы постарались восстановить картину провала. Все стрелки сходились в одну точку: Евгений Мартимонов.
Шимон заметил, что в рукописной редакции первого протокола число 29 «29 июля» выглядело необычно: девятка была явно переправлена с четверки…
Еще более веским, убийственным был следующий факт: уже после первых допросов он продолжал встречаться с людьми (еще не арестованными в то время), о КГБ не говорил ни слова, выспрашивал о делах, а назавтра все это появлялось в очередном протоколе.
Для чего же понадобился им еврей Заславский? Для прикрытия! Даже по протоколам чувствовалось, что, впервые допрошенный действительно 29 июля, он вяло, неохотно и сдержанно подтверждал часть [45] показаний Мартимонова.
В обмен на роль мнимого предателя, его тоже оставили на свободе, осудили условно, как и Мартимонова.
Но этот же последний, как он попал в КГБ? Как ЧК ему так доверяла? Не был ли он провокатором с самого начала?
Нет – решительно отвечали те, кто знал его лучше всех.
24 июля он по собственному зрелому размышлению сам пошел в КГБ и все выложил, чтобы в случае спонтанного провала не пострадала его драгоценная шкура.
И я вспомнил разговор с Мартимоновым за год до ареста.
Повадился ходить к нам один студент, которого мы не приглашали и подозревали в сексотстве.
Мартимонов, которому я сказал, что не знаю, как отвадить незваного гостя, предложил убить его.
– Ты серьезно? – удивился я. – И ты СМОГ БЫ это сделать?
– Разумеется. Что же тут трудного? Ах, совесть… Ну, она, знаешь, спрятана у меня так далеко и глубоко…
Последствия показали: это была не бравада.
17. ПЕРВЫЙ ЭТАП
Пришел праздник – мне удалось нарвать и разбросать по камере немного травы.
– У вас что, троица? – спросил мент.
– Нет, Пятидесятница.
– Все не как у людей! – обиделся мент.
* * *
От долгого ожидания мы стали развлекаться экспериментами из области таинственного.
Шла война на истощение в зоне канала. В Иордании начались бои между армией и террористами. По этому случаю мы вывесили в камере плакат в китайско-юмористическом стиле: «10 000 лет жизни королю Хусейну!» Менты, видимо, не понимали, о чем речь, и на всякий случай «не замечали».
В связи с бурными событиями встал вопрос о радио.[46] Мы уже добились права требовать отключения его (это делала специальная центральная диспетчерская). Но если уж отключали – то надолго. Если включали – то же самое. Слишком громоздким и многоступенчатым был живой механизм, с помощью которого где-то в недрах тюрьмы щелкал обыкновенный выключатель. Как это до анекдотизма похоже на социалистическую жизнь вообще! И вот в камере начались дебаты по вопросу о том, включать радио (и тогда терпеть все производственные достижения доярок, сталеваров и частушечников) или же не включать (и тогда не знать абсолютно ничего о происходящем на Ближнем Востоке).
Олег озлобленно твердил, что не позволит надеть себе на уши испанские сапоги.
В качестве компромисса было предложено бросить жребий.
– Но я же заранее знаю, что выиграю! – уверенно твердил Олег.
– Каким образом? Не говори чепухи!
– А вот увидите.
Монеты у нас не было, бросали коробок из-под спичек. Олег выиграл.
– Случайность!
– Нет!
– Повторим?
– Пожалуйста.
Он выиграл снова. Потом рассказал, что еще в детстве научился выигрывать в «орлянку» странным способом: во время падения монеты изо всех сил «внушал» ей, какой стороной шлепнуться. Не всегда получалось, но в течение многих туров смещение вероятности было достаточно надежным, и в целом он всегда выигрывал. Только хитрый Мартимонов раскусил его прием, стал применять его тоже, и с тех пор они играли на равных.
Мы все бросились экспериментировать (не из желания кого-то обыграть, а из бескорыстного интереса к таинственному).
У всех, кроме Шимона, получалось явно. Сначала мы бросали коробку, просто чтобы убедиться в равной вероятности падения на обе стороны. Потом один подбрасывал так, чтобы она переворачивалась в воздухе, а другой изо всех сил «внушал» ей, что она должна упасть этикеткой вверх или наоборот.
Вот какие выводы мы сделали:
1. Смещать вероятность усилием воли можно, но получается это не у всех.[47]
2. Количество «внушающих» не влияет на уровень смещения.
3. Эта работа быстро и сильно изматывает, начинает болеть голова, чувствуешь опустошенность, утомление.
4. Чем ярче и нагляднее в момент падения представляешь в уме желаемый результат, тем он вероятнее осуществится. (У нас доходило до четырех удач из пяти бросков.)
Отсюда следовали головокружительные мысли о судьбе, об истории, которая тоже ведь в значительной степени вероятностный процесс…
Олег рассказывал, как на лабораторной работе усилием воли ускорял или замедлял распад радиоактивного препарата.
И тут грохают ключи в железную дверь:
– Все собирайтесь с вещами!
Этап! Ура! От взращенной коммунистами породы «новых людей» мы уезжаем туда, где находятся такие же, как мы, неподдающиеся…
Надеваю переданные мне женой с воли кирзовые сапоги, фуфайку, застегиваюсь, и в этом новеньком, с иголочки, зековском наряде с удовольствием расхаживаю по камере.
В голове крутится видоизмененный стих раннего Маяковского: «Хорошо, когда в зековский ватник душа от осмотров укутана».
Настроение тревожное, приподнятое. Идем со своими вещами по коридорам. В последний раз…
Какая память о нас останется в этом городе?
О памяти ЧК тоже позаботилась…
Через аппарат распространения слухов население было поставлено в известность о каких-то пьяных оргиях с политическим уклоном, на которых я, оказывается, в голом виде танцевал на столе в присутствии дам. Параллельно, пускался шепоток об «израильских агентах». Кто не клюнет на одно, поверит в другое.
Под окрики конвоя с собаками забираюсь в уже знакомый «воронок», усмехаясь про себя пляскам на столе, о которых мы узнали через короткие свидания, предоставленные перед отъездом. Меня сажают в «стакан» – так зеки называют крохотные изолированные железные боксики внутри воронка. Уголовничков напихивают, как сельдей, в общий кузов. В воронке характерная затхлость многолетних этапов. Пахнет чем-то застоявшимся, селедочно-махорочно-выгребным.
Мое новое обиталище окрестили «стаканом», вероятно, потому, что в нем зек на русских дорогах бьется, как муха в стакане. Впрочем, на этот раз едем недолго, до вокзала. Выгружают у путей.[48]

– Шаг в сторону – стреляем без предупреждения – вещает начальник конвоя.
Публика боязливо косится на ведомую в стороне стриженную черную колонну, окруженную автоматчиками и немецкими овчарками.
Внимательный путешественник заметит в русских пассажирских поездах ничем не примечательные вагоны с матовыми стеклами окон. За их непроницаемостью скрывается внутренность столыпинского вагона, клетки которого обычно битком набиты изможденными, галдящими зеками. Особенно много их на северо-восточных направлениях. Зеки редко переезжают. Поэтому наличие переполненных столыпинских вагонов едва ли не на всех внутренних поездах говорит об ужасающем проценте узников в стране лагерей, стране тени смертной.
У поезда нас принимает начальник другого вагонного конвоя. Сей длинный страж почему-то обряжен не в красные погоны. В своей форме, фуражке он удивительно напоминает белогвардейцев из советских фильмов.
– Статья? Режим?
– Мы политические!
– Таких у нас нет!
– Как это нас нет?
– Какая статья?
– Семидесятая.
– Когда судили?
– В феврале.
– А, февральское дело… Ну, значит, вы государственные. «Особо опасные преступники», ясно? Так и говорите!
– Мы политические, нас обязаны держать отдельно.
– Поговорите у меня!
Влезаем в вагон. Нас вталкивают в клетку, полную малолеток. Кое-как рассаживаемся. Они расспрашивают нас, мы – их. После долгого ожидания поезд трогается. В проходе вдоль клеток вышагивает солдатик. Его сменяет другой. Мы постоянно требуем отделить нас и вскоре добиваемся своего. Нас переводят в пустующую клетку. Облегченно вздыхаем, снимается напряжение. Оживляемся.
В «Столыпине», как правило, охрана старается как можно меньшее количество клеток набить как можно большим количеством зеков, а остальные оставляет пустыми. Так конвою легче, меньше клеток приходится контролировать. А зеки – пусть хоть спрессуются.[49] Человеческое страдание всем до лампочки, даже удовольствие доставляет, а зеки и официально людьми не считаются. Бабы новых народят, чего там! [50]
ЛАГЕРЯ
18. ПРИЕХАЛИ!
Слава Богу, от Рязани до Потьмы совсем близко. Мы не успеваем съесть свой дорожный паек – черный хлеб с соленой селедкой. Иначе были бы трудно разрешимые проблемы с питьевой водой. О мытье нечего и мечтать. Не положено.
От станции со своими вещами еле доползаем до далекой пересылочной тюрьмы. Кругом колючая проволока, обстановка очень лагерная. Дети (вольные) играют в зеков и конвоиров. «Зек» пытается убежать, «конвоиры» ловят его, бьют, «пристреливают». Все, как в жизни. У тюрьмы работают какие-то уголовнички. Срываются, орут друг на друга нервно, исступленно. Злобные угрозы.
Потьма встречает нас почерневшими деревянными нарами, очень черным, но вкусным ржаным хлебом (пересылка славится им) и новым знакомым полууголовного типа. Захаров, беглый солдат, возвращается в Мордовские лагеря из Владимирской тюрьмы. Он жалуется, что многие считают его мордвином, хотя на самом деле он – «Рязань косопузая». Справляется о нашей национальности. Расспрашиваем его о политических лагерях, о Владимире. Однако кроме самых общих сведений (номера лагерей, виды работ) он ничего выжать из себя не может. Вскоре его отправляют, мы остаемся вчетвером. Спим одетые, на досках, без постелей, без матрасов. Фуфайка нам и матрас, и одеяло. Жаль, коротковата. Камера полутемная. Нижняя часть камеры – у двойной двери (простая дверь и решетчатая), верхняя (сплошные нары) – ближе к окну.
Днем по одному начинают вызывать чекисты. Шимона пытаются вербовать, он увиливает. Обычные наивные вопросы: кто, откуда, когда, за что. Перед ними лежит дело, а они прикидываются – таков штамп их работы». Проставят птичку о проведенной «беседе», а среди прочих вызванных не разглядишь того, кто пришел к ним по делу, а не просто так.
Олег на вопросы взял да и пальнул, не моргнув глазом, их же казенными штампами: «Участвовал в антисоветских сборищах, клеветал на [51] политику партии, чернил советскую действительность, огульно охаивал пройденный путь».
– Ха-ха-ха! – заливались чекисты.
Развеселил. Конечно, предупреждают, чтобы не брались за старое, выполняли нормы выработки, соблюдали режим, вели себя хорошо. Наблюдают за реакцией. Спрашивают, кто в какой лагерь хочет ехать. Это чтобы сделать наоборот. Мы все говорим, что нам безразлично.
Прощай, параша! Тем же длинным путем направляемся к железнодорожной станции. Движемся в хвосте большой колонны уголовников из соседних камер. Рядом с нами – два представителя желтой расы. Они держатся вместе, настороже. Один, небольшого роста, с грубоватым лицом, похож на человека из Средней Азии. Другой, – высокий, с тонкими чертами, вид интеллигентный, с фотоаппаратом (!)
– Ребята, это китаец! – говорю я своим.
Не верят. Откуда? Быть не может! Пытаемся заговорить с ним порусски, по-немецки, по-английски – отмалчивается, вроде не понимает. И правда китаец! Однако на перроне он все-таки отваживается заговорить с нами на очень плохом русском языке. Очень уж не хотелось ему попадать в одно «купе» с уголовниками, а в нас он почувствовал другое начало.
Совместными усилиями добиваемся того, что обоих сажают с нами. У парня бурная биография, даже во Вьетнаме побывал. Зовут его Юй Чи. Учился в Москве, отказался возвращаться в Китай. Его поселили в Семипалатинске как лицо без гражданства. Вопреки запрету, выезжал в другие города: Алма-Ату, Ташкент, встречался с китайцами, хотел найти себе прибыльную работу по душе (он хороший фотограф). Схватили, обвинили в шпионаже, но абсолютно ничем подтвердить обвинение не сумели. Тогда за нарушение паспортного режима дали ему год. Срок более чем детский. Пока следствие да этапы – осталось китайцу отбывать считанные дни. Но машина крутится неутомимо, и на эти считанные дни китайца все-таки везут в лагерь № 7 для иностранцев. Юй Чи с ужасом изображает в лицах, что ему довелось пережить от уголовников в этапных камерах. Придирались, били, пытались ограбить. Ненавидели его как китайца. Шимон подарил китайцу джинсы, чтобы было в чем выйти на волю. Нам-то не скоро понадобятся… Китаец долго не понимал, что от него хотят взамен, говорил, что ему нечем заплатить, явно подозревал какой-то подвох, каверзу, но, в конце концов, уразумел и прочувствованно поблагодарил.[52]
Второй был студент из Монголии, попался за изнасилование. Это уже было не интересно. Монгол отлеживался на верхних нарах до самого лагеря № 7. Обоих вывели. Едем по Мордовии. Лагерь на лагере, забор за забором прямо вдоль колеи. Вышки, колючая проволока, зеки-расконвойники, менты. Невеселые пейзажи! Слава Богу, конвоиры в пути окна приоткрывают, а то совсем дышать было бы нечем, да и не увидишь ни зги.
Поезд останавливается. Нас разделяют: Шимона с Олегом в одну сторону, нас с братом в другую. Впихивают в переполненный воронок вместе с уголовниками. Трясут, валят во все стороны лихой езды по пьяным расейским дорогам. Чувствуешь себя, как в бочке, которую столкнули с откоса.
Наконец, остановка.
Нас заводят на вахту. Красивая девчонка лет пятнадцати (видно, дочь местного начальства) появляется в открытых дверях, несколько секунд внимательно разглядывает нас и со смешком исчезает. Любопытство. Высокий пожилой украинец в зековской одежде приносит нам еду. Перекидываемся парой фраз. Он бывший бандеровец. Физиономия мужицкая, но хитрющая. Простодушного и не допустят на такую должность.
19. НОВЫЙ МИР
Концлагерь – это четырехугольник земли, окруженный заборами, вышками, вспаханной полосой и колючей проволокой. Огромный глухой деревянный забор заслоняет со всех сторон окоем. Только высокие деревья да холмы вдали выглядывают из-за забора. Перед глухим забором – два ряда колючей проволоки и вспаханная полоса. Над ним – сигнализация и вышки с часовыми. Регулярные обходы и осмотры состояния запретки, щелканье автоматных затворов, перекличка сменяющихся часовых, собачий лай.
Таким же глухим забором, только без вышек, концлагерь разделен на две части: жилую зону, где стоят бараки, столовая и штаб, и рабочую зону со зданиями цехов и прочими производственными застройками. Но есть и еще один отдельный, изолированный квадратик, над которым даже небо затянуто колючей проволокой. Там – небольшая внутренняя тюрьма концлагеря, ШИЗО (штрафной изолятор), или БУР.[53]
Это страшный инструмент, с помощью которого лагерь приводится к повиновению. Таков стандартный концлагерь в России.
Вначале коммунисты по наивности называли вещи своими именами.
Концлагерь так и именовался, и в 1918 году коммунисты не скрывая своего приоритета по созданию первых в Европе концлагерей. Однако время шло, и откровенный бандитизм как-то стал выходить из моды. Тогда концлагеря переименовали в безобидные «учреждения», тюремщиков – в «контролеров» (как в кино или в троллейбусе), зеков – в «осужденных», а во время переписи населения в 1970 году зеков записывали как «сотрудников учреждения».
На Запад эта кукольная комедия произвела, как всегда, неизгладимое впечатление; и сейчас многие уверены, что концлагерей в России больше нет.
Как и все явления, демократия имеет свои изъяны. Правительства, избираемые на короткий срок, заинтересованы в извлечении сиюминутных выгод. Так, краткосрочный арендатор старается выжать максимум сегодня, не думая о завтрашнем дне. Всеобщее избирательное право гарантирует правительство, удовлетворяющее средний интеллектуальный уровень населения. Однако толпа, по всеобщему признанию, в среднем не умна и не дальновидна. Сегодня демократиям выгодно торговать с тоталитаристами. Завтра последние мобилизуют всю приобретенную технологию для войны против демократий. Но сегодняшние демократические правительства к тому времени уже сменятся. Они спешат решать свои проблемы, а не проблемы будущих правительств.
Есть и еще один мощный фактор.
Тоталитарные блоки монолитны. Демократические – страдают рыхлостью. И начинается конкуренция между западными странами: кто раньше успеет продать большевикам современные компьютеры.
Сведения о концлагерях мешают побеждать в таких соревнованиях, и лучше всего закрыть глаза на них, сделать вид, что смотришь и не видишь.
А не видеть невозможно.
Советские летчики каждую ночь видят под крылом самолета на необъятных просторах своей родины странные квадраты со светящимися гранями. Видел их в свое время и Марк Дымшиц. Он тогда еще не догадывался, что это светятся по ночам запретные зоны бесчисленных концлагерей.
Несомненно, со спутников география современного Архипелага [54] ГУЛАГ видна, как на ладони. Днем в проявляющихся по ночам квадратах нетрудно сфотографировать и бараки. Зная норму «жилплощади» в них – два квадратных метра на человека – можно подсчитать число обитателей этих невинных «учреждений». Правда, концлагеря – не единственный вид заключения. Есть еще сколько угодно ссылок, тюрем, психушек и кое-чего пострашнее. Поэтому число узников концлагерей надо было бы умножить примерно на два.
Но Запад молчит об этом.
А русские тем временем бросают миллиарды и миллиарды на то, чтобы наводнять мир своей бесплатной литературой, вербовать и поддерживать бесчисленную агентуру, провоцировать мировые потрясения.
В преддверии решающей схватки за мировое господство они безнаказанно разрушают силы своего противника пропагандистско-забастовочно-нефтяной артподготовкой.
Неведомые миру «учреждения» ждут новой обильной жатвы…
Во Владимирской тюрьме еще недавно зеки передавали друг другу «по наследству» бушлат Гомулки, который тоже сидел там. Завтра во Владимире могут появиться бушлаты тех, кто сегодня надеется, что московский зверь останется зверем только в собственном доме, а вне его примет лик доброго ангела.
Отсутствие воли к борьбе нельзя компенсировать никакой техникой.
Так некогда разрозненные греки опомнились только после того, как персы сожгли Афины.
20. СПЛОШНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ
Нас повели через весь лагерь на склад: получать зековскую робу (любая гражданская одежда в лагере запрещена). Одновременно с потрясающим после камеры простором, травой, деревьями мы впитывали новое обилие и разнообразие человеческих лиц. И тут нас ждало первое разочарование. Мы, естественно, представляли политический лагерь заполненным молодыми, энергичными студентами, молодежью. Реальность оказалась совсем другой. Лагерь напоминал большой дом для престарелых. На складе маленький, седой и хромой украинец, нарочито хохочущий и веселый, выдал нам все причитающееся, и мы, впервые без мента, оказались на лагерном просторе.[55] Всюду сидели или передвигались кучки пожилых людей, разговаривающих либо по-украински, либо на неведомых наречиях (мы догадывались, что это прибалты). Русская речь слышалась редко. Вторая неожиданность: в русском лагере русские – национальное меньшинство! К нам подошли люди с восточными лицами;
– Ребята, вы не армяне?
– Нет, мы евреи.
Поговорили немного об армянском вопросе и разошлись.
Всюду ищем среди этого Вавилона еврейскую речь; но нет, все не то.
У прохожего старичка лицо как будто бы еврейское.
– Ду бист а ид? (Ты еврей?)
– Нейн – быстро ответил он, суетливо торопясь по своим делам. Мы только руками развели…
Пожилой русский блатного вида предлагает нам зайти в столовую-клуб: там, мол, сейчас интересный фильм идет. Давно не видели! Заходим. Действительно, крупным планом показывают все краски лучезарной Венеции. То ли от чересчур дикого контраста с действительностью, то ли от избытка впечатлений чувствую себя обалдевшим, не могу ничего воспринимать. Эти краски, золото с лазурью, весло в руках гондольера, эта музыка давят на меня, выталкивают наружу, к скупому мордовскому солнцу, к обыкновенной траве, которая сегодня стала для меня достаточно великим осязаемым чудом.
Лучше заняться обыденными делами. Иду получать постель на склад, чтобы разместиться в отведенном мне бараке, на отведенной койке второго яруса. Возле склада меня «перехватывает» здоровенный усатый парень, лет тридцати или больше, и начинает расспрашивать, кто, за что и откуда. Я сообщаю в числе прочего, что родом с Украины. Он говорит по-украински, я отвечаю ему на том же языке. Со своей стороны выражаю удивление, что тут половина лагеря – украинцы.
– Украина кровоточит, – медленно произносит усатый в расстегнутой на груди синеватой робе, – капля за каплей. Когда больше, когда меньше, но кровоточит постоянно.
Меня пронзила затаенная боль этих тихо произнесенных слов. В них не было пафоса, рисовки. Все было просто и страшно.
Мой барак был длинным одноэтажным строением, разбитым на секции. В секциях сплошь кровати, обычно в два яруса, с очень узкими проходами между ними, в конце которых, у стенки, стояли крохотные тумбочки с двумя маленькими полочками в каждой. Зекам отводилось по полочке для кружки, купленного в ларьке маргарина и прочих [56] мелочей. Всюду стиснутость, сдавленность. По обе стороны от прохода, в который я захожу, внизу стоят кровати латышей. Подо мной спокойный пожилой электрик Аксельбаумс с продолговатой, идущей гребнем, как крыша, свежевыстриженной головой. По другую сторону прохода – сравнительно молодой латыш (не более тридцати) с богатырским сложением викинга. Обмениваемся скупыми сочувственными фразами типа:
– Все сажают и сажают…
– Ничего, их китайцы научат скоро…
Аксельбаумс – партизан с двадцатилетним сроком, полжизни в лагере. Второй сел недавно, срок пять лет, подробностей не раскрывал. Его фамилия Эрстс. Спешу выскочить наружу из спертой атмосферы барака. Крутой запах человеческих испарений, портянок, дыхания. Два метра на человека – это не шутка. При такой плотности грубо, натурально ощущаешь все запахи, все выделения человеческих организмов, сливающихся в сплошную, тяжелую вонь.
Раздается звон железного рельса. Что это? Возвращается с работы первая смена, в которой занята основная масса немногочисленной молодежи. Быстрые, короткие знакомства. Иван Сокульский – молодой украинский поэт из Днепропетровска с характерным крутым лбом. Саша Романов – худенький мальчик с оттопыренными ушами. Выясняю адрес лагеря, чтобы написать жене. Мордовская АССР, Зубовополянский р-н, поселок Лесной, учреждение ЖХ 385/19. Зеки говорят проще: «девятнадцатая зона», «у нас на девятнадцатой…»
Белобрысый, круглолицый, улыбчивый Сережа Хахаев приглашает нас на «ритуальное» чаепитие, которое должно состояться вечером: так принято встречать и расспрашивать новичков.
Выясняется, что в лагере полно полицаев, карателей 2-й мировой войны – отсюда масса стариков и неприятная, подозрительно-настороженная атмосфера «сучьей зоны». Впрочем, половина стариков – партизаны, которые сражались за национальную независимость. Эти – совсем другие люди, приличные, стойкие в преобладающем большинстве.
Ужин. Строем, по отрядам, ведут в столовую. Раздатчик шлепает в миску черпак застревающей в горле каши. Глинистый отвратительный хлеб. Маленький кусочек жареной рыбы, которая на фоне всего остального кажется сказочно вкусной. Кругом жующие физиономии, некоторые чавкают. Мент расхаживает между длинными столами и скамьями, пристально заглядывает в рот «подозрительным» личностям. Не так-то [57] просто есть, когда на тебя в упор уставилась пара ненавидящих глаз. Люди задевают друг друга локтями от тесноты. Жить тут можно, только инстинктивно стараясь не замечать эти давящие «мелочи». А они наползают на тебя со всех сторон, не хотят дать передохнуть.
После ужина – мертвое время. Зеки снуют по лагерю, как неприкаянные. И время есть, и использовать его всерьез (спать завалиться или над книгой поработать) невозможно: не успеешь сосредоточиться, войти во вкус, как раздается удар в рельс: поотрядно строиться на проверку. Сплошное расстройство. Время специально разбито так, чтобы и после работы не оставалось большого монолитного куска: сначала в рабочей зоне ждешь съема, потом жди построения на ужин, и вот теперь – проверка (апель). Кто замешкался в библиотеке, не услышит рельс – опоздает, неприятности, да и зеки тоже не похвалят за затягивание апеля. Полицаи от скуки выстраиваются заранее. Когда по звону собираются остальные, они уже шипят: мы, мол, стоим, вас дожидаемся. Один, маленький полицай-заморыш, причитает сдавленным верещащим голосом садиста:
– Вот бы мне бы их в науку отдали, я бы их научил, так научил…
Другие посмеиваются, а он серьезно, со злобой.
Менты, не торопясь, начинают считать нас, сбиваются, путаются, переругиваются с зеками. Наконец, отпускают: «разойдись!» Всеобщий вздох облегчения, топот ног в разные стороны.
Я спрашиваю у кого-то из молодых, что это зачитывали во время проверки: из-за шума и удаленности ничего не слышал. Оказывается, недавно была голодовка протеста в связи с введением нового правила: ходить строем в столовую. Ничего не добились, но нескольких ребят посадили в БУР и вот теперь отправляют во Владимир, о чем торжественно сообщают остальным.
Группа молодежи, человек десять, собирается за баней, чтобы «интервьюировать» нас. Кто-то уже заварил в закопченном бачке кофе (откуда здесь?), кто-то принес в стеклянной банке дешевые кисловатые конфеты-«подушечки» (дешевле не бывает, по рублю за килограмм). От таких конфет даже в малом количестве людей мучит изжога.
Из бачка, прикрытого прожженной рукавицей для сохранения тепла, время от времени доливают напиток в алюминиевую кружку, которая ходит по кругу. Мы все расселись, разлеглись на траве и по очереди отпиваем по два глотка, передавая кружку дальше. Таков зековский обычай. Пьем и беседуем. В вечернем воздухе, в мягких, косых лучах [58] заходящего солнца приятно среди наступающей прохлады прихлебывать горячий кофе, аромат которого сливается с запахом травы. С одной стороны, – стена бани, с другой, – запретка. Недалеко, там, где забор образует прямой угол, – вышка с солдатом.
Нас расспрашивают о подробностях дела, спорят по идейным вопросам.
– Демократия? Права нации? – пренебрежительно фыркает Евгений Вагин.
– Вы сионисты?
– Да.
– А как насчет протоколов?
– Каких протоколов?
– Сионских мудрецов, неужели не ясно?
Вот это да! Я поражен самым большим сюрпризом сегодняшнего дня. Оказывается, среди актива политзаключенных сидит человек, молодой, интеллектуальный, преспокойно рассуждающий о «протоколах»! Ну, не думал, не гадал…
Начинаю расспрашивать Вагина, чего же он хочет. Никаких демократий, никакой национальной независимости, святая Русь с крестом на белом знамени в еще более расширенных границах.
Главное, – чтобы государство было христианским. На шее у Вагина демонстративно болтается крест. Его маленькое, совсем курносое, скуластое лицо со слегка раскосыми голубыми глазами чем-то напоминает портреты царской фамилии.
Сейчас он в Америке, преподает литературу в каком-то высшем учебном заведении, для выезда просил израильский вызов…
Молодой узбек возмущенно спрашивает:
– А куда же деваться нам, мусульманам, в вашем православном государстве?
Вагин, усмехаясь, отвечает нечто неопределенное, а про себя, должно быть, думает: «Ничего, обр-р-ратим…»
Среди своих, как я узнал позже, они решают национальный вопрос очень бодро: «Хохлов – на конюшню: пороть! Жидов? – в печь!»
Но тогда я еще этого не знал и потому наивно спросил:
– Ну хорошо, флаг вы перемените, и гимн, и название. А реально-то, что вы собираетесь менять? Что, кроме одеяний?
Вагин посмотрел на меня своими голубыми раскосыми глазами, в которых удивление смешивалось со злобой. Он не знал, что ответить.[59]
Это был наш первый и последний контакт. Вагин возненавидел меня лютой ненавистью.
Большинство собравшихся было скорее на моей стороне. «Ну и крестоносцы…», – думал я, глядя на болтающийся крест. Кличка к ним пристала. Для характеристики этой публики стоит привести еще маленький штрих, подмеченный мной позже. После фильма о современной молодежи, не знающей, чего она хочет, я на проверке, в строю, случайно услышал обрывок разговора. Ивойлов, друг и соратник Вагина, делился своими впечатлениями и выводами:
– Господа, нужна война. Война нужна, господа.
Отражают ли они настрояния русского народа? Увы, да.
Еще в уголовной тюрьме мы узнали, насколько легко убедить русского в неправильности внутренней политики. Но что касается политики внешней и национальной, – тут русские почти всегда являются еще большими экстремистами, чем правительство.
В лагерях лишь в последние годы появились считанные русские демократы, которые четко высказываются за независимость Украины и других порабощенных народов.
До этого разные русские группы ожесточенно спорили, по сути, о цвете флага и мотивировке деспотии, в необходимости которой никто не сомневался.
– Ты не знаешь «русского Ивана»! – наставлял меняв тюрьме один старый чахоточный уголовник-рецидивист. – Его двадцать лет можешь морить в тюрьме, а потом дай стакан водки и хвост селедки, так он схватит автомат и побежит защищать свою счастливую жизнь!
21. КАЗНЬ СЕРОСТЬЮ
Если меня спросят, что из пережитого в лагере я ощущаю самым страшным, то, после некоторых раздумий, я вынужден буду ответить, что все конкретные ужасы, все конкретные события бледнеют и растворяются в бесконечном ужасе общего серого фона лагерной жизни. Тут как раз фон страшнее всего, страшнее смерти. Смерть бывает один раз, а тут – бесконечное умирание. Одинаковые серые одежды, одинаковые секции с двухъярусными рядами кроватей, одни и те же разговоры, лица, морды, униформа, один и тот же забор, одни и те же ворота, один и тот же развод, проверка, шмон, подъем, отбой, завтрак, проверка, [60] шмон, подъем, отбой, завтрак, ужин, и опять все сначала. Те же вороны каркают на заборе под нависающим, давящим сознание, бесконечно серым осенним небом. И опять звон рельса, и опять надо двигаться по привычному кругу, как бессмысленный, раз навсегда заведенный автомат. Не недели, не месяцы, а годы и годы. Только годы и ощущаешь в этой веренице. Смена снега и зелени – как оборот стрелки часов. Еще один круг пройден, еще одно кольцо удава сползло с твоего тела, с твоей души. Сколько колец еще осталось? Пять? Четыре? – Ты счастливец! У других их было по двадцать пять, по тридцать…
Символ лагеря – кобыла, развозящая пищу. Понуро шла она, почерневшая от такой жизни кляча. Кивая головой, тянула за собой тяжелую телегу. Никакого извозчика при ней не было. Она шла со своей телегой сама по совершенно пустым дорожкам, как вчера, позавчера и третьего дня, в одно и то же время, по одному и тому же маршруту, в полном одиночестве, и только кивала головой; будто сама с собой разговаривала.
Поговаривали, что кое-кто из зеков использует ее вместо женщины. В казни серостью и состояло главное «перевоспитание», а не в политзанятиях, которые мы бойкотировали и на которых безграмотный офицер МВД вещал послушным полицаям:
– Гольда Мери поехала в США за «Фантомасами»!..
Отрядный капитан Тишкин, казавшийся не то замороженным, не то заспиртованным, на вопрос о грубейших нарушениях в лагере Всеобщей Декларации Прав Человека недоуменно прерывал:
– Так она же написана для негров!
Впрочем, чего требовать от забитого мордовского тюремщика, когда в Ленинграде на политическом процессе над Квачевским и Гендлером судья грозно вопросил одного из подсудимых:
– Это вы автор антисоветского документа «Всеобщая Декларация Прав Человека»?
Моим соседом по верхнему ярусу оказался украинец с Кубани Владимир Гринь. Как и все кубанские украинцы, потомки высланных туда из Запорожья Екатериной II, он был записан «русским», хотя по-станичному говорил на таком чистом украинском языке, какой и на Украине редко услышишь. И это без школ, без всяких национальных учреждений!
Был он высокий, черноглазый и черноусый, необычайно смуглый, как турок.[61]
Сердце мое колотилось от крепкого кофе и впечатлений, я ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Протопали по бараку коваными сапогами менты, осветили нас фонариками, ушли. Ночная проверка окончена.
– Не спишь, земляк? – шепотом спрашивает Гринь.
– Нет.
– Это от кофе, с непривычки. Если хочешь, выйдем на воздух, поговорим.
Усаживаемся на крыльце. Говорим обо всем на свете, о еврейском и украинском национализме, о религии, о лагере.
Возвращаемся продрогшие, каждый спешит спрятаться под одеяло. После открытого неба особенно нестерпимо бьет в нос спертая вонь переполненного, храпящего барака. В эту ночь я разве что слегка задремал.
22. ИМПЕРИЯ
«Осужденный, осуди свои националистические взгляды!» – висел огромный плакат в столовой. Он выделялся даже среди лагерного изобилия плакатов и лозунгов о счастьи свободного труда и неотразимых прелестей Партии. Так же, как и социальная демагогия Москвы призвана скрыть ее величайший классовый гнет, так и интернациональная болтовня служит маскарадным костюмом величайшей колониальной империи.
В лагере это видно, как на ладони. Основной контингент политзеков – это старые партизаны, с оружием в руках отстаивавших свою страну (Украину, Литву и др.) от советских оккупантов, и молодые националисты, которые борются за независимость, вооруженные лишь словом.
Украинцы рассказывали мне о любопытных спорах с лагерными шовинистами.
– Вы не должны предъявлять к нам никаких претензий. Ведь Советский Союз – не русское, а жидовское государство.
– Ну, так Украина от него отделится?..
– Нет, мы вам этого не позволим!
С горьким смехом сетовали украинцы на подобную логику:
– Ведь с нами же вместе сидят и при этом они нам большие враги, чем коммунисты. Если они, не дай Бог, придут к власти, с нами будут расправляться еще беспощаднее. У шовинистов своя логика: Украина, [62] мол, это тоже Русь, часть России, украинский язык – не язык, а диалект.
– За триста лет русского господства на Украине, не переставая льется кровь борцов за независимость! Какие еще нужны доказательства?
– Это все жидовские происки!
Если бы евреев в России не было, их нужно было бы изобрести.
Наиболее умные антисемиты рассуждают между собой: в народе всегда есть борьба, склоки, стычки, недоразумения, тем более в такой громоздкой и беспорядочной стране, как Россия. Зачем же нам то и дело тузить друг друга, разрушая с таким трудом добытую империю, когда можно все вспышки ненависти направлять на жидов: побьют их, пограбят и лет на десять успокоятся. Национальная разрядка. Зачем выпускать евреев? Ни в коем случае!
А потом, когда этот затравленный, обезумевший народ все силы своего духа обрушит на поиски выхода – любого выхода – из духовной газовой камеры, его опять начнут обвинять, на этот раз не наигранно: что же это, они, мол, вмешиваются в нашу историю? Пусть теперь исправляют то, что наломали!
У украинцев к русской истории свой подход. Они считают, что даже имя страны у них украдено. В древности Украина называлась Русью, и не было другой Руси. На территории нынешней России жили угро-финские племена, остатки которых – нынешние мордвины, коми-пермяки, ханты-манси, вепсы. Теперь это островки, а тогда было сплошное море, в которое вкраплялись островки славянских пришельцев. Названия говорят сами за себя: Пермь – раньше была угро-финским государством и именовалась «Пермь Великая», Ильмень, Чудское озеро, Ока (по-фински река), Муром (название угро-финского племени мурома), даже Москва (на одном из угро-финских наречий – «гнилая вода»). Однако угро-финские племена нынешней России – это не финны или венгры. Самая сильная часть этой этнической группы прорвалась из Азии в Европу. Зпадный предел ее распространения – это маленькие, но этнически необычайно стойкие народы: венгры, финны, эстонцы.
Я уезжал из СССР через Чоп, и меня поразило, как венгерское меньшинство придает Закарпатью свой колорит.
В результате эстонского сопротивления (от партизанского до гордого молчания в ответ на заданный по-русски вопрос), эта самая маленькая республика Прибалтики осталась менее колонизованной, хотя расположена под боком у Ленинграда. Финнов достаточно характеризует героизм 1940 года, когда финский муравей не отступил перед русским [63] слоном. Совсем не то – удмурты или же мордвины. Нет в них этой силы духа, этого неодолимого национального самосознания. Отставшие от более сильных, рассосавшиеся по лесам и болотам племена говорили на разных диалектах и ничего не могли противопоставить государственному началу немногочисленных славянских пришельцев. Монгольское нашествие, как буря, смешало и перекорежило племена, и среди всеобщей сумятицы государственные начала и связанные с ними язык и религия ассимилировали все вокруг. Монголы только взимали дань, они не оккупировали территорию России. Украина, где было больше степей, пострадала от монгольской конницы гораздо сильнее. Ее полумертвое тело переходило из руки в руки. А Москва среди лесов и болот поднялась на развалинах умирающей монгольской орды, не выдержавшей бремени собственных захватов.
Московский народ образовался в результате торжества государственного начала над этническим, и теперь великодержавность стала его национальной идеей. Вся жизнь государства была подчинена задаче его расширения. Все унаследованные средства – монгольские, византийские, европейские – годились для этого.
Разные путешественники в разные времена сходились на том, что Московское государство – царство аморальности и преступности. Внутреннее отвращение к преступлению не может быть заменено никаким законом; никакая государственность не заменит этническое начало, душу народа. Государство получается внешним, искусственным, наносным, нечеловеческим. Внешнее превращается в пустую оболочку, ничем не наполненную. И эта оболочка по своим нечеловеческим законам растет, расширяется, подминает все новых людей, племена, народы, переваривает их и устремляется дальше, за свежей кровью… Пала Тверь, давний соперник Москвы. Подмята Рязань, как ни старалась она вступать в любую антимосковскую коалицию. Дошла очередь до Великого Новгорода. Новгородская демократия боролась не на живот, а на смерть. История колонизации Новгорода удивительно напоминает то, что позже началось на Украине. Восстания, их кровавое подавление, резня за резней. Вырывание с корнем и перемешивание племен по ассирийскому образцу, прямое заселение опустошенной земли московитами. Империя считает своим священным и неприкосновенным рубежом любую землю, на которую ступил сапог ее воинства. Падает и растворяется Пермь Великая, теряют независимость мордвины, горит Казань, Астрахань, тяжелая лапа подминает Сибирь. Пылают сакли Кавказа, трехгранным штыком насквозь пронзен Туркестан.[64] Всюду истребляются сильные духом, порабощаются и ассимилируются слабые. Московский народ уже теснит далеких китайцев на востоке, литовцев, шведов, поляков, немцев – на западе, турок – на юге. Колоссальный геополитический вес империи позволяет заключать выгодные союзы, нейтрализовать опасность, натравливать одних на других, урывать все, что плохо лежит.
Раньше западным противовесом Москвы было Великое княжество Литовское, теперь – Соединенные Штаты Америки. На запад от Америки – только Тихий океан.
Не было в мире такого народа, который способен был бы оккупировать бескрайние сугробы России. Она была заведомо непобедимой, поражения ее были только тактическими. Иногда империя, то тут, то там, откатывалась назад, но быстро оправлялась, преобразовывалась, собиралась с силами и снова наступала… С учетом естественной пульсации этот процесс никогда не прекращался и не прекратится. Все «великие преобразования» России – только внутренняя перестройка имперского организма для дальнейшего расширения.
Любое крупное преобразование, как правило, было результатом имперских поражений на внешних фронтах.
Только неспособность империи выполнять свое главное жизненное назначение порождала реформы.
Иван Грозный, Петр I, Иосиф Сталин, несмотря на всю разницу одежд, были преемниками, продолжали одно дело. И никому не дано вычеркнуть их имена из имперских святцев. Потомки в конце концов прощают любые зверства, ибо только зверством строится империя, и только удесятеренным зверством она удерживается.
Можно формулировать самые благородные теории, но разве слова остановят страшную историческую инерцию имперского натиска? Полтысячелетия направляет он экономику, социальные структуры, стиль жизни, мысли и чувства людей.
Попробуй удержать эту разогнавшуюся махину! Организм империи, как волк, не может стать овцой.
Жизнь человеческая – малая минута для истории, и перемены малозаметны для человека. Но если сжать столетия до минут и показать на экране карту с расползающимися все шире границами империи, с погибающими один за другим народами, – картина будет страшной. Вместе с народами погибают и люди, погибают как личности, обладающие некой самостоятельной ценностью.[65] Для империи людей нет – есть только «трудящиеся». Именно этим словом именует детей Адама советская пропаганда. Империя для себя самой – единственная ценность. Ее естественное стремление – все остальные ценности либо раздавить, либо превратить в служебные, подчиненные. Поэтому тоталитаризм – естественный результат имперской эволюции. Всякая империя оказывается перед выбором: тирания или самороспуск. Англия, к примеру, выбрала второе. У России не было выбора, так как она никогда и не знала, что такое свобода. Противник империи приравнивается к бешеной собаке. (Вышинский так прямо и выражался.) Но убивать его – нерационально. Пусть изнурительным рабским трудом в концлагерях укрепляет имперскую мощь.
Даже приговоренных к смерти в СССР обычно не расстреливают, а утилизируют на урановых рудниках.
23. ЧУДЕСА МЕДИЦИНЫ
– Что для инородца смерть, то для русского здорово! – кичился старый зек Воронов, умываясь болотной водой.
В лагере мне показали уголовничка по кличке «Могила». Да, уголовников в политлагерях тогда было достаточно, притом самых прожженных, тех, кто среди своих не ужился. Когда в уголовной зоне ему уже нечего ждать, кроме ножа или изнасилования за всякие проделки, часто за неплатежи карточных долгов, он, не долго думая, пишет от руки пару листовок и бросает их в зоне. За несколько нацарапанных, как курица лапой, безграмотных слов уголовник мигом превращается в «особо опасного государственного преступника» и с довеском попадает к политическим.
Могила был маленьким беззубым мужичком с черной бородкой клинышком. Смотрел он на мир необыкновенно скептическим взглядом, был великим циником и наркоманом. Про него рассказывали, что однажды в морге он прелюбодействовал с юным трупом.
Могила глотал по шестьдесят таблеток люминала за раз, и даже не засыпал, «кайфовал», как удав. Такой порцией можно умертвить хороший взвод. Врачи поражались, обнаруживая эти невероятные достижения, не верили, просили продемонстрировать, и уголовнички за соответствующую плату морфием показывали свое искусство… [66]
Питье махорочной настойки в Рязанской тюрьме – детский лепет. «Кайфа» ради авторучки превращаются в шприцы, и кубик воздуха вводится внутривенно. Вместо неминуемой смерти, советского супермена только встряхнет крепким шоком, заменяющим сорокаградусную…
Кровь другой группы – смертельный яд для человеческого организма. Уголовники вспрыскивают себе небольшую порцию кошачьей крови – ради того же шокового «кайфа» – и ничего, выживают… Новая порода! Бывший уголовник П. научился собственными руками перекрывать на своей же шее сонную артерию. Он падал на пол в судорогах. Потом говорил, что мгновения прихода в сознание доставляют ему наслаждение, что ради них он это и делает.
Мне тоже довелось совершить нечто необычное в медицинской практике.
Срок был большой, и я не знал, доживу ли до освобождения. Вокруг – лютая ненависть ментов и их верных помощников – бывших полицаев. Полицаи – бригадиры, нарядчики, мастера – ходили по зоне с советскими газетами и вслух смаковали их:
– Написано ведь, что жиды сами во всем виноваты, а люди из-за них сидят!
Тумбочки бывших карателей ломились от превосходных продуктов, в столовую они могли идти без строя (никто их не задерживал), за различные опоздания никто не наказывал, даже рапортов на них не писали.
Я не помню случая, чтобы кто-нибудь из полицаев попал в БУР. Впрочем, один добыл водку и буянил в пьяном виде. Пришлось вечером запереть его в кутузку, но уже наутро его выпустили.
Эта официальная стукаческая элита лагеря была в зоне хозяином. Некоторых из них, как чекистов, даже менты боялись.
К ним принадлежал и Завгородний, под началом которого я работал. Он был при немцах очень крупным карателем в Харькове. Теперь он снова командовал, дерзкий, уверенный в себе мастер механического цеха и резидент КГБ.
Стоило мне на минуту отойти от станка, как он моментально докладывал. Менты тут же являлись с ревизией. В крохотном цеху я все время был на виду. Завгородний обычно стоял посреди цеха, высокий, облысевший, в синей красивой спецовке, похожей на простой, но сшитый по заказу костюм, и гладил своего жирного кота Ваську. Кот был необыкновенно ленивый, грязный, раскормленный. Он боялся живых [67] мышей. Подавай их ему в жареном виде. Васька был единственным существом на свете, к которому Завгородний был привязан. С людьми он был жестким, не упускал случая сделать гадость.
По отношению ко мне у него было целых три причины для вражды:
1. Я был человеком, а не котом Васькой.
2. Я был евреем.
3. Чекисты меня люто ненавидели.
Когда именно на тебя обращены глаза полицаев и ментов, когда ты постоянно в центре внимания, когда каждый неверный шаг может послужить поводом для жестокой расправы, а впереди еще столько лет – остро чувствуешь себя на грани гибели. Ко времени ареста я уже верил в Б-га, пришел к этому сам. И теперь передо мной во всей обнаженности встал вопрос: готов ли я к смерти? Знак вечного Завета еще не был запечатлен на моем теле. Что делать? Если уж суждено умереть, то надо умереть евреем. Б-г даровал мне решимость в лагерных условиях сделать самому себе обрезание. Даровал изобретательность – как, где, чем осуществить задуманное.
Даровал силу выздороветь, не прерывая обычной лагерной жизни, чтобы никто ничего не заметил.
Особую опасность представляла лагерная медицина, которая могла воспользоваться случаем для «окончательного решения вопроса», так как повод превосходный: «сам виноват».
В качесте ножа я использовал старую ножовку, заточенную на наждаке. Где-то утащил немного йода для дезинфекции.
Облюбовал новенькую пустую деревянную коробку для туалета, которая еще не использовалась и стояла в рабочей зоне.
Для операции выбрал обеденное время, когда все в столовой.
Анестезирующим средством была обыкновенная холодная вода. Впрочем, анестезия оставляла желать лучшего. Дело двигалось медленно, вероятно, из-за импровизированного ножа.
Наконец все было закончено. Я использовал припасенный бинт и с непроницаемым лицом направился к своему станку, где мастер Завгородний уже проявлял признаки беспокойства, нервно поглаживая своего кота.[68]
24. БРАХМАН В БУРе
Как ни берегся я, но БУРа не избежал. Один узник, под настррение, очень хотел со мной поговорить. Это был Иван Курилас, украинец в летах. Я читал его приговор. Сидел он повторно. Первый срок отбыл за партизанское движение (УПА). После этого жил в Тернополе.
– Мне не надо было никого агитировать, – рассказывал он. – Достаточно просто ходить по городу. Жители показывали на меня пальцем: это тот Курилас, который отсидел за национальное движение!
Второй срок не заставил себя ждать. Курилас сказал кому-то, что Украина может и должна быть независимой.
Этой мысли, высказанной в частной беседе, было достаточно для новых пяти лет концлагерей, причем Курилас считал, что счастливо отделался.
Для приговора не нашлось украинской печатной машинки, и он был напечатан русскими литерами. Украинских букв не было. Буква «i» была заменена единицей. И это на Западной Украине! В русифицированном приговоре со смешными ошибками отмечалось, что Курилас клеветал о якобы имеющей место на Украине русификации.
С ним-то я и заговорился в коридоре барака, не обратив должного внимания на отбой. Это имело роковые последствия.
Вскоре меня вызвал начальник лагеря Усов. Он сидел в майорских погонах, пьяный, с помятой красной мордой, злой. Ему не понравилась моя манера держаться в кабинете, и он щедро отвалил мне максимальный срок – пятнадцать суток ШИЗО за то, что не спал после отбоя.
Свой первый лагерный день рождения я встречал там. Как сейчас помню ранний снег за окном и огромную ель, которая высилась, как черная башня, за лагерным забором.
В камере к моему приходу уже были двое: Нархов и Слава Меркушев, которого привели за пару минут до меня с тем же пятнадцатисуточным сроком. Правда, «прегрешений» за ним накопилось больше, но все столь же «серьезные». Оба примыкали к различным антисемитским группкам и встретили меня настороженно. Нархову, однако, требовалось проявлять свой природный артистизм, а Меркушеву – поделиться с кем-то распиравшими его знаниями, и атмосфера постепенно оттаяла.
Нархов то и дело подскакивал к двери, вымаливая у ментов покурить: [69]
– Старшой, старшинка серебряная спинка, дай покурить, уши пухнут! Дай, старшинка, бычок, не выбрасывай!.. Вот спасибо тебе, дай тебе Бог найти хорошую жену!
Нархов был беглый солдат, возвращенец. Сбежал из оккупационных войск в Германии, пожил в ФРГ, вернулся, сел. Почему вернулся? Чего не хватало? Только одного: кнута. Получает эдакий солдатик в Германии зарплату, и глаза на лоб лезут: как, это всего лишь за неделю? Зачем же тогда работать, можно пить-гулять! Парткома нет, никто не остановит. Или стоит незапертый автомобиль – как не угнать его? Даже если есть свой! И вообще, немчура, русского человека не понимают! Русскому человеку чего нужно? Выпить, душу излить! А они… Американцы, опекавшие Нархова, пытались образумить его – тщетно. В конце концов Нархову стали являться чертики. И тогда он понял: так больше нельзя, пора в родное посольство… Теперь сидит на лагерном пайке, белая горячка ему не угрожает. В ШИЗО попал из-за какого-то конфликта по поводу работы. Он хочет одну работу, ему навязывают другую, он отказывается, его слегка наказывают, и все сначала. За время нашего сидения он дважды появлялся в камере и оканчивал срок, а мы все сидели.
В те времена в БУРе еще были сплошные деревянные нары – благо невероятное. Я на голом дереве спал, как сурок, и мне при этом снились необычайно яркие сны. К тому же нам посчастливилось – попалась теплая камера. Я просто блаженствовал, несмотря на голод. Его я уже научился не замечать. Никаких тебе подъемов, отбоев, проверок, разводов, работ, шмонов, строевых «упражнений».
Только там, расслабившись на нарах, почувствовал, в каком напряжении пребывал.
Уже позднее, когда евреев в лагере было много, Ягман как-то разбудил меня, когда я отсыпался после ночных работ. Его испугало мое паническое пробуждение. А причина проста: каждый день надо во что бы то ни стало просыпаться без громких сигналов, ровно в шесть, а в пять минут седьмого у моей кровати уже торчал мент, подстерегающий добычу. Даже спать приходилось в напряжении, в боевой готовности… Недаром Ягман, ранее совершенно здоровый, в лагере спасался нитроглицерином от жутких, парализующих сердечных приступов.
Меркушев был арестован на армяно-турецкой границе и получил 10 лет за намерение покинуть СССР.[70]
В лагере мигом попал под влияние великого антисемита 19-й зоны Вандакурова, которого приближенные звали по отчеству: «Петрович». Этот все мировые учения считал «жидовскими», и признавал только кое-что индийское, смешивая его с нордическим язычеством и нацизмом. Евреев он ненавидел до умопомрачения. Сочинил какой-то гимн русских штурмовиков. В лагерях такие штуки пользовались успехом, так как публика была настолько озверевшей, что издевательскую песню Высоцкого «Зачем мне считаться шпаной и бандитом, не лучше ль податься в антисемиты?..» – принимала абсолютно всерьез и мрачно распевала под гитарный звон. Вандакуров был серьезнее. Он беспрерывно штудировал философию, знал практику раджа-йоги, гипноза, магии. Он чувствовал себя чем-то вроде Антимессии, носил бородку под Люцифера, наряжался в черные обтянутые одежды, был длиннющим, двухметровым глистом, с узким, злым, большим ртом и маленькими голубыми глазками; ходил, слегка сгибаясь в пояснице, склоняясь над собеседником.
Меркушев трепетал перед ним. Не называя имени, он рассказывал, как кто-то напустил на него бесов…
Описывал, как из его неподвижно лежащего тела поднимается красная полупрозрачная рука, как весь он в виде красного призрака выходит из своего тела и смотрит на него со стороны… И такую бурную эмоциональность, такую могучую раскованность ощутил он, будучи красным призраком, что ни за что не хотел возвращаться в тело. И тогда появились бесы… Сначала маленькие – и он пугнул их и отогнал. Но потом появился большой, сильный бес, он наступал, силой загонял его обратно в тело, и вот уже красный призрак погружается в него, погружается с мучительной неохотой, со страшным сопротивлением.
И Меркушев садится на кровати среди спящего барака, отирая со лба холодный пот.
Он тянулся к Индии, которую считал своей духовной родиной.
Часто повторял мантру:
Я – Брахман.
Все – Брахман.
Ко всему мистическому относился со страшным любопытством. Чувствовалось, что он во всем этом новичок, что это обрушилось на него, как лавина, и он, глубоко потрясенный, не может уложить происходящее в сознании, не может придти в себя. Даже лицо его внезапно изменялось до неузнаваемости, изображая потрясающую гамму выражений: от мыслителя до черта.[71] Такими же сумбурными были и его речи, полные острого нервного смятения, напряжения противоборствующих сил.
По его словам, как-то прямо в рабочей зоне, во время обеденного перерыва, он сидел за столом в раздевалке. Вдруг светящаяся линия в палец толщиной пронзила его голову, потянула к себе… Он знал, от кого она исходит… Откуда-то из земли феерически поднимались светящиеся цифры, формулы, неведомые знаки… Он ясно чувствовал, что взамен от него требуют сокровенную часть его «я», чтобы он отказался от самого дорогого достояния своей памяти… Он не захотел, не смог приобретать мудрость такой ценой… Что-то другое вырвал он из души и беззвучно крикнул слова, смысла которых не понимал:
– На, жри! Ключ к истине сердца лежит на Синае!
– Ключ у меня в кармане! – ответила злая сила и отступила от него.
Славе была внушена идея о том, что в мире происходит «многоярусная борьба». Есть могущественные маги и ясновидцы. Каждое государство, каждая мировая сила стремится использовать их сверхъестественные способности, взять их к себе на вооружение. А поскольку эти гипнотизеры, ясновидцы и маги обладают разнообразными уровнями сверхчеловеческих возможностей, получается многоступенчатая иерархия. Между такими иерархиями идет многоярусная борьба на всех уровнях… Слава не все договаривал, но из некоторых намеков я понял, что в его глазах эта борьба идет, по сути, между евреями и арийцами, причем к государственным границам она имеет весьма слабое отношение.
– Как же я, еврей, об этом ничего не знаю?
Слава хитро усмехался, шутливо грозил пальцем: знаешь, мол, только притворяешься.
– И, потом, истина не демократична, она открывается тебе человеком, стоящим на более высокой ступени, через избрание и тайное посвящение, а не через треп или книжную макулатуру…
На это трудно было возражать, так как невозможно опровергать неведомое. Когда в центре мировоззрения стоит тайна – оно непоколебимо. Это очень по-русски…
Потом он сглаживал острые углы, выглядел очень дружелюбным, предлагал обучить меня йоге, магии, но я отказывался, ссылаясь на библейский запрет.
– Как узник, я не могу не стоять за свободу – рассуждал Слава, – [72] но как философ, я сторонник общества, построенного по образцу организма…
Тогда я высказал ему часть накопившихся у меня мыслей на эту тему. Мы так долго сидели одни в четырех стенах, что невольно между нами установился более глубокий внутренний контакт, чем просто поверхностные разговоры.
Организм состоит из более мелких живых организмов (клеток). Клеткой общества является человек. Однако общество – это далеко не организм, дальше примитивного обмена веществ дело в нем, по сути, не продвигается. Отличительная черта организма – несравненно более высокий уровень поведения, чем у составляющих его клеток. Уровень же поведения государства нисколько не умнее, чем у отдельного человека, наоборот. Государство только физически больше человека. В чем же первопричина этого различия? В том, что между клетками организма проходят не менее интенсивные потоки информации, чем внутри самих клеток. Иными словами, индивидуальные «сознания» клеток распахнуты навстречу друг другу, и их взаимное слияние порождает несравненно более высокое сознание целого, организма.
Государство же объединяет людей скорее механически, что с наибольшей полнотой проявляется в армии. Какое начальство может координировать действия подчиненных так искусно и оперативно, как арфист – движение своих пальцев? В общественной жизни все наоборот: неуклюжесть, неповоротливость, диссонансы. Люди разделены воздушным барьером, для общения им требуется звук, издаваемый механически действующими органами. Этот канал роковым образом ограничивает количество информации, передаваемой в единицу времени, по сравнению с молниеносно действующими каналами внутри организма. Отсюда порочность коллективизма: люди отказываются от самих себя ради гораздо более низкого уровня механического (а не органического) целого. Высшее полностью приносит себя в жертву низшему, пленяясь его количественными, а не качественными показателями.
И, однако, общество все более приобретает вид органического тела, у которого не функционирует мозг. Как в едином теле, растет специализация и взаимосвязанность частей, потоки веществ и информации. Но нет высшей силы, способной упорядочить эту сверхчеловеческую лавину. В результате развитие несет в себе все больше черт хаоса и развала, одно из проявлений которого – угроза экологической катастрофы.[73]
Связи человечества с природой теперь настолько интенсивны и многообразны, их последствия настолько неисчислимы, что никакой человеческий мозг не может охватить даже перечня исходных данных роковой задачи. Множество же мозгов не может эффективно скоординироваться из-за неповоротливого канала связи между ними.
Остановить развитие общества тоже невозможно, и слово «катастрофа» у всех на устах.
Из этого тупика есть единственный выход: установить непосредственную связь между мозгами людей с помощью радиосигналов, которые преобразуются в электрические, поступающие непосредственно в мозг, и наоборот, минуя обычные органы речи. Постепенно выработается особый язык, электрический язык мыслей, не обремененных звуковой печатью; язык столь же насыщенный и эффективный, как тот, с помощью которого координируют свои действия различные части нашего тела. И тогда общество станет сверхорганизмом, настолько недосягаемо мудрым и совершенным, насколько мы мудрее и совершеннее инфузорий.
Кто знает, не станет ли оно вместилищем Бога, не раскроется ли перед ним мир иной со всей мудростью душ усопших?
Современное состояние науки и техники уже позволяет двигаться в этом направлении, тем более, что другого способа избежать катастрофы – нет.
Человечество могло бы функционировать как единый сверхмозг, по сравнению с которым одна голова то же самое, что нейрон по сравнению с мозгом.
Единственная нетехническая преграда должна быть преодолена при этом: мизантропия, взаимная неприязнь и ненависть между людьми. Нельзя соединиться в «организме» без взаимной симпатии и взаимного притяжения.
Пока я излагал Славе свою точку зрения, он почувствовал, что его опять пронизывает та же светящаяся линия. Он стоял внизу у двери, на бетонном полу, а я расхаживал на деревянном возвышении на фоне зарешеченного окна. Пара магических кругообразных движений рукой – и линия устремляется от него ко мне, охватывает меня с ног до головы дрожащим светящимся ореолом – и вот уже Слава слышит мои слова раньше, чем они слетают с губ!
Я не вижу этого, только чувствую как бы дуновение зла. Слышу дьявольский хихикающий смешок сокамерника, вижу его инфернальное бесовское лицо и замолкаю, замыкаюсь.[74]
На глазах моего соседа невидимая для меня линия распадается на светящиеся кольца, они рассыпаются искрами и исчезают. Все приходит в обыденное состояние…
В последние дни Слава собирался внушить мне кошмарные сны. Однажды приснилась мне сумеречная улица, спускающаяся куда-то вниз. Оттуда навстречу мне поднималась старуха, от которой, как от смерти, исходил мистический ужас. Но в этот момент будто кто-то специально разбудил меня. Я открыл глаза в абсолютно бодром состоянии, улыбнулся, повернулся на другой бок и снова уснул. Больше ничего страшного мне не снилось.
Слава и днем обещал вызвать ко мне бесов, шаманил вовсю, но черти ко мне не явились.
25. ЕВРЕИ
Большинство верующих держались в лагере достойно. Но не все.
Был, среди прочих сектантов, «виновных» в том, что верили в конец света, один высокий хромой мужик, демонстративно, стоя молившийся в столовой перед едой. Он активно обращал в свою секту христиан других направлений, бил вместе с ними земные поклоны за бараком. Но что-то было в нем ненастоящее, неискреннее. Его крупное лицо с полуприкрытыми веками было постоянно чем-то осенено – не то святостью, не то хитринкой. Однажды он подошел ко мне с бессвязными вдохновенными речами.
– Свет с неба и слова, – сходу объявил он, запрокидывая лицо с полуприкрытыми веками. – «Говори с этим израильтянином, он сын Авраама, Исаака и Иакова, в нем нет лукавства, он придет к истине!»
Я, признаться, был здорово ошарашен эдаким способом знакомства.
– Придет время, все будете в Палестине! – торжественно провозгласил хромой и исчез, а я остался стоять, как соляной столп.
В другой раз он тоже появился внезапно, стал рассказывать о том, как страдал за веру, вдруг поинтересовался, не готов ли я признать Иисуса.
– Ничего, ничего, не все сразу, – подбадривал он меня, – пойдем вон туда.
В укромном уголке он стал демонстрировать мне «дары святого духа». Начинал стандартным поднятием руки, запрокидыванием головы и словами: «Свет с неба»… [75]
Потом с сомнамбулическим видом этот полуграмотный мужик без запинки витийствовал на разных языках: европейских, восточных.
В третий раз мы встретились с ним в рабочей зоне при необычных обстоятельствах. Приехал лагерный прокурор Ганичев и вызывал в кабинет при одном из цехов тех, кто писал жалобы. Я дождался своей очереди, как вдруг подошел работавший в этом цеху хромец и поинтересовался, что я здесь делаю.
– Жалобу написал, что посадили ни за что…
– Свет с неба… Слова: скажи прокурору: «Я еврей, хочу уехать в Палестину, за это меня посадили, освободи меня». Молись, поможет!
– Так ведь я не о суде писал, а о пятнадцати сутках!
Миссионер сник, понял, что попал впросак, и с тех пор оставил меня в покое.
Не его мнимый «Новый Израиль» вскоре стал лагерным центром притяжения и отталкивания, а Израиль подлинный. Под новый год (накануне наступления 1971), я как-то вечером лежал в постели и вдруг услышал по громкоговорителю о самолетном процессе. Ряд еврейских фамилий, суд, два смертных приговора… Меня охватила такая ярость, что ногти впились в ладони… Зона напряглась в ожидании… Несколько раз разлетались «параши» (слухи): евреев привезли! Оказывалось, – липа. Где-то в феврале появился Боря Пенсон. Какая это была радость! Встреча, знакомство, горячие рассказы… Он все еще там… Потом по два, по три, по одному прибывали Шепшелович, Альтман, Гальперин, Кижнер, Гольдфельд, Ягман, Богуславский, Бутман, Азерников… Газеты, журналы были полны антисемитского яда, желчи, свистопляски. Каждый день печатались вопли очумевших от страха колаборантов. Пресса жонглировала судебными покаяниями, заливалась хриплым лаем. Надо было сказать и нам свое слово. Мы решили в годовщину смертных приговоров начать недельную голодовку с требованием: «Отпусти мой народ». Предстояло связаться с другими лагерями, передать сведения на свободу, попросить израильское гражданство (заочно), подготовить официальный отказ от гражданства советского. Все это было проделано успешно и в полной тайне, так что еврейская голодовка 24 декабря 1971 года в нашей зоне разразилась, как гром с ясного неба. Перед этим была эпидемия тяжелого вирусного гриппа, и я валялся с сильным жаром в одном из школьных классов лагеря среди множества других больных. Пришлось ускоренно выздоравливать, чтобы успеть на «акцию».[76]
В день начала голодовки я был в самом праздничном настроении. Вокруг бегали стукачи, со всех сторон спрашивали, сколько дней мы задумали голодать. «Посмотрим», – отвечали мы, но стукачи не унимались.
Голодовка была прекрасно подготовлена со всех сторон, в том числе и со стороны возможных репрессий. Мне довелось узнать о существовании тайной инструкции (именно ими живет лагерь), в соответствии с которой голодающие обязаны первые три дня выходить на работу. Благодаря этой инструкции появлялась формальная возможность жестокой расправы: за первый день голодовки (невыход на работу) – лишение ларька и посылки, за второй день – свидания, за третий – посадка в карцер, где голодающий оказывается без постели, без теплой одежды, часто в холодной камере. Там и голодай себе. Кроме всего прочего, это накапливает «материал» для последующей отправки во Владимир. Мы же, объявив голодовку, вышли на работу. Как ни тягостно это было, альтернативы гораздо хуже.
На четвертый день голодовки нас вынуждены были отправить в изолятор с постелями, так как наказывать было не за что. Со мной в одной камере рядком лежали Боря Пенсон, Харик Кижнер, Виктор Богуславский. Другие камеры тоже не пустовали. Лежим не на дереве, а на собственных матрацах, укрываемся одеялами, как короли! И тут начинается новое несчастье: о чем бы ни зашел разговор, Боря с Витей неизменно умудряются переводить его на жратву: где, кто, когда ел что-нибудь повкуснее…
– Ребята, уж лучше про баб!
Но бабы на пятый день голодовки не котируются. Начнет Виктор рассказывать о каком-нибудь приключении и неведомыми путями незаметно переходит к тому, как и что она готовила, и опять все с начала…
Мент три раза в день вносит в камеру еду, она у нас под носом с утра до вечера.
В соседней камере у Левы Ягмана начался сердечный приступ. Камера закупорена, духота, людей битком, а мент даже кормушку отказывается открыть в качестве отдушины.
– Красные нацисты! – кричим мы, у кого еще есть силы. Стучим в дверь, требуем врача. Уговариваем Леву снять голодовку – тщетно.
Из последних сил поем про Золотой Иерусалим… Никто, ни один еврей не сошел с дистанции. Все выдержали ровно семь суток. Как только [77] объявили об окончании голодовки – в ту же минуту нас погнали на работу.
26. УКРАИНЦЫ
Если евреи были самой сплоченной общиной, то украинцы – самой многочисленной. Среди них были такие, что пересидели и в польских, и в немецких, и в русских тюрьмах за одну и ту же идею национальной независимости. Некоторые сидят по тридцать лет, прошли ужасы Колымы, чудом выжили и не сломались. Уже за одно это – они великие герои. Как жаль, что за долгие годы многие фамилии забылись, только лица остались в памяти. Помню имена Покровского, Степана Сороки, Бесараба из старых борцов; Сокульского, Шевчука, Горбаля, Заливаху, Дяка, Лесива – из молодого поколения. Впрочем, это только по девятнадцатому лагерю, по Мордовии. Впереди уральские и владимирские встречи.
– Да лучше бы я под турком оказался! – говаривал шутливый Иван Гурилас.
– Что за подлая пропаганда! – возмущался другой. – Их послушать, так еврейские пули мужчин обходят и специально разыскивают детей, только русские летят куда надо! Им теперь страшно нужно на евреев все свалить, а самим снова выплыть вместе с империей!
– О, Юрко вже веснуе! – приветствовал меня добрый, простой Бесараб, когда я во время обеденного перерыва вскапывал крохотную грядку под укроп. (В скобках замечу, что летом все огородики были вытоптаны ментами. Единственным источником витаминов оставалась обыкновенная трава. Трудно поверить, чего только ни ели люди в лагере! Лебеду и поганки, крапиву и… цветы!)
Сколько рассказов об украинской истории довелось выслушать! Пожалуй, стоит остановиться на последнем ее разделе: Украина под советским ярмом.
До революции численное соотношение русских и украинцев было 1,5 : 1.
Теперь – 3:1.
При этом рождаемость у русских не выше, чем у других народов.
Украинцы считают, что уже «раскулачивание» было в большой степени своеобразной формой антиукраинизма, так как в Центре русские села были сплошь бедными. Острие было направлено против зажиточных [78] украинских сел и станиц южной полосы. Параллельно большие районы с преобладающим украинским элементом (Кубань, Слободская Украина) присоединились к РСФСР, и все украинское в них искоренялось подчистую.
Коллективизация была органически чужда индивидуалистичному, хозяйственному украинскому началу. Самое сильное сопротивление коллективизации встретила на Украине – и именно там она унесла наибольшее количество жертв. Затем последовало еще более страшное событие: искусственный голод 1933 года.
Украинский чернозем дает такой урожай, что украинцам его может хватить чуть ли не на два года. Но в 1933 году весь хлеб украинских амбаров вывозился подчистую. Людей намеренно обрекали на голодную смерть, только усилили гарнизоны на случай восстаний. Вымирали целые села. Жертвы исчислялись несколькими миллионами. Украинцы считают, что подвластная Москве Украина утратила треть населения в результате этого физического геноцида, направленного на подрыв биологической силы нации. Одновременно московская коса регулярно выкашивала все таланты, весь интеллектуальный цвет народа. Оставлялись готовые на все предатели и темная запуганная масса.
Так пролагалась дорога сплошной русификации и колонизации Украины.
Теперь применяются более утонченные методы, связанные с паспортной системой. Украинцам из окрестных сел очень трудно прописаться в Киеве, во Львове. Не прописывают! Зато настойчиво предлагают ехать на Дальний Восток, в Казахстан: там и квартиру дадим, и пропишем, и работой обеспечим!
Может быть, нет квартир? Есть! Русским солдатам, заканчивающим срок службы на Украине (солдат, как правило, направляют служить вдали от своей родины), настойчиво предлагают: оставайтесь жить тут, во Львове, квартиру дадим поблизости от центра города, обеспечим, поможем.
Так население империи искусственно перемешивается. Русские в любом уголке имеют свои, русские школы, каким бы ничтожным меньшинством они в этом районе ни являлись. Другие же народы вне своей республики, при любой концентрации лишаются всякого национального корня. В РСФСР в целом ряде районов украинцы преобладают (Кубань, Зеленый клин. Островная Украина), но ни единой украинской школы в РСФСР нет. Другие народы в таком же положении.[79] Экстерриториальным народам вообще ничего не остается, ни грамма национальных прав, ни единой школы на Союз.
А что делать украинцам, переселенным, скажем, в Казахстан? В казахские школы они не пойдут. Остаются русские школы. Сразу три дела: Украина лишается коренного населения, освобождая место пришельцам, украинские переселенцы быстро русифицируются, одновременно помогая превращать казахов в национальное меньшинство Казахстана. Да, казахи уже в своей собственной стране стали национальным меньшинством!
Но и это не все. Наш век – век техники. На Украине практически нет высших учебных заведений в этой области, где преподавание велось бы на украинском языке. На предприятиях вся документация – русская. К этому решающим довеском добавляется общий дух империи, который в тоталитарном государстве чувствуется с особой силой. Этот дух пронизывает все: сферу производственных и личных отношений, пропаганду и воспитание, книги и фильмы. Этот дух витает надо всем, его чувствуешь, как некую мистическую непреодолимую силу. И он, этот дух империи, властно дает понять, что только русское должно иметь место под солнцем. Поэтому всякий, кто думает о будущем своих детей, постарается отдать их в русскую школу, даже если еще осталась альтернатива.
Неудивительно, что в миллионном украинском городе Харькове функционирует одна украинская школа.
Для декорума.
Этноцид – исконная государственная политика Московской империи. Все нерусские должны исчезнуть, сникнуть сгинуть, раствориться. И империя шагает дальше по остывающим трупам погибших народов. Шагает к новым завоеваниям. Но никогда этноцид не приобретал такого размаха и интенсивности, как при советской власти.
Возникает вопрос: как народы еще держатся? Какая сила заставляет их так цепляться за угасающую жизнь?
Я понял это, глядя на евреев, державшихся так дружно и стойко. Это были люди ассимилированного поколения, не знавшие ни языка, ни религии. Но предсмертное состояние нации мобилизовало ее последние силы.
Я понял это, глядя на украинцев с двадцатипятилетними (страшно подумать!) сроками, которые после всего этого бесконечного ада оставались аккуратными, подтянутыми, честными людьми, ни на шаг не отступившими от своей идеи.[80] Украинцы считают, что именно их страна находится в эпицентре имперской политики Москвы не только из-за людских и экономических ресурсов, но и потому, что в идеологическом плане Москва объявила себя историческим преемником древнего Киева. Независимость Украины выбила бы из-под московских ног краеугольный камень необъятных претензий.
27. КАТОРГА
Мой брат не выдержал лагерной жизни и предпочел уехать во Владимирскую тюрьму. Одной из серьезнейших причин его решения была непосильная работа. Его бросали на разгрузку бревен. В морозные зимние ночи он должен был сбрасывать тяжеленные бревна с приехавшего в зону огромного, переполненного товарного вагона. Он был неуклюж, а работа опасная. Ничего не стоило свалиться вниз и разбиться, или внизу попасть под бревно. Работавшие с ним эстонцы почти не понимали по-русски. Для них крик «Осторожно!» – пустой звук.
Перевести его на другую работу категорически отказывались. Велвл стал ее саботировать. Сидел в раздевалке и не выходил. Его отрядный, капитан Тишкин, прибегал, кричал, требовал.
– У меня нет спецобуви, – отвечал Велвл.
Тишкин бежит за сапогами. Велвл примеряет их и спокойно отвечает, что надеть не может, так как они хороши лишь в длину, но у него широкая нога, и с боков давит. Озверевший Тишкин становится на колени, силой пытается натянуть сапог на его ногу и при этом орет:
– Вы чего издеетесь?
– Не издеетесь, а издеваетесь, – невозмутимо поправляет Велвл.
Естественно, он попал во Владимир, где за полтора года пребывания заработал атерому и начал терять зубы в двадцатилетнем возрасте.
Мне с работой тоже «не везло». Первое время, на жестком поводке у Завгородного, это было психологически невыносимо. Несчастный случай помог мне. Гендлер, зек, работавший в другом цеху, получил травму. Работал он по дереву, с помощью фрезы делал широкую выемку в футляре для настольных часов. Фреза вращалась с бешеной скоростью, до 18.000 оборотов в минуту, и ничем не была ограждена, вертелась под руками, в самом центре операционного поля. Как-то его рука попала под фрезу, от полученного шока он упал и с ужасом увидел, как [81] вдоль колеи для вагонетки течет его кровь. «Эдак она далеко утечет», – мелькнуло у него в голове. Ему повезло: кость и сухожилия остались целы. Однако он ходил с подвешенной на перевязи рукой, и работать на опасном станке было некому. Тогда вместо него туда срочно перевели меня. Эта трудная и опасная работа почему-то давалась мне легко, но она была частью, операцией над последовательно обрабатываемым на разных станках футляром для настольных часов. Мне приходилось делать столько же, сколько выдавали «стахановцы» на предшествующих операциях, а эти полицаи пахали, как звери, доказывали свое исправление, да еще деньгу старались зашибить. И смех, и грех. В конце обеденного перерыва их палец прыгал на кнопке, чтобы ни секунды не потерять после включения тока. Они имели за это массу льгот, а я – ни одной. Мое решение было простым: сделал норму – и в раздевалку. Остальные футляры пусть хоть сам черт доделывает, меня это не касается. Мастер-немец бегал к начальству, умолял поощрить мой трудовой пыл хоть как-нибудь – и натолкнулся на непробиваемую стену. Работать на этом станке никто не хотел. Приходилось ему становиться каждый вечер к станку. Меня перевели на другие станки, где физически было еще, тяжелее, норма была едва выполнимой для сильного человека. Единственной радостью были аварии на электролинии. Моментально стихал грохот станков с таким прощальным звуком, будто выпустили воздух из шины. Я загонял вагонетку в глубь цеха, поворачивал высоким бортом к проходу (для укрытия), сворачивался калачиком и мигом засыпал на фанерном днище, покрытом стружками и опилками. Спалось так сладко, что даже возобновившийся грохот не всегда мог меня разбудить. Тогда мастер бегал по всей рабочей зоне, и нигде не мог меня найти.
Однажды я зазевался. Тут же ощутил резкий удар по пальцам. Моя, рука отлетела далеко в сторону. Ну, думаю, остался без пальцев. На большом и указательном были глубокие раны от фрезы, текла кровь. Пошевелить ими было невозможно. Повреждена ли кость? Немец повел меня к аптечке, где украинец-врач (бывший партизан) аккуратно перебинтовал раны. Так я получил небольшой «отпуск». Серьезных последствий не было, только шрамы остались. Был в лагере и вредный цех – лакокрасочный. Защиты – никакой, дышать там невозможно.
Советская система широко практикует негативный принцип. Суть его состоит в сугубо отрицательных методах принуждения. Наиболее откровенно это делается в лагерях, где человека лишают абсолютно [82] всего а потом устанавливают монопольно высокие цены на удовлетворение любой человеческой потребности. Хочешь дышать воздухом, не умирать от голода и холода в бетонном мешке? – Выходи на работу, соблюдай режим!
Хочешь раз в год прикоснуться к собственной жене? – Забудь о сопротивлении, ходи по струнке, паши, как вол!
Хочешь иметь продуктов на два рубля в месяц больше? – Будь стахановцем!
Хочешь посылки, благоволение, гарантию от кар? – Стучи, доноси на товарищей!
Шаг в сторону – и все рушится. Зачем строить дома, магазины, детсады, тратить огромные деньги, заинтересовывать людей, когда можно в необжитый район бросить зековский десант, который под дулами автоматов сам себя огородит колючей проволокой, построит бараки и за надежду на досрочное освобождение начнет на голодном пайке ускоренно возводить очередную стройку коммунизма!
Конечно, песенка про палатки обходится дешевле строительства домов, но «вольных», то есть узников «большой зоны» (огороженная колючей проволокой империя) песенками теперь не заманишь, им плати рубль… Зачем?! Спустили план ментам, судьям и прокурорам – а уж они поспешат его перевыполнить.
Дешево и сердито!
Поднаторевший в теории эксплуатации режим в самой полной мере осуществляет эту теорию на деле.
Я описывал лишь самых ярких уголовников, встретившихся мне в следственной тюрьме, но множество их сидело практически ни за что. С одних достаточно было бы штрафа, другие, забитые серые личности, вообще попали непонятно как. Наседки уговаривали их взять на себя нераскрытые ментами преступления (в благодарность, дескать, отпустят).
Так и количество нераскрытых преступлений сводится на нет, и двуногий скот массами поставляется на великие стройки века, эти новые пирамиды египетские. Нажива играет не последнюю роль в действиях лагерного начальства. Какую прекрасную мебель сплавляли на сторону («налево») из нашего лагеря! За десяток пачек чая (лагерные деньги) мастера изготовляли самые дорогие вещи, которые уплывали к мордовским прокурорам, в управление лагерей, даже в Москву. Это гарантировало круговую поруку красных карателей.[83] О художественно изготовленных шахматных досках и говорить не приходится – ими даже рядовые менты промышляли. Крупным бизнесом руководили двое. Майор Усов, начальник лагеря, пьяница с вечно помятой красной физиономией, который в конце концов подрался из самодурства с вольным шофером и слетел со своего поста.
Второй, – начальник режима подполковник Вельмакин, «сосланный» в лесную глушь за взятки, которые он до этого брал, работая в органах милиции. Вельмакин был громадным идиотом с плоской бессмысленной мордочкой каменного истукана. В лагере его прозвали «Луноход».
Наказывая человека невесть за что, он на все логические доводы, тупо сюсюкая, отвечал:
– Не надо нарушать!
«Ш» произносил при этом как «с» и пришепетывал.
Он не пропускал ни одного развода: наслаждался видом серых рабов, по одному вызываемых на ежедневную каторгу. При этом не упускал случая к чему-нибудь придраться, хотя бы к незастегнутой пуговице бушлата.
28. ДУША ЛЕНИНА
В лагерях можно услышать массу рассказов о мистических силах, причем трудно сказать, где начинается порог фантазии и болезни среди бредовой реальности.
В Мордовском концлагере № 10, где сидели «полосатые» (так называют узников самого тяжелого – особого режима за их полосатые бушлаты), был тайный кружок любителей спиритизма. Вызывали, к примеру, душу Ришелье, которая с французской куртуазностью отвечала на вопросы, а в случае затруднения советовала: «Это знает такой-то».
Кто-то предложил вызвать душу Ильича. Пусть, мол, посмотрит на наше счастье и поведает, что он об этом думает.
Душа явилась на зов, но на любые вопросы отвечала только площадным матом… Это и неудивительно: многотомные труды вождя на 90% заполнены сплошной склочной руганью, сквозь которую очень трудно добраться до сути. Видно, в ругани и заключается суть.
Тогда решили вызвать Сталина: может, он окажется более сговорчивым. Но не тут-то было: душа Сталина, как ни старались, на зов не явилась. Видно, слишком глубоко сидит.[84]
Политические лагеря, где кроме политзаключенных сконцентрированы архизлодеи, повинные в массовых нацистских убийствах на оккупированной немцами территории, являются также центрами проявления темных мистических сил.
Один полицай глухо, с завыванием кричал по ночам. Утром отказывался рассказывать, что за сон ему снился. Ничего, дескать, не помню. А ночью крики возобновлялись, жуткие, отчаянные.
Проснувшийся сосед увидел слабую тень, склонившуюся над спящим убийцей. Призрак душил его за горло…
Одному украинцу – бывшему бойцу УПА – агенты КГБ подсыпали отраву. Было это после его выхода из лагеря (случай не единичный). Он шел с другом по улице и вдруг упал. Тело его начало холодеть. Потом он рассказывал, как после падения увидел свое тело… сверху! Он, прозрачный, летел, поднимаясь все выше, а внизу толпился народ, подъезжала карета скорой помощи… Вот он поднялся высоко над домами, небо начинало темнеть, потом совсем почернело. Он улетал все выше и выше. Вверху показался слабый свет. Постепенно он сконцентрировался в виде двух звездочек. Умерший летел по направлению к ним. Звезды росли, обретали очертания, пока ни превратились в двух ангелов. Те взяли его под руки и он ощутил слова: «Тебе еще не время».
Ангелы понесли его вниз. Опять мрак начал редеть, стало совсем светло, показались дома, улицы, толпа, карета скорой помощи.
В середине толпы медсестра в белом халате вводила иглу шприца в вену его неподвижно лежащего тела. В последний раз увидел он это сверху – и вдруг очнулся, увидев прямо перед собой склоненное лицо медсестры.
Друг-атеист, свидетель клинической смерти, которому он рассказал, как вернулся в свое уже похолодевшее тело, уверовал.
Освободившийся заключенный Баранов (из группы Огурцова) оказался менее удачливым. По дороге из лагеря, после первой же рюмки, выпитой с каким-то «другом», сердце его остановилось навсегда. Он был из тех, что не любят компромиссы.
Один человек по ночам падал с кровати. Потом со слезами признался близкому другу, что с ним творится нечто страшное.
Вскоре после отбоя, среди засыпающего барака раздавался топот. Особый ужас состоял в том, что слышал это только он один, остальные спокойно укладывались, похрапывали. Топочущие отвратительные [85] черти бежали к нему по проходу, расталкивали, сбрасывали с кровати. Только это падение замечали недоумевающие соседи. Однажды черт стал душить его.
«Я почувствовал, что жизни моей приходит конец, и взмолился Богу», – рассказывала жертва. Черт, как по мановению, отпустил его, но продолжал стоять вблизи.
«Такие, как ты, Богу не нужны», – раздались в его мозгу глухие слова. Однако же не додушил, не смог.
В селах и сегодня колдуны и колдуньи не перевелись. Бывают они и в городах. И, конечно же, в лагерях интерес к колдовству обостренный.
Доводилось слышать, как дневальный барака, полицай с лоснящейся слащаво-красной мордой, открывая дверцу печки или ящик с углем, неизменно шептал туда какие-то слова, нечто вроде молитвы нечистому, заговора. Позднее, во Владимире, беглый солдат, совсем мальчишка, белесый, со светло-голубыми глазами, Богдан Ведута, рассказывал мне, как в лагере один колдун вербовал его в ученики. Оказалось, что КГБ поддерживает с ними контакт, утилизирует их искусство в своих целях, предлагая взамен всевозможные тайные привилегии. Впрочем, колдун неохотно и скупо распространялся на эту скользкую тему. Зато предложил продемонстрировать свое искусство, похваставшись, что в этом лагере он крупнейший специалист. Богдан заинтересовался. Неказистый, землистый колдун повел его в санчасть. Там он при мальчишке разговорился с медсестрой, делая странные магические жесты. Потом вдруг предложил ей раздеться.
И молодая медсестра с какими-то странными истерическими нотками в голосе, странно улыбаясь, ответила:
– А что, думаешь, побоюсь?
И стала раздеваться. Богдан был ошарашен. В последующие дни он старался по пути в санчасть перехватить медсестру, но та обегала его десятой дорогой. Он решился зайти к ней с единственным вопросом:
– Что это было?
– Сама не знаю! – покачала головой медсестра, и лицо ее вспыхнуло. – Никогда со мной такого не бывало… Сколькие пытались меня соблазнить, даже возбудитель подсыпали – бесполезно. А тут… Ничего не понимаю!
Один христианин, прячась от ментов, по вечерам молился за баней. Он рассказывал, что не раз и не два, как только начинал он молиться, в пустой закрытой бане с грохотом падали на пол тазы. «Нечистая сила [86] любит бани», – шепотом говорил он, оглядываясь по сторонам.
Величайшее событие моей жизни, когда я в первом своем карцере не головой или чувством, а всем существом своим познал мир иной, было таким насквозь светлым и радостным, что впору было вообще усомниться в существовании ада. Но в него заставляли меня верить непередаваемые ужасы земной жизни и настоящие бесы во плоти, которых я видел предостаточно. Были такие, для которых смыслом жизни, смыслом каждой минуты было беспрерывное творение зла – всему и всем вокруг. На особом, сочном лагерном языке про таких говорили: – Ядом дышит.
* * *
Но вера верой, а однажды мне по-настоящему дано было познать ад…
Очнувшись среди ночи, я вдруг с ужасом осознал, что не могу пошевелиться, не чувствую своего тела. Какая-то жуткая сила давила меня в темной бездне. Невозможно описать членораздельными словами это анонимное состояние мистически давящего ужаса. Всей силой воли силилась душа моя вырваться из немого объятия бездны. Я не мог ни о чем подумать, ни вспомнить слова молитвы – молча, беззвучно длилась страшная схватка. Так пробующие мускулы, упирая локоть в стол, силятся побороть руку соперника, но долго в неподвижном противоборстве и страшном напряжении их руки остаются застывшими…
Однако сила врага начала понемногу поддаваться… Мне уже легче, легче, я совсем одолеваю его! С самым отчаянным воем бессильной злобы повержена, отступила темная сила. Я снова ощущаю свое тело, легко открываю глаза, приподымаюсь. Все спят – значит, никто не слышал этого громкого крика, никто не вопил со сна. Рядом, в соседней кровати, похрапывает Сашка Гальперин. За окнами светает, скоро подъем. Постой, постой, где же я слышал этот гнусавый голос? Не он ли с завыванием вещает в сердце черносотенного кружка? Не он ли однажды на проверке сдавленно прошипел за моей спиной: «Жидовня-я-я позорная…» Ах ты, люциферище глистообразное, ничего-то у тебя не получилось! «Клипа» – имя твое! Так Кабала называет эту шелуху бытия.[87]
29. ПАТОЛОГИИ
Был на «полосатом» (зона № 10) зек по кличке «Генерал Безухов». Безуховым он именовался потому, что уши свои послал в подарок очередному съезду, так как ему, мол, надоело слушать этими ушами их болтовню.
Безухов, по дикому своему нраву постоянно содержался во внутренней тюрьме концлагеря, в изоляторе. Там он всегда пребывал голым на голых же досках, так как любую одежду (и вообще все возможное) разрывал на кусочки и проглатывал вместе с пуговицами.
Спал он даже зимой при разбитом окне. Утром просыпался посреди припорошенных снегом нар, подымался, потягивался. От его голого красного тела шел пар. Дыхание клубилось, подобно дыму из печной трубы. Его выводили в туалет. По пути стоял бачок с раствором хлорной извести (для заливания в парашу, чтобы не так воняло). Генерал Безухов набирал черпак, подносил его… ко рту, вывивал, крякал и шел дальше…
Марченко достаточно подробно описывал самоистязания и самоедство зеков. Я тоже могу привести несколько историй.
Например, глотание домино – уже никого не удивляет. Врачи не хотят делать операцию: сам мол, в туалете как-нибудь выстрелишь из себя… А ведь такие вещи обычно делаются ради «канта» в больничке («день канта – год жизни»). Что делать? И вот является зек к врачу и говорит: «Я проглотил железнодорожный костыль». (Имеется в виду костыль, которым приколачивают шпалу…)
Ему не поверили, повели на рентген – действительно, костыль! Как можно проглотить его? А дело было так: «Шпагоглотатель» инструментами сгладил заусеницы, смазал костыль солидолом для скользкости, вытянул лицо пастью вверх так, что глотка уподобилась прямому шурфу, и медленно опустил в нее костыль головкой книзу…
Часто патологии связаны с половым вопросом. Уголовник Титов был отправлен во Владимир за то, что подстерег «вольную» учительницу в коридоре, бросился на нее и, едва прикоснувшись к ее юбке, ощутил полное удовлетворение.
В тюрьме он занимался эксгибиционизмом, демонстрируя обнаженные органы, как только медсестра открывала кормушку.
Но это только начальная ступень патологии. Другой уголовник во Владимирской тюрьме прославился тем, что отрезал собственный член [88] и выбросил его в окно, когда мимо проходила начальница санчасти Елена Николаевна Бутова (Эльза Кох Владимирского Централа). И совсем уж не укладываются в сознание такие случаи, как вталкивание «якоря», сооруженного наподобие разветвленного рыболовного крючка в собственный мочеиспускательный канал… Здесь мы сталкиваемся с особым необъяснимым феноменом, который носит, пожалуй, национальный характер. Психологи говорят, что человек, который не любит самого себя – страшен для окружающих. Что же сказать о тех, у кого эта нелюбовь доходит до таких неизмеримых степеней…
В этой загадке – разгадка другой тайны: как народ, настолько беспорядочный, аморфный, пьяный и анархичный, не знающий никакой меры, сумел не чудом, не мгновенным усилием, а столетиями непрерывного, неуклонного натиска одолевать шаг за шагом всех своих соседей, созидая на кровавых костях величайшую в истории империю? Каким качеством своим победил он всех их? Это и есть та самая неопровержимая мощь, которая ведет на страшные самоистязания. Имя ей – русский демонизм. Он обладает неимоверной притягательной и парализующей силой; он всасывает, как бездонная топь, как взор василиска. Он переваривает, как плавильная печь… Недаром единственный по-настоящему народный (которого знает, любит и с надрывом распевает народ) русский поэт, Сергей Есенин, был певцом тоски, распутства, разрушения и гибели, певцом страшной красоты умирания… Как сама Смерть, идет этот народ все дальше, огнем и мечом опустошая все на своем пути, удушая даже мысль в самом ее зародыше, но при этом видит и слышит только свою смертную тоску, только свою переполненную смертью душу… Идет и удивляется: почему это другие ропщут, протестуют, защищают какие-то свои жалкие интересы? Разве что-нибудь может сравниться с тем адом, который он несет в самом себе? Уж не иначе, как они и виноваты во всем; в их судорогах и сокрыт корень зла… «Русскому мужику хуже всех…» Потому-то и хуже, что вместо обыкновенного жизненного устройства в собственном доме он предпочитает за хлебную корку, стакан водки да шовинистическую свистопляску с упоением и радостью резать, душить и насиловать других… Тот, кто сам себя не может спасти, невольно так и рвется «спасать» весь «неблагодарный мир»…
Почему жертвы должны жалеть мерзнущего в дебрях скитальца-разбойника, который, подтянув живот, рыщет по большим дорогам, вместо того, чтобы тихо и мирно обрабатывать свое собственное поле, [89] такое обширное, что его хватило бы на десятерых… Ах он бедненький, намерзся, небось, пока меня настиг! И не приведи Господи сбросить его со своего загривка! Еще ушибется, чего доброго, руку вывихнет, – обвинений потом не оберешься!.. Нет, умирать на его дыбе надо тихо, без судорог, чтобы бедного мучителя невзначай ногой не задеть…
Немногие русские, прежде чем подсчитывать количество евреев в революции, способны честно ознакомиться с историей еврейского народа под российским скипетром, который сотни лет был для евреев пыточной дыбой. На обвинение: «Революцию сделали евреи», – следует ответить: евреев загнали в революцию русские, да и не только русские. Я не хочу останавливаться на этой узкой теме, так как на абсолютно все обвинения, что евреи, дескать, такие-сякие, есть единственно правдивый, убийственный ответ:
Взять бы вас, мои дорогие-хорошие, да оторвать от родины, да две тысячи лет без передыху травить по всем чужбинам, как диких зверей, – а потом и посмотреть бы, какими вы стали, да и сравнить.
И еще одну, страшную для них истину не могу не сказать: даже после этих, не теоретических, а реальных двух тысяч лет, мы ни при каких обстоятельствах не смогли бы ответить им тем же – жестокости не хватило бы и на сотую долю.
Не хочу обойти молчанием несправедливые обвинения и против других порабощенных народов, что они, дескать, распинали ни за что ни про что невинную Русь. Кто резал венгров в 1848 году, кто куражился над Польшей, кто, как щенят, топил китайцев в реке во время русско-японской войны, кто порабощал Латвию, Кавказ, Украину, сто или двести других народов в течение сотен лет? Нет, не вам, господа, выступать в роли обвинителей.
И кто выиграл в результате? Кто сохранил – единственный в XX-ом веке – колониальную империю? Кто умножился не за счет рождаемости, а поглощением других? И кто потерял большую долю своих голов под колючей проволокой? И кто стоит на грани национальной смерти? Ответьте, если можете. И не приписывайте чужие жертвы – себе, а свои преступления – другим.
Для патологий в России, особенно в тюрьмах и лагерях, благодатная, тщательно удобренная почва. Наступление на человека идет со всех сторон. Страшнее всего – атмосфера кошмарной подозрительности, нагнетания напряженности («бесогонка» – по лагерному определению), [90] мрачной, угрюмой, свинцовой злобы. Один русский оппозиционер в эмигрантском журнале («Грани») описывает, как в метро человек реагирует на ребенка, не уступившего кому-то место: «Я бы им глаза повыдавливал!» Это очень характерно. В лагере на зека по фамилии Дане мент написал рапорт: «Спал у железнодорожной насыпи с неизвестной целью».
Кстати, у этого Дане друзья спрашивали: «Как это ты, латыш, такой сачок? Ведь латыши пашут, как трактора!»
«Так я же СОВЕТСКИЙ латыш!» – пояснял Дане, и на его молодом хитроватом лице играла усмешка. Другой зек, из уголовников, го кличке Окурок, маленький, плюгавенький, не любил вставать вовремя. В результате родился следующий официальный рапорт:
«…Я предложил осужденному встать. Осужденный предложил мне пососать член».
– Ну, а ты! – умирали от хохота зеки, останавливая сконфуженного мента.
Особенно ужасно вдруг оказаться под всесокрушающим лагерным прессом без всякой духовной поддержки, без религиозных книг, без всего. А опора требуется, как воздух, человек стоит над пропастью. И приходится ему наспех, кое-как, возводить здание своей души из первого попавшегося под руку хлама. Проще всего найти козла отпущения, уцепиться за какое-нибудь «анти-», антисемитизм, скажем. Последнее весьма поощряется и инспирируется.
А тут еще телесные проблемы. Острый, многолетний половой голод. Многие партизаны, к примеру, еще мальчишками попали в лапы чекистов. Они старятся в лагере, так никогда в жизни и не прикоснувшись к женщине. Вокруг только серые зековские робы да кровавопогонные ментовские мундиры – и так всю жизнь! Некоторые не могут смотреть фильмы, млеют, увидев на экране живую женщину…
Белковый, витаминный, качественный и количественный голод из года в год подтачивает силы, иссушает мозг, истощает нервную систему, провоцирует медленные, но необратимые патологические изменения в организме.
А тут еще режим, построенный на такой хитроумной, мелочной неистощимой мстительной злобе, что соблюсти его немыслимо, а малейшее нарушение грозит неисчислимыми карами… Ходишь, как по лезвию бритвы…
А тут еще давление на семью, попытки искусственно разрушить ее, [91] лишение редких свиданий, увольнение с работы, перехват писем, коварные сплетни и слухи, глухие угрозы… Есть от чего помешаться.
«Мы подобны мухе, которую высосал паук» – говорил мне старый эстонец. Он имел в виду, что на вид муха совершенно целая, а на самом деле осталась только мертвая оболочка.
Бывший боец УПА нес электромотор. Он остановился, вытер пот и сел со мной на скамейку. «Такую ерунду немного пронес – а уже весь, мокрый, меня всего трясет»…
30. ПРОВОКАЦИИ
Сумасшедших не спешат убирать из лагеря. Зачем лишать политзеков такой милой и приятной компании? Тем более, что психбольницы предназначены теперь для идеологически больных…
Милые картинки бытового безумия так и стоят у меня перед глазами.
Лагерный туалет, сколоченный из досок. Там морозными зимами зеки приобретают геморрой. Но сейчас лето. У входа лежит Войтечук, старик, исхудалый, почерневший. У него черные помутневшие глаза и жиденькая козлиная бородка. Никто не знает, за что он сидит, но его самого знают все: это один из лагерных сумасшедших. Он плохо понимает, что происходит вокруг. Часто ни с того, ни с сего начинает тихо и быстро-быстро бормотать: «Тикай, тикай, тикай!..» Видно, до сих пор убежать от судьбы хочет. Произнося эти слова, он торопится куда-то скрыться. Сейчас он спит у входа в сортир. Менты – ноль внимания.
* * *
Сижу в душной переполненной комнатушке библиотеки, пишу письмо. Когда зек пишет – это всегда «подозрительно». Вдруг подходит вплотную человек неопределенного возраста и молча смотрит в мои бумаги. Что за наглый стукач?
– В чем дело?
В ответ неопределенное междометие, та же поза, тот же вид крайней заинтересованности в том, что я пишу.
Вскипаю, поднимаюсь, силой вывожу его из библиотеки, подталкиваю в спину. В самом деле, что за наглость! [92]
– Что случилось? Оставь его, это Адам, он не в себе!
Я растерянно отпускаю Адама…
* * *
Сижу за баней в воскресенье, греюсь под летним солнышком, читаю журнал. Появляется мой сосед по бараку, Эрстс, усаживается неподалеку у стенки в «позу лотоса» и начинает громко прерывисто дышать одной ноздрей, затыкая другую. Малый помещался на йоге… И параллельно – на юдофобии. Я читаю, не обращая на него внимания. Вдруг слышу звериное рычание. Эрстс смотрит на меня, вращая выпученными глазами бешеного таракана и с глухим рычанием, сжимая в руке камень, стучит им о фундамент… Видимо, мое присутствие мешает его медитациям, и он, на манер гориллы, дает мне знать об этом. Ухожу от греха подальше и по дороге, с другой стороны бани, вижу второго молодого латыша, почти голого, который стоит часами неподвижно в странных позах. Однако он не кататоник, а фанатик загара. Он хочет, чтобы каждый уголок его тела (подмышки, например) загорал наравне со всеми остальными. Этой идее он посвящает все свободное солнечное время…
Сколько людей сходило с ума на моих глазах, и им нечем было помочь… Когда это происходит с человеком, которого давно знаешь, с которым был достаточно близок – ощущение ужасное.
Как-то, возвращаясь с развода, я увидел на скамеечке своего знакомого Валентина Кирикова.
Тот сидел понуро, в помутневших глазах застыла неестественная тоска.
– Что с тобой?
– Чаю не могу достать. Привык. У тебя нету?
– Откуда?
Заварка высочайшей концентрации – лагерный заменитель водки.
Есть два конкурирующих источника чая: менты-спекулянты и оперчасть – КГБ.
Чай в лагере тайно продается раз в десять дороже магазинной цены, обычно за скудный продуктовый лимит.
Наркотическая тоска – верный путь в паутину КГБ. Кириков не избежал своей участи. За соответствующие заслуги он был освобожден, не отбыв и половины срока.[93]
Других, более стойких чаевников привычка привязывает не прямо к КГБ, а к сомнительным компаниям, которые приходится терпеть ради неведомо откуда добытого чая. Но эти компании занимаются не только чаепитиями и сопутствующими разговорами «по душам». КГБ ставит четкую цель: любыми путями разложить политзека и тем самым уничтожить его как политического противника.
Был в лагере отвратительный тип по фамилии Курников, по кличке «Гитлер».
Он был тощий, костлявый, весь почерневший, похожий на черта. Явно из уголовников, самых отпетых. Разговаривал характерным тоном, растягивая и лениво скандируя каждый слог. Работал он в кочегарке, чувствовал себя хозяином, сожительствовал с пухлым женоподобным зеком Субботиным, которого мы прозвали в своем кругу «Ева Браун». Делалось все почти в открытую, демонстративно, и менты только помогали, предоставляя совместное место работы, где можно закрываться – редкая привилегия. Пример предназначался для соблазнения изголодавшихся зеков. Гомосексуализм в СССР – уголовно наказуем, но Гитлеру явно ничто не угрожало. Кое-кто соблазнялся… Вот рассказ одного из зеков: просыпается он среди ночи и, еще ничего не соображая, чувствует, как чья-то рука водит по его кальсонам вокруг заднего прохода… С ужасом он перевернулся на спину, плотно укутался одеялом. Тошнотворное состояние, желание не то пристукнуть соседа по койке, не то броситься в запретку, под пули.
Бывает, что и пассивные гомосексуалисты пристают безотвязно, и не сразу сообразишь, чего ради человек так прицепился – стукач он, что ли?
Гитлер раньше сидел «на полосатом», занимался там внедрением наркотиков. Когда он с уголовной компанией в закрытой камере курил анашу, дым которой поднимался вверх, то и нежелающий невольно дышал тем же зельем. Обычно в то время к Гитлеру и Кº подбрасывали молодого, свежего зека, и они пропускали его через конвейер: наркотики, карты, гомосексуализм. И человек списан, на нем можно поставить крест, разве что опер попользуется, шантажируя уголовной статьей.
И Гитлеру подбрасывали следующую жертву.
Позднее, на 35 зоне (на Урале), Гитлер сколачивал компанию бандитов, которые по заданию начальства перешли к прямому физическому террору политзеков. Под конец моего пребывания в Мордовии появился новый лагерный надзиратель Коняев, типичный гермафродит.[94] Ментовский мундир распирали круглые, пышные формы полуженского тела. Пышнотелый Коняев томно поводил толстыми бедрами, строил зекам глазки, делая какое-нибудь замечание.
– Ой, нэ магу, – изнемогал молодой огненноглазый зек с Кавказа. – Ой, куда б мнэ увести эво? – И он причмокивал губами и качал головой, закатывая черный огонь своих глаз. (Этот, разумеется, попал в политлагерь случайно.) А Коняев в это время стоял рядом, томно и плавно покачиваясь, и с ним доверительно разговаривал какой-нибудь полицай, осторожно притрагиваясь к пухлой груди и млея от восторга. А мимо сновал бесчисленный народ – в столовую, из столовой, у двери которой разыгрывалась сцена.
Кавказец, говорят, таки увел его в какое-то укромное место.
31. «НАШИ» ПРИШЛИ!
Молодой украинец, Микола Горбаль, был арестован за упрямую приверженность родному языку и за написанную им «Думу», которую и не читал, по сути, никто. Как-то в магазине его друг попросил спичек. «Може, тобi сiрникiв?» – раздраженно поправил его Микола, который задыхался от быстрого «осушения» стихии его родного языка.
На следствии чекист предложил ему закурить.
– Вот спички… Ах, пардон, «cipники»! – многозначительно добавил он, с ненавистью глядя в глаза Миколе.
– Кто из бандеровцев тебя учил? Может, этот? Или этот? Или вот этот? – И чекист одну за другой совал в лицо фотографии изуродованных, страшных трупов.
Двадцать лет назад такие трупы, распухшие, изувеченные, с выбитыми глазами, чекисты бросали на площадях Западной Украины и запрещали их убирать – чтобы другие боялись идти в партизаны. Даже мертвых не оставляли в покое: обязательно надругаются, штыком или каблуком глаза высадят. Что уж говорить о живых… Я видел искалеченные пальцы Богдана Чуйко: чекисты одну за другой дробили косточки, зажимая в дверях.
Донимали даже приговоренных к смерти. Совсем еще юного тогда Гриця Герчака переводили в другую камеру, имитируя вывод на расстрел. «Ты вошел белый, как мел», – говорил ему поседевший в камере смертников Гуцало. А сердце стучало, как паровой молот… [95]
Смертникам не доверяют ножниц – ногти им стригут менты. Партизанскому командиру выстригали их вместе с мясом. Так же «стригли» и волосы – он возвращался весь окровавленный. «Будешь знать», – приговаривали палачи. И каждую ночь – топот сапог. Может быть за тобой? Нет, в соседнюю камеру… И так месяцами.
Литовский партизан Пятрас Пукинскас подвергался в ЧК таким свирепым истязаниям, что терял сознание. Пока его отливали, русская переводчица развлекалась тем, что топтала его, стараясь прищемить каблуками половые органы.
Под конец партизанской борьбы на Украине бойцы укрывались в труднодоступных бункерах. Чекисты стремились завербовать лесников, обходчиков и прочих уединенно живущих людей, чтобы через них добираться до последних осторожных партизан. Завербованные давали партизанам белье на зиму, в которое по приказу ЧК предварительно впрыскивали что-то специальным шприцом одноразового пользования. В белье выводились вши, зараженные тифом, от которого без боя вымирали целые бункеры. Один из лесников был разоблачен, на него устроили облаву, но он и сам умер от тифа (может быть, не случайно – лишний свидетель).
Менее осторожных провокаторы угощали едой со снотворным страшной силы.
Один украинец рассказывал мне, как все партизаны, отведав борща в такой хате, повалились, как убитые. Он, самый крепкий, вышел из дому, увидел сквозь пелену приближающиеся фигуры чекистов, вытащил пистолет, хотел поднять его, выстрелить, крикнуть – да так и свалился на пороге… Просыпались в ЧК уже калеками – кто полуслепым, кто с испорченным сердцем – таким сильным было снотворное.
Чекисты приходили к родным еще не пойманных партизан.
– Мать! – кричали они. – Мать! Спаси своего сына! Иначе мы застрелим его! Спаси! Несговорчивых жестоко избивали.
И бывало, что мать подсыпала снотворное, и сдавала сына чекистам, не зная, что обрекает его на двадцать пять лет такого ада, по сравнению с которым смерть – счастье.
Позже пошли более утонченные методы. Того же Горбаля в доме отдыха русская девушка как-то пригласила покататься на лодке. Он отказался. Там в это время было много талантливой творческой молодежи. Вместо Горбаля поехала кататься одна украинка. Она не вернулась – утонула. Лодка, дескать, перевернулась. При этом утонувшая [96] плавала прекрасно, а приглашавшая – плавать вообще не умела, но не пострадала. «Так это же я должен был там утонуть!» – стукнуло ему в голову.
Это метод «срезания бутонов», то есть молодых национальных талантов, пока они еще не успели расцвести, стать известными и сказать свое слово. Известный пример – убийство Аллы Горской, украинской художницы. То тут, то там национальные таланты попадают в дорожные катастрофы, тонут, гибнут от рук неведомых хулиганов… Все тихо незаметно: их пока никто не знает, и потом ведь всякое случается… Целые банды подготовленных молодых чекистов по-гангстерски орудуют в западноукраинских городах, да и в Киеве тоже.
Литва после войны вся горела и пылала. Даже тех, кто не хотел идти в партизаны, вынуждала обстановка: солдаты и чекисты нападали на любого крестьянского парня, избивали его, крича: «Ты тоже бандит! Где бандиты?!» Жизни не было. Приходилось уходить в лес. Каждую ночь – новые взрывы, пожары, грабежи, убийства, изнасилования. Солдаты совокуплялись даже с убитыми женщинами, насиловали детей.
При независимости – поляков в Литве не жаловали: с ними был спор из-за столицы. Но литовским партизанам поляки помогали, хотя и говорили в глаза: «Здесь будет Польша». Зато русские – беженцы из белых – устроились в Литве прекрасно. Никто не преследовал их, все хорошо относились. За десятилетия независимости русское меньшинство выучилось говорить по-литовски, адаптировалось. Знание местных условий они использовали в послевоенное время, активно вступая в специальные антипартизанские истребительные отряды, организуемые КГБ.
Вначале литовцы в своих тайниках ориентировались очень просто: если поблизости слышна литовская речь – значит, свои, можно вылезать. Если по-русски, – прячься, готовь патроны: солдаты или чекисты. «Истребители» широко пользовались этой наивностью.
Эстонцы сотни лет вели борьбу с немецким нашествием. Даже при русских гнет немецких баронов преобладал, и на них была обращена вся ненависть эстонского народа. Во время войны за независимость эстонцы дрались с немцами, как черти. Дула раскалялись докрасна, не могли стрелять. Тогда эстонцы бросались на немцев врукопашную, гвоздя их своими перегретыми винтовками, как дубинами.
Большевики пришли на один год, предвоенный – и совершили чудо: заставили эстонцев и латышей полюбить немцев… Потому, что этот [91] один год был столь страшен, что превзошел вековые зверства крестоносцев.
Обычно завоеватели уничтожают какую-то количественную долю народа, но большевики метили в мозг и сердце, они уничтожали самые тонкие и жизненно важные структуры национального организма, его душу, волю, совесть…
И теперь лагеря полны теми, кто сопротивлялся пришедшим чудовищам, кто защищал свою землю, своих родных, свою жизнь, свою нацию, свой дом, государство, свое право говорить на родном языке, говорить о родном, верить, во что верится.
С истинно коммунистическим цинизмом этим людям дали четвертьвековые срока по обвинению в… «измене Родине»!
Тот, кто родился в независимой Литве, был ее гражданином, в ней рос, в ее армии служил, ей присягал на верность, – обвинялся в «измене» московской «родине»!
При чем тут Москва? А при том, вишь, что она всем Матушка. Знайте это, изменники, где бы вы временно ни скрывались! Возмездие неотвратимо! Недаром ходит анекдот: «Советский Союз – родина слонов».
Когда я думаю об этой непередаваемой жестокости, у меня в памяти всплывает один из уголовников, с которым я сидел в следственной тюрьме. Был он обыкновенным строительным рабочим, отслужил в армии, участвовал в оккупации Чехословакии, причем чувствовал, что дело не очень-то справедливое. Надо сказать, что в России всяческие хищения – сплошной устоявшийся быт. В магазинах или мясокомбинатах, в столовых и ресторанах зарплату назначают как бы с учетом невидимой премии… «Не украдешь – не проживешь». Эта история, история хищений и коррупции непрерывной цепью тянется со времен Ивана Грозного. Деспотическому государству это даже удобно: все у него в кулаке, в любой момент можно на самом раззаконном основании подвести под монастырь. А потому – помалкивай, знай свой шесток!
И парень-строитель помалкивал, только вместе с дружками-коллегами тащил потихоньку стройматериалы да и пропивал всю прибыль. Дело обычное. Но тут возьми да и попадись в их бригаду какой-то высокоидейный коммуняка, что в наше-то время, когда до коммунизма остались считанные годы (читайте Программу КПСС), – величайшая редкость, днем с огнем не сыщешь. А тут взял да и появился, стучать начал, испортил всю малину. Его и уговаривали, и предупреждали, [98] и угрожали – бесполезно. И тогда случилось нечто страшное.
Коммуняку пригласили в вагон-теплушку, где жили строители, и внезапно всей кучей бросились его колошматить: кулаками, пинками. Когда он уже неподвижно лежал на полу, ребятишкам пришла в голову милая мысль: они стали подбрасывать его вверх, чтобы он плашмя падал на пол… Разумеется, от этого разорвались внутренности, и жертва умерла страшной смертью.
Вскоре ребятишки по одному, тайком друг от друга, стали являться в милицию – чтобы успеть первыми высказаться, свалить все на дружков… Это лишний раз говорит о том, что компания состояла не из каких-то невероятных личностей. Все были рабочие парни, не судились, в общем, обыкновенные аборигены. Ничего особенного не было и в моем камерном соседе: здоровый круглоголовый хохотун, только и всего И, разумеется, никаких переживаний не было и в помине…
На 19 лагере менты время от времени устраивали облаву на кошек: это было одно из массы бессмысленных «мероприятий». Огромный, как гора, мент по кличке «Полтора Ивана» ходил по лагерю и ловил панически удирающих животных. (На кота Завгородного распространялись, кстати, привилегии его владельца.) Полтора Ивана запихивал пойманных кошек в мешок и шел дальше. Когда мешок наполнялся, мент направлялся в кочегарку, швырял мешок в грозно гудящую топку и захлопывал пышущую дверцу… Раздавались такие инфернальные вопли заживо сгорающих кошек, что даже бывшие работники нацистских крематориев выскакивали за дверь…
32. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
На фоне массовой инспирированной резни в уголовных лагерях и политзеки не избежали «самоуничтожения». Вместо «мастей» были использованы национальные общины. Через агентов доставлялись ножи и слухи: «Братья-украинцы, латыши готовятся нас резать! Вооружайтесь! Такой-то уже мертв – это их рук дело!»
Одновременно то же самое аккуратно внушалось латышам. И видят: действительно, те вооружаются, волком смотрят… Надо готовиться, точить ножи!
И лилась кровь, и гибли сотни горячих голов и просто, кто под нож подвернулся. Когда человек спасает свою жизнь – с ним шутки плохи… [99]
Кто поумнее, да похладнокровнее, да поопытнее – те находили концы, и хватали опера за руку. Но уже поздно: кровь пролилась, у того зарезали брата, у того – друга, людей разделяла ненависть, подозрение, недоверие…
Посеяна вражда между порабощенными – и рабство крепнет.
Чего жалеть каких-то там зеков, если заради «великой идеи» и не такое творилось… Взять хоть методы инспирирования партизанского движения в Белоруссии во время Второй мировой войны. Специальные отряды чекистов переодевались в эсэсовскую форму и шли по деревням – жгли, убивали, грабили, насиловали. И народ бежал в леса… Эти методы нужны были потому, что население привыкло к безропотной покорности перед любой властью, его трудно было раздраконить… Ничего подобного массовому подполью Греции, Югославии, Польши оккупированная немцами территория России не знала. Какая разница, длинные усы у вождя или короткие? А демагогия и методы – почти те же. Зато миллионы коллаборационистов немцы в еще непобежденной России навербовали с легкостью.
Кого жалеть, если своих же солдат, напоенных водкой, миллионами гнали на убой в лоб, под пулеметы, так что немцы сходили с ума в своих дотах, к которым по горам трупов волнами бежали все новые и новые пьяно орущие орды… Об этом рассказывал старый эстонец, который из чувства мести пошел сражаться против красных.
Но в сегодняшних лагерях до резни дело не доходит, а методы стравливания все чаще дают осечку.
Вандакуров был центром разжигания шовинистических страстей. Он, на счету которого был побег, ходил в голубом свитере, в то время как у других любой намек на вольную одежду вызывал паническую реакцию ментов и пожарные меры. Он и его штурмовики старались естественную ненависть к палачам переадресовать в сторону евреев, которые уже показали себя самой стойкой и эффективной базой лагерного сопротивления. Именно еврейские общины обеспечили систематический выход информации из лагерей – и именно образ еврея подлежал сатанизации.
Не нужно было особой проницательности, чтобы разглядеть направляющую руку КГБ.
О Вандакурове рассказывали грустную историю. Как-то в тюрьме он сидел с полууголовником по кличке «Граф», которому очень хотелось вырваться на свободу. Вандакуров сумел внушить ему, что может научить магическому проникновению сквозь стену.[100] «У вас нет тела – жиды хорошо поработали, четыре тысячи лет внушая людям, будто тело у них есть. У вас нет тела!» Чтобы очиститься от четырехтысячелетнего еврейского влияния. Графу предстояло долго и усиленно поститься, а Вандакуров великодушно соглашался принимать у него почти весь паек. Через некоторое время Граф стал таким тонким, что стена уже не казалась ему непреодолимой преградой.
– Рано еще! – удерживал его Вандакуров от решительного шага.
– Нет, уже все… Я чувствую, что готов, – и Граф, шатаясь, пошел на стену…
– Вот видишь, говорил же тебе, рано еще! – успокаивал Вандакуров потрясенного стенопроходца.
Однако до Графа кое-что начало доходить. Он схватил чайник и с этим импровизированным оружием бросился на Вандакурова. Но причинить наставнику какой-нибудь вред уже не мог – слишком ослабел.
И все же, несмотря ни на что, в лагерной обстановке, где люди доходили до того, что один провозглашал себя Христом, другая – Девой Марией, третий – Архангелом Михаилом, – жидомания была достаточно лакомой пищей.
И вдруг – Шепшеловича лишают свидания уже после приезда его матери из далекой Латвии, – а в ответ почти вся молодежь лагеря объявляет дружную голодовку! Вся работа пошла насмарку. Отчетливо выявились две решающие силы лагерного сопротивления: евреи и украинцы. С тех пор так и повелось: если евреи и украинцы говорят «да», – значит акция обеспечена. Кагебешники очумели. Они стали одного за другим дергать молодых украинцев, в бешенстве крича:
– Что у вас общего с этими жидами?!
– А кто из нас интернационалист? – отвечали украинцы насмешливым вопросом.
Чувствовался страх чекистов перед тем, что и в «большой зоне» порабощенные народы смогут найти общий язык. Это уже катастрофа, потому что и в «большой зоне» искусное стравливание порабощенных наций – краеугольный камень имперской политики.
33. МАЙСКИЕ ЖУКИ
Помню, что-то неуловимое ужасно угнетало меня при разговорах некоторых зеков с ментами. Вроде и не говорилось при этом ничего [101] особенного, так «за жизнь»… Не сразу я осознал, что это была абсолютно неприемлемая для меня ИНТИМНОСТЬ ТОНА. Палач и жертва как-то патологически подменялись папашей и сынком… И, однако, это именно то неуловимое, чем живет и дышит Россия.
Это психологический феномен ЕСТЕСТВЕННОЙ ТИРАНИИ, когда люди органически не могут представить себе иную форму взаимных отношений, кроме отношений палача и жертвы. Человек может быть недоволен своим местом в этой системе или конкретным событием, но никак не самой системой, органически имманентной его существу.
Белорусский националист Остриков спрашивал у меня: «Ты замечаешь, как охотно они общаются, при всем своем шовинизме, с людьми других наций? Часто гораздо охотнее, чем между собой!»
Я замечал такое, но не знал причину.
«У них часто очень тяжелый характер – злой, властный, нетерпимый. Когда они сталкиваются между собой, – коса находит на камень, невозможно ужиться. А другие терпимее – там уступят, здесь успокоят, что-то пропустят мимо ушей – легче ладить!» И Остриков широко улыбался, довольный своей наблюдательностью.
Справедливости ради замечу, что в России много и характеров безвольных, податливых, в общем, бесхарактерных, ищущих к кому бы прислониться. Но вот характеров равновесных, устойчивых, умеренных, трезвых – очень мало.
Я старался как можно меньше находиться в бараке, не только из-за физической, но и из-за духовной атмосферы. Убегал куда-нибудь, где людей поменьше, зелени побольше, где только небо да чернеющие леса виднеются за забором.
Как-то представился и особый случай развлечься. Один угодивший в России за решетку за «нелегальный переход границы», беженец из Китая, уверял, что майские жуки и прочая нечисть – сплошное лакомство.
– Если бы у меня был кусок мяса, – говаривал он, проглатывая слюнки, – я бы не съел его, а положил на солнышко. Заведутся черви – я стряхну их, пожарю и съем. Новые подрастут – опять стряхну. Вместо килограмма мяса – несколько кило отличных червей! Прямая выгода!
Я решил поймать хвастуна на слове. Уж по крайней мере майских жуков наловить можно. Шла весна, жуки вылуплялись из зеленеющей земли и грозно гудели над головой каждый вечер. Это, право, гораздо приятнее, чем писк бесчисленных мордовских комаров, от которых в мае не было спасения.[102]
Под вечер за баней я со спортивным азартом, подпрыгивая, сбивал летящий «деликатес». Вскоре набралась целая банка. Я принес беженцу эту копошащуюся за стеклом массу и потребовал, чтобы он их съел в моем присутствии.
По обоюдному согласию церемония была отложена на следующий день, поскольку было уже поздно.
День выдался солнечный, весенний, теплый. Любопытная публика сходилась за баню. Беженец принес осколок бритвочки и начал разделывать тушки. У всех жуков обрезал крылышки, различал их по полу и у некоторых вырезал еще что-то из брюшка. Так, мол, положено в Китае.
Потом раздобыл где-то луковицу (!) и стал собирать какие-то особые пахучие травы. Затем налил на сковородку подсолнечного масла и поставил на огонь. Масло долго грелось, выпаривалось и густело (так нужно!), прежде чем он забросил в него смесь жуков и нарезанной зелени.
И вот – готово.
Затаив дыхание, смотрим мы, как беженец, хрустя, уплетает свое блюдо двумя палочками. Молодой литовец Алексис Пашилис решается попробовать. Я отказываюсь, чем навлекаю на себя искреннее возмущение повара. Он воспринимает это как сомнение в его кулинарных способностях.
Публика делится впечатлениями, удивляется, с трудом соглашается верить собственным глазам.
– Все это европейские предрассудки! – уверенно говорит нам повар. – Хотите, сделаю на всех?
– Как-нибудь в другой раз…
– Эх, вы…
34. КИБУЦЫ В МОРДОВИИ
Был у нас в лагере еврейский парень по фамилии Вындыш. Вел он себя странно, и мы держались с ним осторожно. Интересна эта история.
Он был довольно безразличен к своему народу, воспитан в детдоме и напичкан детдомовской моралью, моралью голодной борьбы за выживание любой ценой.
Была у него в ранней юности своеобразная трагедия. Влюбился он [103] в одну девушку самой чистой любовью, встречался с ней. Однажды, когда он поцеловал свою небесную принцессу смелее обыкновенного, она, запнувшись, промолвила:
– Я только ракообразно…
Прямо в душу нагадила! Он к ней с возвышенной мечтой, а она…
«Ракообразно»!
Это было невыносимо.
Служил Вындыш в Морфлоте. Во время Шестидневной войны его корабль оказался поблизости от американского. Вындыш уже знал, сколько американец зарабатывает в час. Ночью он потихоньку спустился на веревочке из иллюминатора и поплыл к американским огням. Неожиданное течение стало сносить его в открытое море. Он закричал в американскую сторону. Но услышали бдительные большевики. Они мигом настигли его на лодке. На следствии Вындыш нагло заявил, что плыл не на американский корабль, а на Крит… освобождать Манолиса Глезоса! КГБ опешило… Поскольку в таких делах подсудным является именно намерение, чекистам нужно было как-то вытащить из него соответствующие показания. К Вындышу подсадили еврея-стукача, который сумел уговорить его, зеленого, «для его же блага» подписать американский вариант бегства. Вындыш получил за это пятнадцать лет – ему и тут вспомнили, что он еврей.
Русские обычно, даже когда такой побег совершается с нападением на стражу, отделываются меньшими сроками. Стандартный срок у русских – десять лет, от силы двенадцать.
Это был единственный случайный человек, каким-то боком причастный к нашей общине. Он ни в чем серьезном не участвовал, хотя и проявлял излишнее любопытство.
Мы жили кибуцом. Взаимопомощь была организована блестяще. Все, что удавалось тайно добыть сверх лагерного пайка – распределялось на всех. Если кто-то подвергался репрессиям больше других, – ему помогали все остальные, выделяя пищу из своей доли, а в случае крайностей – были готовы поддержать акциями протеста. Кибуц имел свои «отделения» в каждом бараке, так как везде были наши. В моей секции жили Сашка Гальперин и Лева Ягман («мама Лева» – звали мы его за материнскую заботливость). Лева постоянно был озабочен добычей пропитания для своих прожорливых питомцев, из которых Сашка выделялся особо анархичными, я бы даже сказал, неандертальскими нравами. Он мигом пожирал свою долю, произнося скороговоркой всякие [104] шуточки жующим ртом. Через несколько секунд он уже исчезал, как невидимка, оставляя на тумбочке полный хаос: крошки, кружку, бумажки, а мы, ворча, наводили порядок или пытались разыскать виновника. Он был сплавом холерического темперамента с навыками студенческого общежития. Сашка, при типично еврейской внешности, был голубоглазым блондином, и мы звали его в шутку «белокурой бестией». Когда он пытался запускать бороду, она расходилась реденькими золотыми лучами, что давало повод к новому прозвищу: «Гелиос». Сашка злился и обещал отомстить мне именем какого-нибудь греческого «полубога-полушмока».
Кибуц помогал и другим – после голодовок, когда людей отправляли во Владимир, когда кто-то выходил из карцера. Менты страшно злились, видя, как мы всегда в столовой собираемся за одним столом, гуляем по лагерю вместе, усаживаемся отдыхать на одну вагонетку во время перерыва в рабочей зоне.
Так жили и другие общины, но именно наше поведение вызывало почему-то особо болезненную реакцию ментов. «Евреи – это подрыв!» – было написано на их злобных мордах.
Удивительным было разнообразие лиц, характеров и увлечений в нашей маленькой общине.
С Толиком Альтманом тяжело было разговаривать о чем-нибудь серьезном, до того он обожал все вышучивать. В свободное время он вырезал из дерева африканских идолов с таким искусством, будто родился в джунглях. Он был физически крепким сероглазым человеком с темнорусыми волосами и печальным выражением лица, всегда готового, однако, рассыпаться шуточками и улыбками.
Бутман был его противоположностью. Серьезный до смешного, очень положительный, «породистый» (по выражению одного поляка), полный брюнет, он любил расспрашивать, интересовался каждой судьбой с мягкой настойчивостью. За его массивную комплекцию зеки, шутя, величали его: «Масса Бутман, большой белый хозяин». Это выражение очень гармонировало с его видом, но Гиля страшно злился, не мог этого вынести из-за своей чрезмерной серьезности и приверженности левым взглядам. Боря Пенсон тоже был шутливой художественной натурой, но при этом умел говорить и серьезно, был очень практичным человеком, твердо стоящим на ногах. Худощавая комплекция, темные волосы, типично еврейские глаза, курносый носик с веснушками, пухлые губы.[105]
Как-то натурщица, дама весьма и весьма легкого поведения, поссорилась с Борей и назвала его «жидом». Боря, не долго думая, влепил ей пощечину. Она пожаловалась в милицию. Было заведено дело о «хулиганстве», которое следователь-антисемит постарался перевести на «попытку изнасилования». Потерпевшая не возражала. Так Борю упрятали за решетку первый раз.
– Было бы кого насиловать! – возмущался Боря. – Да еще «попытка»! Мы с ней, с ее, разумеется, согласия, до этого развлекались, как хотели!
– Нечего было! – отвечаю я ему.
Был у нас и еще один Боря – низкий квадратный, огненнорыжий Азерников. Мастер спорта по борьбе, он очень страдал от отсутствия женщин. И ему посчастливилось. Когда он ехал из тюрьмы в лагерь, начальником конвоя оказался старый друг и коллега. В соседней клетке ехал азербайджанец с накладными золотыми коронками на здоровых зубах. Он тоже изнемогал от сексуального голода и просто выл, когда мимо проводили в туалет баб-уголовниц.
Боря мигом навел мосты: азербайджанец выразил готовность пожертвовать коронкой, начальник конвоя по старой дружбе согласился привести к ним за это баб. Тем платить не надо было: они сами рвались к мужикам. Следующий вывод в туалет был смотринами, мужики выбирали себе «невест». Боря, правда, оплошал, выбрал беременную на каком-то месяце, сдуру не разглядел. Но следующий раз уже не допустил такого промаха.
Мы с хохотом слушали его рассказы о короткой этапной любви.
– А если бы тебя сфотографировали? Это же компрометация движения!
Но Боря был человек бесхитростный, он этого не понимал. Рассказывал также, как одна девица легкого поведения в Ленинграде, принимая его за русского, уверяла в постели, что евреям она «не дает». Так сказать, постельный расизм.
Часто мы собирались вместе просто так. Приятно было побыть среди своих, видеть родные лица, чувствовать общность судьбы, говорить об Израиле, об Исходе.
Но особое чувство было, когда мы сходились на праздник Исхода, праздник Пасхи, праздник без мацы…
Где собраться? Приходить в чужой барак запрещают. Снаружи еще холодно. И мы потихоньку приходим на вещевой склад, мигом разворачиваем на столе припасенную еду, рассаживаемся вокруг.[106]
Меня просят рассказать об Исходе. Я пересказываю по Библии.
Лева поднимается и добавляет, что сейчас век акселерации, и наш срок должен заменить нам сорокалетнее скитание по пустыне… Начинается трапеза, во время которой кое-кто из зеков заходит за своими вещами. Нас при этом не тревожат, но… Кто-то, может, пришел случайно?
Мы прекрасно знаем систему лагерной слежки. Стукачам-полицаям строго наказано не спускать с нас глаз. Следят, сменяя друг друга. В случае чего, наперегонки бегут на вахту: докладывать. Иногда среди ночи встанешь в туалет, глядь – за тобой уже плетется приведение в белом белье… Как бы чего не вышло.
И в самом деле: ни с того ни с сего на склад нагрянула куча ментов.
– Расходись! Это что такое? Быстрее, быстрее! Живо!
Трапезу мы в аккурат закончили, но вот спокойно посидеть, поговорить не успели.
35. «ЖИДОМАСОНСКИЙ ЗАГОВОР»
Уж не ведаю, с каких пор возникла эта теория и где, но в лагерях она находит плодотворную почву, особенно среди шовинистов. Один русский искренне недоумевал, как это я, еврей, ничего не знаю об этом. Не может быть! Не иначе, как дурака валяю!
– Да что за заговор! – разбирало меня идиотское любопытство.
– Как! Разве ты не знаешь, что евреи правят миром?
– Что же мы тогда делаем в лагере?
– Это все для отвода глаз!
– Но зачем правителю отводить чьи-то глаза?!
– Ничего ты не понимаешь. Вы пока правите тайно, а для явного правления силу набираете…
– А шесть миллионов жертв?
– Наверное, и это тоже какое-то хитрое средство к захвату мирового господства.
– Где же евреи правят?
– Везде. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев – евреи. Никсон – тоже еврей.
– А Мао Цзе-дун? – усмехнулся я.[107]
– И он тоже. Даже в Африке правят евреи, только с черной кожей.
– И Папа Римский?
– Все папы – евреи. Ты посмотри на их фотогрфии! Какие носы!
– Но такие носы – обычное дело в Южной Европе!
– Ну не-ет! Тут невозможно спутать!
– А Мао, как он евреем оказался?
– Коммунизм – еврейское учение. Значит, только еврей может править в коммунистической стране. И потом, вот, в «Литературной газете» написано, что израильская разведка предупредила его о заговоре Линь Бяо!
– Но ведь ты же, наверное, и эту газету считаешь еврейской?
– Конечно! Но раз евреи сами же признаются – тем более.
– А не приписываете ли вы евреям сверхчеловеческие возможности?
– Так ведь за ними стоит сам сатана… Он им дает откровения… И они правят через масонские ложи, разбитые на девяносто степеней посвящения… Сверху одни евреи, снизу много и других, выполняющих их волю… Весь мир охвачен…
– А как же спонтанность жизни, ее основа?
– Все это видимость…
– И чем же все кончится?
– Катастрофой… Когда вы достигнете цели, внезапно все восстанут против вас. Бог покарает…
И он с горящими от напряженной страсти глазами стал завывающим голосом, аж рот сводило, вещать жуткие судьбы еврейскому народу. В этих ужасах он ощущал всю соль и смысл истории. Ненависть, как я вскоре понял, была вообще стержнем его существа. Ненависть, злоба, черная зависть, дух противоречия. Он жил не просто так, а вечно наперекор кому-то. Отбери у него идею врага, и он не выжил бы, повесился или спился. Поэтому он вряд ли мог ужиться вне России – вернулся бы даже в случае предстоящего срока. В нормальной стране, среди нормальных людей он чувствовал бы себя, как в безвоздушном пространстве, задыхался бы.
Только атмосфера заговора, реального заговора, атмосфера пожизненного следствия над каждой душой была его родной стихией. И он невольно желал, вместе с посадившими его, чтобы эта стихия затопила весь мир… И вся эта чернота собственного нутра изблевывалась на других, мир виделся ему только через черные очки собственной души… [108]
Это выношенное в глубинах зло приобретало очертания, концентрируясь в одном слове: еврей. Конкретные евреи с их реальными действиями имели к этому очень отдаленное отношение. Изощренная схоластика и псевдологическая эквилибристика позволяли абсолютно все загонять в прокрустово ложе заведомо принятой схемы. (Точно так же поступают и коммунисты, которые абсолютно любое событие истолковывают как непременное подтверждение своих выдуманных догм.)
Но почему же именно еврей оказывается в эпицентре адского мирового круга?
Тут фигурируют три причины. Во-первых, претензии на избранничество, комплекс самозванца, своим ядовитым острием направленный против избранника подлинного. Это ненависть Каина.
Во-вторых, привычка использовать еврея в качестве общепринятой общественной плевательницы. Когда же не что-нибудь, а именно плевательница восстает против своего положения, это производит впечатление, будто мир перевернулся вверх дном в результате какого-то чудовищного заговора.
И, наконец, необъяснимые, мистические, не имеющие даже отдаленного прецедента исторические судьбы еврейского народа достаточно ясно говорят о плане, о замысле, великом и таинственном. Но теоретики «заговора» ублюдочно низводят эту направляющую руку с небес на землю.
А реальный, действительно существующий заговор направлен на то, чтобы сделать антисемитизм не только удобным, но и выгодным. Удобен он потому, что можно рисоваться пламенным борцом, не подвергаясь никакому реальному риску. Больше того, КГБ рассматривает такую «борьбу» весьма и весьма благосклонно, так как она объективно направлена против вполне реального лагерного сопротивления. Тот же Вагин получил в порядке поощрения дополнительное личное свидание – случай среди лагерной молодежи неслыханный. Свиданий КГБ боялось больше всего, всех «неблагонадежных» старались лишать оных. Я, например, за семь лет получил только одно личное свидание с мамой. С женой – ни единого.
Атмосфера всеобщего заговора витает над Россией и над каждым ее жителем. Одной политзаключенной-поэтессе КГБ предложило после освобождения квартиру в Москве, гарантированное печатание ее стихов, изобилие славы и денег. Взамен требовалось только одно: сотрудничество. Агентесса в ореоле талантливой мученицы крутилась бы [109] в оппозиционных центрах… Она категорически отказалась. Но сколькие Н Е отказались?
Я принимал участие в переправке информации из большевистских застенков в «большую зону». Многое сошло удачно. И что же? Самые страшные факты где-то «отсеялись». Кто провел такую селекцию? И где? В Москве? На Западе? По дороге? Конспиративность цепочки крайне затрудняет выяснение. В Москве ходят упорные утверждения, что даже некоторые западные журналисты и дипломаты получают вторую зарплату – от КГБ.
Один из сидевших в лагере армян был во время войны офицером. Москва формировала тогда польские части, и его, армянина, направили туда в качестве командира. Спорить было бесполезно. Польская армия, даже формируемая Москвой, не обойдется без костела. И армянин водил своих солдат, те падали на колени, молились, а он оставался стоять. Однажды подходит к нему ксендз и тихо, чтобы никто не слышал, спрашивает: «Вы почему не становитесь на колени?» «Я коммунист, уже десять лет», – прошептал армянин. «А я уже двадцать лет коммунист, – становись на колени!» Церковный корпус насыщен агентами КГБ, которые доносят о тайнах исповеди, распутным образом жизни отвращают народ от веры и т.д.
Последние двадцать лет осуществляется массовое проникновение коммунистов и в западные церкви.
* * *
Как-то в библиотеке подходит ко мне полицай и возмущенно спрашивает:
– Вы что это жалобы пишите, чтобы людям бандеролей не выдавали? Мне сегодня не выдали и сказали, что из-за вас!
Я спокойно вытащил из бумаг свою жалобу и подал ему;
– Читай!
Мы как раз обжаловали незаконную невыдачу бандеролей.
– Да, но цензор говорит, что вы писали совсем другое!
– Пойдем к нему, спросим.
– Нет, нет, что ты, я боюсь…
Это была очередная провокация против евреев, осуществляемая через слаженный блок чекистов и нацистских карателей.[110]
Когда мы заходили в соседний барак навестить друг друга (ледяными зимами трудно делать это среди сугробов), полицаи наперегонки бежали докладывать на вахту. Являлись менты. Проходя мимо галдящей, режущейся в азартные игры толпы полицаев из всех бараков, красные каратели, как сомнамбулы, направлялись прямо к нам.
– Вы почему в чужом бараке? Кто это нарушает? Вудка, Альтман, Бутман? А ну, по местам! Рапорт напишем, опять в карцер попадете!
Полицаи удовлетворенно гогочут. Надо, мол, уметь жить!
Но «умеют жить» не только провокаторы. Два русских парня договорились между собой и по очереди пошли к оперу, предлагая свои услуги, за посылки, разумеется.
– Я там припрячу самодельный нож, а ты доложи!
– А я сделаю то-то – скорее беги к оперу!
И оба дружка вместе съедали «наградные», хохоча над своим «шефом».
А молодые провокаторы тем временем имели свои хлопоты. Оперу нужна карьера, нужно проявлять свой гений. И он посылает своих ребят организовывать подкопы, навербовать побольше «побегушников». И те «вербуют», копают яму для вещественного доказательства – а потом всю компанию, кроме провокаторов, торжественно отправляют во Владимир. Я слыхал, что так попал в тюрьму Родыгин.
Особо доверенные полицаи иногда умирали внезапной, загадочной смертью. Был среди них гнусный тип с бабьим голосом по кличке «Воронок». Он работал дневальным в штабе, вызывал зеков на экзекуции и аудиенции, сторожил под дверями. Естественно, ему лучше всех были известны лагерные тайны, сокровенное. И вдруг его разбил паралич, и беспомощное тело унесли на носилках.
– Чекиста, позовите чекиста! – надрывно кричал он в палате. Но никто не явился к умирающему Воронку.
– Суд Божий! – говорили сектанты.
– Он слишком много знал! – отвечали умудренные зеки.
– Чекисты отравили! – предполагали третьи.
Во Владимирской тюрьме медленно слеп Лесив. Он уже не мог читать писем из дому, и это делали за него товарищи по камере. Врачи пожимали плечами. Тюремные власти тоже. Все делали вид, что абсолютно ничего не происходит. «Моя хата с краю, я ничего не знаю». А в это самое время в далекой Мордовии чекист угрожал Михаилу Дяку, товарищу Лесива по «Украинскому народному фронту»: [111]
– Ваш Лесив в тюрьме уже совсем ослеп. Смотрите, как бы и с вами не случилось то же самое!
Дяк остался при своих глазах, но на Урале заболел раком. Чекисты сказали: раскайся, тогда будем лечить! Дяк отказался. Его актировали в безнадежном состоянии.
Многие провокаторы уже разоблачены настолько, что использовать их по назначению невозможно. Эти просто «отстаивают» официальную линию во всех вопросах, создают фон «гласа народного», иногда довольно курьезно. Армянский патриот Сако Торосян возмущался тем, что кавказскую женщину отрывают от «семьи и делают общественной»
– Что ты панымаэшь! – кричали ему в курилке прожженные кавказские полицаи, вращая нахальными усиками, – жэнщына лучшэ всэх, она большэ всэх работаэт! Жэнщын нада в правытэльство!
– Эх ты, а еще капказки чэловэк! Гаварышь такоэ! Ышак большэ всэх работаэт! Ышак должэн править! Самый лучший чэловэк – ышак!
36. ПРЕЗИДЕНТ НИКСОН И МЫ
Когда поступило сообщение о визите Никсона в Китай, лагерь воспрянул духом. Только и было разговоров:
– Ну, теперь этого зверя зажмут с двух сторон!
– Да, не пикнет! Деваться некуда…
Шовинисты ходили мрачные, о чем-то тревожно шушукались. Потом выяснилось, что Никсон после Пекина приглашен в Москву.
– Отлично! Почувствовали, гады, что жареным пахнет!
– Да, приглашают… Хотят миром уладить…
– Ну, ребята, пора паковать чемоданы!
Менты совсем присмирели. В зоне появлялись редко, ходили как сонные, почти не придирались.
А в это время в психбольницах срочно оформляли документы на освобождение всех внезапно «выздоровевших» диссидентов. Часть уже успели выпустить. От Никсона явно ждали ультиматума и были готовы его принять. Шутка ли, блок Запад – Китай!
При колоссальных пространствах России война на два фронта – это заведомое поражение. А ведь шантаж войной – решающий рычаг московской внешней политики.
Никсон приехал в Москву. Первым делом он заявил, что не собирается вмешиваться во внутренние дела.[112] Дескать, можно прекрасно поладить и без этого, концлагеря тут ни при чем. Большевики поняли с полуслова. Двери психушек моментально захлопнулись перед носом уже подготовленных к освобождению. Менты подняли голову и совсем озверели. Половину политзаключенных отправили на Урал. Следующий приезд Никсона уже заранее ознаменовался разгулом репрессий. Каждый шаг никсоновской разрядки мы жестоко чувствовали на собственной шкуре. Мудрено ли, что вскоре это почувствовали и те, кто хотел сделать на наших шкурах удачный бизнес – почувствовали во Вьетнаме, в Анголе, в собственных нетопленных квартирах. Уотергейт мы восприняли как Божью кару.
В день отъезда Никсона из Москвы меня ни за что ни про что бросили во внутреннюю тюрьму концлагеря с шестимесячным сроком. Этому предшествовало одно удивительное событие.
Загружал я очередной вагон готовыми футлярами для часов. Когда все кончилось, вышел отдохнуть, посидеть немного с друзьями на травке. И вдруг вижу перед собой живого Мартимонова – я даже зажмурил глаза и головой замотал, чтобы призрак рассеялся. Но нет, стоит, в вольной одежде у входа в лакокрасочный цех, с той же шевелюрой, что и всегда (мы-то стриженые наголо ходили). Может, двойник. Но нет, как две капли воды… Где еще найдешь такой сверхкурносый нос… И рост, и фигура, и прическа, каштановая, слегка кудрявая, с боковым пробором: та же манера одеваться, та же походка…
– Это кто такой?
– Новый вольный мастер…
– А как его фамилия?
– Не знаю. Можно выяснить.
Но я-то знаю. В голове неотступно крутится страшная мысль: вот он, прямой виновник стольких лет ада, вот он, наш черный гений, вот он, предатель!
Души сидящих в разных лагерях как будто взывают ко мне: отомсти! Взгляд невольно упирается в лежащий в десяти шагах топор. Одним ударом разрубить глыбу смерзшегося ужаса – а там будь, что будет! Страшным усилием подавляю в себе бешеный порыв. А вдруг не он? А вдруг случайный двойник? И потом… пусть лучше его, как Каина, Бог покарает… Эх, не рожден я убийцей! Лишь много позднее, когда эмоции улеглись, понял я, зачем понадобился им Мартимонов. Они-то ведь не знали, что мне известна его метаморфоза.[113] Они хотели раскопать новые связи, подбить на что-нибудь, накрутить новый срок; возможно, даже и пристрелить при попытке «подготовленного» побега… Мартимонов явно намеревался изобразить себя замаскированным борцом, конспиративно проникшим в лагерь, чтобы спасти меня…
На следующий день я должен был выходить во вторую смену. Утром попросил знакомого парня, работавшего в лакокрасочном цеху, разузнать подробности о новом мастере. При этом я неосторожно поделился своими эмоциями. В тот же день я вместо работы очутился во внутренней тюрьме концлагеря.
Тяжко было идти среди некошеных трав туда, в каменный гроб. Только-только дождался лета и… Об этом и говорил мне в штабе, куда меня предварительно привели объявить о наказании, толстый офицер МВД.
– Ой, какой начальниче-е-ек! – встретили его при первом появлении отрядные уголовники, оглядывая и стараясь даже ненароком пощупать его толстый зад. Теперь настала его очередь проявить извращенное сладострастие.
– Ну что, Вудка, в камеру идем? А? На лето – в камеру! Потом зима, а к следующему лету во Владимир поедете, опять воздуха не понюхаете. Хорошо, а?!
И он, как кот, прижмурил от удовольствия свои и без того узкие глазки на лице, расплывшемся от жира и блаженства.
Последний раз вдыхаю запах колосящихся трав, последний раз подставляю лицо солнцу и среди вездесущих колючих оград направляюсь под усиленным эскортом в сумрачную сень затхлого камня. О чем думал я, лежа на нарах? О чем не думал? Думал о том, как все туже затягивается петля, как всасывает меня бездонный омут.
Когда целыми днями сидишь в камере, мысли, как набегающие волны, неустанно сменяют друг друга. За ними, как за шумом моря, забываешься, отдыхаешь. Но я был уже достаточно «старым» зеком, чтобы и мысли чаще крутились вокруг колючих проволок.
Вспомнился мне пожилой литовец, который по-польски рассказывал о своей встрече со святой Терезой Нойман. Говорить по-русски он совсем не умел. Во время войны каким-то образом попал в Германию и обратился за духовной поддержкой к своей знаменитой сестре по вере. Та приняла его у себя и предсказала ему всю его будущую жизнь. Предсказала его переселение в Польшу и в Советский Союз, предсказала советский концлагерь. До сих пор все сбылось в точности! Теперь он [114] ждет досрочного освобождения в 1974 году, после чего должен вернуться в родную Литву.
– Так сказала Тереза, а она не может ошибиться! – твердил он.
Вспомнилось знаменитое пророчество Иоанна Кронштадского, который предрек победу красных в 1917 году и их крах в 1977. Об этом знает каждый зек.
И опять Тереза… Когда гестаповцы держали ее под домашним арестом, они удивились тому, что она ничего не ест. «Я питаюсь светом», – успокоила их Тереза. Нацистов это настолько испугало, что они ушли и оставили ее в покое.
Лежу и улыбаюсь, восстанавливая в памяти представления матерых антисемитов: живет себе какой-нибудь еврей-печник, на него и плюнуть никто не хочет, а на самом-то деле он… правитель мира, тайный член девяносто девятой ложи, в душе посмеивающийся над заносчивым поведением окружающих… Совсем уж некстати всплыла гротескная сцена в уголовной тюрьме. Баба-уголовница моет лестничную клеть перед нашей камерой. Воспользовавшись отлучкой мента, заглядывает в глазок и горячо шепчет:
– Мальчики, покажите… Мальчики, запускайте!
Я не понял, о чем она. Мне объяснили, что имеется в виду онанизм…
И опять видится барак. Я сижу в коридорчике, куда из-за двери доносится шум «производственного совещания». Звучный баритон полицая-передовика берет очередные повышенные социалистические обязательства.
Совещание окончено, толпа вываливается из двери. В одной из группок тот же полицай со всей искренностью шипит:
– У, коммунисты проклятые… – Лицо его искажено ненавистью.
Слава Богу, сейчас не зима, не приходится дрожать от холода. Дыхание не вмерзает в усы, не превращает их в сосульки… Мой сосед по камере – Николай Федосеев, малограмотный мужик лет сорока. Он большой сказочник и балагур. Рот у него не закрывается целый день. Мне запомнилась одна рассказанная им история. Сошелся он с какой-то бабой, которая работала в военкомате, бывшем некогда церковью. Церковь высоченная была, с очень толстыми стенами. Так они на самой верхотуре развлекались в оконной нише, рискуя вывалиться наружу из своего поднебесья. Им почему-то очень нравилось делать свое дело «со страхом». При этом Федосеев считал себя «душевно верующим» и носил на шее большой самодельный крест из нержавейки. Руки у него [115] золотые, все умеет мастерить. О своей посадке он говорил в то время такими таинственными намеками, будто он по меньшей мере резидент трех разведок. В лагере многие любят создавать себе легенду или напускать туману для красоты. Потом выяснилось, за что посадили Федосеева. Был он детдомовец, отца-матери не ведал, колесил по империи, в основном по Югу. Как-то подобрал бабенку по душе, хотел жениться. Но квартира – где ее взять? В России не выживешь в шалаше… Мытарили его, мытарили, но квартиры так и не дали. Куда ни обращался – дело ни с места. Отчаявшись, написал Моше Даяну: у вас, мол, безработица, зато квартиры дают; так вот, хомут мне не нужен, я его завсегда найду, а вот квартира нужна – возьмите меня к себе. Написал, как всегда, с тремя ошибками на каждые два слова, без точек, расставляя запятые где попало, будто с закрытыми глазами. Говорил Коля складно, хоть и с матерком, но в письме уловить его мысль было очень трудно. Запечатал и бросил в ящик. За это КГБ Таджикистана отвалило ему пять лет концлагерей, плюс сибирская ссылка опосля… Так малограмотный русский рабочий Николай Федосеев свел короткое знакомство с «рабочей» властью. Был Коля парень наблюдательный. Подметил он в щелку кормушки особые шашни дневального с ментами.
Давно у нас брюхо сводило: баланда даже для внутренней тюрьмы была чересчур жидковатой. Оказывается, дневальный сначала приносил бачок в караулку, пропившиеся менты вылавливают и пожирают всю гущу, а нам остается сизая водица… Даже знаменитой каши из отрубей нам доставалось ложечки по две… Жрали зековскую баланду самые бессовестные, наглые и злые молодые менты: Матвеев, черный, длинный, поджарый, походил на гончего пса, Коркаш – прыщавый ублюдок со стрелочными усиками неопределенного цвета и вечной злобной гримаской на отвратительной узкой физиономии и Титушкин – белобрысый, голубоглазый, пухлый, как ребенок, белокожий, с нежным румянцем, был бы даже красив, если бы не отталкивающий садистский блеск в глазах да нахальство сторожевой собаки.
Однажды отрядный Лялин принес во внутреннюю тюрьму бирки с фамилией и номером. В зоне это украшение уже красовалось у всех на куртках. В камеру его принесли только мне одному. Я, ни слова не говоря, при менте бросил номера в парашу. Опять угодил в карцер.
Нас заставили полировать футляры вручную – сначала на «улице». Потом нас увидел «Луноход» – и приказал из колючепроволочного дворика перевести в закрытую рабочую камеру. Было там затхло и [116] сыро. Мельчайшая древесная пыль висела в воздухе, забивалась в нос. Крохотный вентилятор медленно поворачивал лопасти в своей оконной отдушине, но в камере от этого ничего не менялось. Однако видимость была соблюдена: «вентиляция» есть! Требовать врача было бесполезно. Жена начальника лагеря Усова, низкая, грузная дама со слоновыми ногами, вечно мрачная, ненавидела меня лютой ненавистью и готова была сожрать, уж не знаю, за что. Она была фактической хозяйкой санчасти. Мы с Колей забастовали. Предпочитали валяться в карцере и смотреть, как за окном, опаутиненным тонкими проволочками сигнализации, желтеет и выгорает июньская трава… Дождями в 1972 году Бог большевиков не баловал, но Америка, как обычно, выручила, хлебушком наделила. Друзья познаются в беде! Заходил в карцер и «Луноход» Вельмакин, но мы даже не вставали, лежали, повернувшись к нему задом. Вельмакин огорчился и перестал нас посещать. А чтобы мы впредь не могли валяться задом к начальству, «Луноход» наказал рабам своим ломать деревянные нары. И пошел треск и гул великих работ, перекатываясь из одной камеры в другую. Руководил работами мой старый «благодетель» Завгородний. Он из кожи вон лез, старался вовсю, его командирские повеления звенели под низкими потолками маленькой тюрьмы.
Среди зеков считается подлым делать что-нибудь охранного или репрессивного назначения. Но в лагере, где сводный хор полицаев поет со сцены лагерного клуба «Партия – наш рулевой» – понятия о стыде и совести сохранились далеко не у всех. Эта империя отличается стремлением подорвать в человеке именно нравственное начало в первую очередь. Без этого человек не может стать полноценным винтиком. И палач требует, чтобы жертвы даже на дыбе распевали ему хвалебные гимны. К малейшему проблеску откровенности он чувствительнее, чем к пуле. Кроме того, ликующие хороводы верноподданных жертв необходимы сверхциничному палачу для обмана всех вокруг. И находится достаточно публики, которую этот рвотный спектакль завлекает и гипнотизирует. Может быть, дело в размерах трагикомедии, когда на подмостках величайшего в истории балагана скоморошествует сразу триста миллионов актеров? Человек, у которого подорвано понятие о позоре, за выгоду или из страха пойдет на все. Поэтому главная задача – загнать его в театр приторной клоунады, развратить и растлить душу проституцией ежечасного лицемерия. Законченный «новый человек» – это тот, кто уже не способен краснеть. [117]
Увы, в команде Завгороднего были и молодые. Один из них распевал песни, запросто шутил с ментами, предлагал залить на свеженаложенный бетон еще больше воды… И, по иронии судьбы, он же первым «обновил» сработанный им карцер… Правда, и это его не образумило. Он старался за свои сутки сделать как можно больше футляров, чтобы потом подняли норму всем попадающим во внутреннюю тюрьму. За это менты приносили ему, вечно голодному, хлеб…
* * *
Образ мышления советских коммунистов – это нутряная вера в магию. Всмотритесь в торчащие на каждом метре плакаты, вслушайтесь в повторяемые ежеминутно лозунги и обороты: тут нет и капли практицизма, позитивизма, чего-либо осмысленного, это сплошные магические заклинания.
И когда в слаженном хоре беснующихся шаманов раздается диссонанс инакомыслия, – коммунистические бонзы впадают в панику: ведь мироздание держится только на магическом смысле их мантр! Где разрушитель мироздания? Где Герострат?! Сию же секунду заткнуть ему глотку, раздавить, упрятать, куда Макар телят не гонял! И поэтому же всем средствам массовых заклинаний предписывается не изменять в них ни единой запятой: а то вдруг утратится магическая сила!
Только поэтому владыки многомиллионной армии, стратегических ракет, атомных бомб, десятков тысяч самолетов и танков так неправдоподобно боятся простого человеческого слова. Но что за сила загнала их в такие бездны патологии? это сила ими же пролитой крови, которая вопиет… Это комплекс Бориса Годунова, у которого «мальчики кровавые в глазах». А когда таких мальчиков на счету десятки миллионов, – не до трезвости… Так человек, произнесший неугодное слово, превращается в КОСМИЧЕСКОГО ПРЕСТУПНИКА.
* * *
Теперь мы, опальные среди опальных, оказались в новеньких, с иголочки, камерах, с еще насквозь сырым бетоном, нестерпимым запахом краски, откидными нарами, которые открывались только на ночь, скамейками, упертыми в стол так, что сидеть приходилось, перекорежившись набок.[118] Камера была так искусно спланирована, что и для ходьбы места не оставалось. В карцерах же не было и скамеек…
Но недолго дано было нам праздновать новоселье. Вдруг пришла волнующая, тревожная весть: этап! Что? Куда? В караулке появились наши чемоданы, Титушкин рылся в моих носках и белье.
– Собирайся! Живо! Что копаешься? Быстрее, быстрее!
Спасибо Никсону. Выручил. Куда нас теперь? На Север? В Сибирь? Большинство русских хочет избавиться от собачьего образа жизни, но при этом сохранить все колониально-имперские мерзости. Большинство западников хочет умерить внешнеполитические аппетиты Москвы, а за железным занавесом пусть себе все остается по-старому. И мало кто понимает, что одно неотделимо от другого, что это две стороны одной медали. Империя не может сохраниться без звериной жестокости, которая не минует и метрополию. Ведь это единый организм, в котором формируется как бы единая психика. Но идеал деспотии остается неосуществленным, пока не все ею охвачены. Тиран чувствует бешеную ярость при мысли о том, что где-то кто-то может безнаказанно насмехаться над ним. С другой стороны, им же раздуваемая внешняя напряженность – лучшее оправдание для тирании. Враги, мол, война – что поделаешь? Идеократия не может даже в собственных глазах утвердить свою абсолютность, пока целые общества на земле живут совершенно другими идеями. Это тоже «диссонанс», который надлежит любой ценой заглушить. Вера глубокая и подлинная не нуждается во внешней поддержке, в воинственном миссионерстве. Когда же сердце гложет кровавый червь сомнения, самозванцу требуется, чтобы ему поклонились все до единого – только тогда он сам вполне поверит в свое «избранничество». Пока есть хоть один сомневающийся – червь сомнения не покидает и сердце самого самозванца.
И, наконец, неотделимая от империи опричнина поколение за поколением выкашивает среди подданных все мыслящее и волевое, искореняя лучшую часть генофонда. То, что остается, подвергается развращению имперским лицемерием, подлостью, паразитизмом, безответственностью, коррупцией, всем тем, что украинский публицист Сверстюк назвал «отбором по наихудшим признакам». Продукт империи – беспочвенное и ни на что не способное человеческое стадо. Но тем самым империя как бы сама себя кастрирует. Чтобы не сгнить заживо, чтобы выжить, ей требуется постоянный приток свежей, еще не испорченной крови. А потому все новые завоевания – вопрос жизни и смерти.[119] Потом и на новых территориях все втоптано в грязь, превращено в навоз – и саранча движется дальше…
В свое время Рим уперся на Западе в океан, на Севере – в дебри, на Юге – в пустыни и на Востоке – в Парфянское царство.
Поскольку дальше двигаться он не смог, то медленно и страшно, как прокаженный, сгнивал заживо. Умирая, он увлек за собой в могилу почти все народы тогдашней средиземноморской ойкумены…
Сколько еще народов погубит Москва, этот открыто провозглашенный Третий Рим? «Мир во всем мире» должен быть подобен «миру», который устанавливается теперь в Индокитае, а еще раньше в Литве и Кенигсберге.
37. ВЕЛИКИЙ ЭТАП
У самого лагерного забора, мимо громадных железных ворот и вышек проходила железнодорожная колея. Ее ответвление входило в сам лагерь, чтобы можно было ввозить тяжко скрипящие вагоны с бревнами и вывозить готовую продукцию, тщательно упакованную.
Сейчас целый поезд, состоящий из столыпинских вагонов, стоял перед лагерем, поглощая в свое темное чрево толпы зеков. Недолго радовались мы знойному звенящему небу, недолго ждали своей очереди, хотя нас, узников вдвойне, загружали последними. Конвой орал озверело, раздевал нас догола и шмонал; даже в наготе нашей им виделось что-то ужасно подозрительное, они готовы были залезть под кожу. Грубые окрики, ругань, взгляды, полные дикой злобы и ненависти, оружие наизготовку. Часть клеток специально оставляют пустыми; нас вталкивают в остальные плотной толпой, тщательно обысканной. Отбирают даже ключики от чемоданов (и это оружие?). Я их так обратно и не получил. Выбросили, пожалуй. Разместиться негде, жара нестерпимая, эти звери специально не открывают окна. Вот такие расстреливали и давили танками демонстрации своего же народа в Новочеркасске в 1962 году, когда голодные рабочие, их жены и дети вышли на улицы требовать хлеба… Уцелевших, тех, чьи кишки и волосы не были намотаны на танковые траки, массами отправляли в абсолютно изолированные от внешнего мира концлагеря без права переписки. Говорят, до сих пор томятся они где-то на Печоре… Впрочем, начальник местного гарнизона, не желая отдавать страшный приказ, застрелился. Бывало, застреливаются и караульные на лагерных вышках, не выдерживают… [120]
Каждый час конвой врывается в нашу переполненную клетку, забирается на нары грязными сапожищами, шарит под нарами, что-то ищет фонариками, набрасывается, толкается, пересчитывает поголовье… Дни и ночи, дни и ночи ползем мы по русской степи в обход больших станций; подолгу замираем на тупиках, чтобы не увидел никто… На Север, на Север… Едут вагоны, увозящие половину зеков из мордовских политлагерей, с тройки, семнадцатого, девятнадцатого. Спать негде, пробуем ложиться на пол, кто не умещается на переполненных нарах. Грубые окрики, мат:
– Встать! Не положено! Быстро! Быстро, мать-перемать, а то… – Свирепые угрозы.
– Где же нам спать?
– Где хочешь! Тут тебе не курорт, мать-перемать! Контра недобитая!
Атмосфера гражданской войны, которая вроде никогда и не кончалась.
В нашей клетке едет тяжело больной старик Орлович, верующий, светящийся тихой добротой, свойственной многим белорусам. Он весь в своей огромной седоватой бороде, только кроткий взор печально смотрит вокруг. Вывода в туалет невозможно добиться, а когда, наконец, выводят по одному, дверь держат открытой и над головой стоит солдат, который дико орет:
– Быстрее, быстрее! Чего расселся?! Быстрее, мать, м-м-мать твою!!!
У Орловича кровотечение из прямой кишки, за долгий срок все внутренности вышли из строя; нервы, как лопнувшие струны… Ему и в нормальных-то условиях оправка стоит огромных усилий и времени, а в присутствии кого-то у него вообще нечто вроде спазмы…
Уже несколько суток он не может оправиться… Почти уверен, что умрет, не доедет… Даже по-маленькому в такой обстановке у него не получается.
Сутки напролет все время умоляем конвойных, чтобы дали старику спокойно посидеть в туалете, чтобы не выгоняли, чтобы закрыли дверь… Ну, куда он, еле живой, улетучится сквозь железо? Каким-то чудом нам удается ублажить краснопогонников. Орлович спасен.
Проезжаем вдоль Волги. Когда-то здесь была Хазария, великое иудейское государство. Железная коробка вагона накаляется под солнцем; духота настолько нестерпимая, что даже конвойные, не сидящие в переполненных клетках, а вышагивающие по коридору вдоль них, не выдерживают. Они наполовину открывают матовые окна.[121]
Взгляды зеков из темных клеток, пересекая коридор вагона, приковываются к щели в большой мир. Так, наверное, смотрит внезапно прозревший слепой.
Солнечный день, какие-то кручи, геологи со своими приборами, среди них женщина в брюках нежится в густой траве… Мелькают картины, пейзажи, поселки, волжские пляжи, полные загорающих, и опять женщины… И вспоминается лагерная история, история советского Эдипа. Один из зеков был уличен в том, что на свидании сожительствовал с собственной матерью.
– А кто же, кроме меня, его пожалеет? – плакала допрашиваемая мамаша.
Окно немного спасает от духоты. В других вагонах, где конвой был еще злее, зеки дошли до того, что стали хором, все вместе, в унисон, раскачивать вагон на ходу из стороны в сторону… Они предпочитали быструю смерть. Конвой испугался, что вагон действительно опрокинется, и только тогда уступил. Окна были открыты, зеки немного отдышались… Воду вымаливали тоже с боем, экономили, берегли каждую каплю. Не было и речи о том, чтобы умыться. Все дни этапа умывались только собственным потом в переполненных жарких клетках. Духота стояла такая, что с людей лилось градом. Подушечки пальцев сморщивались, как от долгой стирки… Сердечные приступы, обмороки, один умерший в дороге – и никакой поблажки, никакой помощи.
Начинаются холмы и горы Урала, поросшие тайгой. Мрачные, зловещие просторы. Глухие, обшарпанные селения; какие-то корявые, неказистые фигуры жителей; адское пламя металлургических печей, удушливый, едкий, серный дым стелется по земле, разносится ветром. Покосившиеся, почерневшие бревенчатые избы-клоповники, в которых люди зачастую живут вместе со скотом. Ни садика вокруг, ни цветов, ни аккуратненьких, ухоженных огородов, как вокруг чистых, беленых хаток Украины. Все пусто, грязно, голо и мрачно. Скудные, жалкие, заброшенные поля, покрытые какой-то пожелтевшей щетиной… Все нагоняет смертельную тоску. Эти черные, сумрачные дебри созданы для зверей, не для людей. Много пьяных шатается или валяется по пути. Вот они, спасители человечества! В окнах несколько раз видны были пожары. Сушь стояла страшная. В одном поселке дотлевали головешки сгоревших изб, в другом занималось свежее зарево.
Почему-то вспоминался Сако Торосян. Он как-то пришел на политзанятия и спросил у офицера, как обстоит с правом армянского народа [122] на независимость. Армения – самая древняя и жизнестойкая страна из поглощенных империей, это народ старейшей и великой цивилизации. После политзанятий «Гитлер» стал задираться к Торосяну.
– Вы не нация, а спекулянты, – навязчиво и нагло лез он в лицо Сако, – вы только умеете торговать своими фруктами и наживаться на русской бедности!
– Кто вам виноват, что вы бедные – возмущался Сако, – кто вам мешает привозить в Ереван свою картошку? Картошки в Армении нет, она у нас стоит дороже, чем здесь – армянские фрукты! Привозите, продавайте, вам только спасибо скажут! Но нет, вам надо пить и разрушать, а когда жрать больше нечего – лезете к нам в республики, еще не до конца разоренные…
«Гитлер» полез в драку, бросался при всем бараке на Сако с ножом, но никто его не наказал, только сам Сако выбил нож да намял бока. А сейчас в соседней клетке едет важнейший член сформированной позднее на Урале группы бандитов, которые вместе с Гитлером терроризировали политических, он свирепо спорит с бойцом УПА Симчичем о «жидовском заговоре». Этот тип – воспитанник Вандакурова Исмаилов, не то татарин, не то башкир, здоровый, тупой и наглый.
– Що, тоби жыды зараз воды нэ дають? Ця мулька вжэ нэ пройдэ! – доносится голос Симчича.
Внезапно конвойные останавливаются возле нашей клетки. Они внимательно вглядываются в полумрак и называют мою фамилию. В руках у них какие-то бумаги. Что такое?
– Собирайся с вещами!
– Куда? Мы же в едущем поезде!
Ведут по качающимся вагонам. Попадаю в маленькую клетку, где едут двое молодых ребят с семнадцатого лагеря. Оказывается, весь этот вагон заполнен зеками с семнадцатого. Значит, на Урале я буду сидеть вместе с ними. Где Шимон? В другом конце вагона. Перекрикиваюсь с ним по-еврейски. Иосик Менделевич в одной клетке с Шимоном. Бог даст еще познакомимся.
Вагон останавливается. Кажется, приехали. Зеков выводят по одному. Меня – в числе последних. Весь перрон окружен краснопогонниками с автоматами на изготовку, множество немецких овчарок. Зеков огромные толпы, воронки не развезут такое количество, и ребят грузят в открытые грузовики с автоматчиками. Только десяток-другой избранных, и меня в том числе, впихивают в воронок.[123]
Я никого не знаю – все из других лагерей. Сижу в этой железной коробке, стиснутый со всех сторон. Кто-то, кому не хватило места, наваливается на меня, на других. Воронок, вытряхивая из нас кишки, на полной скорости газует по страшным уральским ухабам. Адская дорога как будто не имеет конца. Поворот за поворотом, один страшный толчок за другим, целые очереди сотрясающих ударов. Еле живые, доезжаем до лагеря. Однако двери не открываются. Зеки стучат кулаками по раскаленному от солнечного жара железу. Ноль внимания. Через полчаса появляется солдат.
– Чего надо?
– Задыхаемся… жарища… в туалет надо… воды…
– Ждите!
– Мне в туалет надо! Не могу больше! Выводи!
– Делай под себя! – и солдат смеется, довольный остроумной шуткой.
Та же раскаленная духота, мы закупорены на самом солнцепеке. Стук, крики, проклятья, обмороки, стоны. Я сижу неподвижно, не хочу тратить силы и доставлять лишнее удовольствие палачам. Может быть, мне легче, как человеку южной расы. Другие просто изнемогают. Те, у кого еще есть силы, начинают раскачивать воронок, чтобы он вместе с нами опрокинулся. Все равно пропадать! Один пытается вскрыть себе вены – я удерживаю его.
Когда через несколько часов открывают двери, я выхожу, шатаясь. Одежду можно выкручивать, в голове пусто, ни одной мысли. Только глубоко вдыхаю воздух, разевая рот, как рыба.
В лагере на меня набрасывается Шимон, чуть не душит в объятиях. Добираюсь до колонки и пью, пью с ладоней попахивающую болотом водицу, которая кажется мне самой вкусной на земле.
В переполненной человеческими телами примитивной бане обнимаюсь с Олегом, знакомлюсь с другими ребятами. Грязные тазы с разводами, очереди у кранов, хлопающие со всех сторон помои…
Кое-как помывшись, рассаживаемся на травке, приходим в себя.
Но лишь считанные дни дано было мне оставаться среди ребят. Всех зеков по одному вызывали в штаб, где сидело новое начальство. Когда привели меня, главный чекист, надзирающий за политлагерями, Афанасов, закричал:
– Он не досидел срок в ПКТ! Придется досиживать! [124]
Все, кто ехал со мной в воронке, тоже не досидели в ПКТ (внутренняя тюрьма). Но об этом никто не вспомнил. Позже выяснилось, почему меня не привезли на 35 зону вместе с остальными зеками девятнадцатой. Оказывается, там не была готова внутренняя тюрьма.
Я был единственным, кого с девятнадцатой мордовской зоны привезли на тридцать шестую уральскую.
Я был единственным из множества недосидевших, кого сразу после прибытия бросили досиживать во внутреннюю тюрьму.
И я вспомнил, как в уголовной тюрьме Малышев говорил Отелло:
– У тебя на лбу написано: «Пахать и пахать!» А повернешь – на затылке – «Без выходных».
А что написано у меня на лбу? Наверное, «левад» («выделенный»); то же самое, что на лбу моего народа…
Были люди на особом режиме, которые писали на собственном лбу то, что думали. Модной была, например, такая татуировка: «РАБ КПСС».
За это у них срезали кожу со лба так, что шов проходил между бровями и волосами. Только для шва и оставалось место… Кроме того, добавляли срока, а некоторых даже расстреливали.
РАССТРЕЛИВАЛИ ЗА ДВА СЛОВА ПРАВДЫ. Эти расстрелы продолжались даже в начале семидесятых годов.
Когда меня выводили на получасовую прогулку, небо было затянуто дымом. Дали померкли. Горели леса, дома, торфяники. Небо жгло землю Каина.
38. КОРАБЛЬ ДУРАКОВ
Тишину моей одиночки через несколько дней нарушили крики зека, попавшего в соседний карцер.
Сосед оказался весьма буен, он не давал покоя ни днем, ни ночью. Это был, как он сам иронически представлялся, «Владимир де Красняк, кремлевский крепостной, белый раб страны советов». Был он из уголовников.
Красняк прославился тем, что однажды ему сделали какой-то укол, после чего вынесли из кабинета на носилках. Тем не менее Красняк не пал духом.
– Жертва жива! Эксперимент не удался! – на весь лагерь ораторствовал он с носилок. В карцер Красняк, насколько я понял, попал опять [125] за какие-то конфликты с лагерными медиками.
Первым делом он выбил стекла в окошке и стал сквозь решетку ораторствовать в сторону поселка.
– Жертва в блоке смерти! Коммунисты приходите, пейте кровь, топчите ногами тело, топчите и вашего Ленина, который воскрес!
– Красняк, что за Ленин? – заинтересовались менты, наперебой заглядывая в волчок.
– Вот он! (Красняк, расстегнув штаны, поворачивался к двери.) – Вот он, видите: лысый и бородка клинышком! Смотрите, смотрите, воскрес!
– Ах ты, такой разэтакий! – И менты откатывались от двери, давясь возмущением и смехом.
Красняк где-то видел репродукцию картины Питера Брейгеля «Корабль дураков». Это врезалось в его обостренное сознание, и теперь он луженой глоткой вслух зачитывал всем камерам свое очередное послание:
«Кораблю кремлевских дураков, кормчему Брежневу. Меняй курс, Леня!..»
И так далее, в том же духе. И снова Красняк ночи напролет орал («выступал», как он выражался).
– А-а-а-а! – во всю мощь легких ревел он, топоча сапогами по помосту. – Коммунистов – в зоопарк! Комсомольцев – на Луну! Коммунисты, комсомольцы, патриоты – недочеловеки!..
Его «транслируемые» на ментовский поселок лозунги постепенно начинали навязчиво вертеться у меня в мозгу. Но, видимо, не только у меня… Через некоторое время бровеносец в своей очередной судьбоносной речи похитил яркий красняковский образ:
– Наш корабль, – с трудом ворочал языком вождь, разрезая мелкую зыбь антисоветских кампаний, – плывет своим курсом. Ветер истории надувает наши паруса!
Плагиат был явный. А этого Красняк не прощал. Увлекали его и загадочные летающие тарелки. Красняк использовал их в своем очередном комбинированном лозунге:
– Да здравствуют обосц… трусы Катьки Фурцевой и перш с тарелками на лысой ленинской башке! Да здравствуют танцующие тарелки над кораблем кремлевских дураков!
Лозунг про Катьку понравился Григорьеву, беглому солдату, мальчишке из соседнего карцера. Он тоже из подражания разбил окно и [126] стал орать в него.
– Ты это брось! – окрысился на него Красняк. – Я над этим лозунгом три года думал! Свое кричи!
И Красняк, раззадоренный, с новой силой орал на поселок:
– …в глотку Котову, коменданту лагеря смерти!
– …в глотку вашему Брежневу!
Свою парашу Красняк величал: «Катька Фурцева». Карцера наполнялись, люди получали все новые срока, «материал» накапливался, их переводили на несколько месяцев камерного режима. Так кончалось мое одиночество. На прогулке в клетке из колючей проволоки я даже удостаивался общества Владимира де Красняка… А в камере со мной теперь был тот же Григорьев, худенький, бледный мальчишка, которого лагерные ужасы повергли в шоковое состояние. Все у него перемешалось: христианское юродство, уголовный жаргон, политика. Был он полурусским-полуукраинцем, родители разошлись, и это придавало ему дополнительную порцию внутренних противоречий и неустойчивости.
От всего этого у него было недержание речи. Говорил он без умолку, обо всем на свете, смешно тараща при этом свои голубые глаза и собирая в продольные морщины матово-белый лоб.
Но особенно болезненной и притягивающей темой были вопросы пола. Тут перемешивалось благоприобретенное христианское целомудрие с испорченностью уличного подростка. С каким-то внутренним надрывом рассказывал он о том, кто, где, как и с кем сходился.
Мне запомнились, например, истории, как забеременели его соученицы. Одна из них прямо на школьном уроке на задней парте расстегивала брюки своему мальчику. Другая, в двенадцать лет, только-только начало просыпаться в ней женское начало, явилась к знакомому парню постарше якобы за книгой, почитать.
– Выбери себе, – ответил ничего не подозревавший парень, и указал на книжную полку за своей спиной. Когда через минуту он обернулся, девочка стояла совсем голая.
– Ты что?! – обалдело вскрикнул он.
– Я тебя хочу, – ответил ребенок.
– Дура! Меня же за тебя посадят!
– Не посадят, я никому не скажу.
Противоречие между обостренной чувственностью и христианскими добродетелями терзало Григорьева, это ощущалось во всем. У него [127] было вырезано одно яичко, и об этом ходили противоречивые рассказы.
Один говорил, будто в больнице Григорьев из «фраерства» слишком близко сошелся с уголовниками. Те попытались его изнасиловать, кололи ножом, повредили, пришлось удалить.
Другой уверял, что Григорьев из пуританских побуждений пытался себя оскопить, но преуспел лишь отчасти.
Дело шло к зиме. Начинались сибирские морозы. Мы были уверены, что в состав тюремных стен специально добавлена соль, так как вся стена была в ручейках стекающей воды. Один из зеков окрестил ее «стеной плача». А Григорьев все рассказывал свои истории. Братец, по его словам, как-то подсмотрел за девочкой, которая развлекалась онанизмом. Он стал шантажировать ее тем, что расскажет об этом широкой публике, если она ему не отдастся. Потом какой-то мент убил брата на улице. За что, про что – неведомо, следствие замяло для неясности.
От его бесконечного словоизвержения тоже болела голова, не меньше, чем от Красняка.
– Ну, что ты исходишь словесным поносом? – злился на него Березин, неправдоподобно толстый зек по кличке «Император».
В разгар нашего сидения внутреннюю тюрьму начали переоборудовать, как в Мордовии, ликвидируя сплошные деревянные помосты. Строили новые нары, откидные, чтобы за весь бесконечный день человек не мог отдохнуть. В тесной тюрьме шипела электросварка, мы задыхались от запаха ацетона. Никто и не думал выводить нас на время работ. Красняк бесился, орал еще больше. Нас то и дело перебрасывали из камеры в камеру, иногда в связи с «ремонтом», иногда – в карцер и обратно. Свирепствовал начальник режима майор Федоров, тихий змий с белесыми глазками садиста, медленно, с наслаждением удушающий и заглатывающий жертву.
Когда-то, при Сталине, он выдвинулся тем, что самолично при зеках выколол штыком глаза трупам беглецов.
Перед нашим приездом на 35-м лагере сидели несовершеннолетние девочки. Некоторые из них были уже настолько прожженными, что ребята обнаружили в бараке целый штабель искусственных подобий мужского органа.
Но были и неиспорченные. Таких майор Федоров насиловал. Двое забеременевших повесились незадолго до нашего приезда. Видимо, [128] после такого ЧП решили срочно расформировать именно этот лагерь, чтобы спрятать концы в воду. Одна уголовница из Мордовской психушки («двенадцатый корпус» при концлагере № 3) сообщила политическим, что ее упрятали туда после группового изнасилования офицерами МВД прямо в кабинете штаба…
С самого начала нашего пребывания во внутренней тюрьме возникла одна небольшая проблема.
– Выходи в туалет! – будил зеков до свету мент.
– Хорошо, мне нужна бумага…
– Зачем?
Менты искренне недоумевали, зачем она может понадобиться в туалете. Стихи писать, что ли? Приходилось изыскивать ее невероятными способами, проносить тайно. Потребовались месяцы борьбы, чтобы бумага для туалета была легализована…
Баня находилась в противоположном конце лагеря, и раз в десять дней нас водили туда через всю зону. Ребята встречали по дороге, старались наперекор ментам сунуть какой-нибудь бутерброд. Иногда это удавалось, но на обратном пути нас тщательно обыскивали в коридоре, у входа в камеру. Так у Красняка однажды изъяли махорку и кусок хлеба.
– Вы у меня гнилую коммунистическую махорку из пасти вырвали! – надрывался от обиды Красняк.
Был у нас еще один «благодетель» – старший лейтенант с баснословной фамилией Рак. Он очень не любил, когда его фамилию склоняли. В творительном падеже она звучала неэстетично. И зеки специально изощрялись в письменных жалобах, досаждая зловредному Раку.
В туалет нас выводили только раз в день, в минуту подъема, в шесть утра. Не успевая толком проснуться, зеки далеко не всегда могли полноценно использовать эту драгоценную минуту. А потом было уже поздно. Правда, в ГОСТ, в отличие от карцера, положена получасовая прогулка в клетке из колючей проволоки. Зеки пытались проскользнуть мимо, в туалет, чтобы хоть за время, отведенное для прогулки, наверстать упущенное. Но не тут-то было. На их пути вырастал Рак, толстозадый, приземистый, с тоненькими черными усиками, с нервной рукой на портупее. Широкий и низкий, Рак выглядел, как в вогнутом зеркале. Он зорко стоял на страже социалистического нужника.
– Ну, что, не удалось? – млеющим от наслаждения голосом спрашивал он зека, который держался за живот.[129]
– Да, большевики привезли нас сюда показать, где раки зимуют! – мстили мы ему «коварными» ответами.
И Рак багровел и зеленел.
В зоне у него были другие дела. Он вырастал перед койками строптивых зеков прямо по сигналу подъема и требовал сиюсекундно встать; писал рапорта. Возмездием служили примерно такие письменные жалобы: «Мне 25 лет. Утром в связи с эрекцией мне неудобно сразу вскакивать при публике. Но Рак почему-то требует, чтобы я вставал именно в таком состоянии, причем непременно в его присутствии. От этого мне становится еще хуже… Я прошу избавить меня от нездоровых поползновений Рака…»
Но еще успешнее была тактика примитива Валетова, убежденного молодого коммуниста с кнопочкой вместо носа и большой круглой башкой. Коммунисты с некоторыми идейными отклонениями от генеральной линии преследуются красной инквизицией как еретики. Валетов по-пролетарски объяснил Раку, что к чему: «когда он ляжет, я встану». Рак не внял. Тогда Валетов со своего второго яруса вывалил из-под одеяла прямо под нос Раку свое хозяйство. Рак не поверил своим глазам, с минуту присматривался и принюхивался, потом с очумелым криком выбежал вон. Валетова наказали, но Рак по утрам уже не появлялся.
Был у Рака комплекс низкого чина.
– Гражданин лейтенант… старший, – как-то обратился к нему Шимон по поводу того, что на аппеле Рака почему-то интересовали только еврейские фамилии.
– И буду капитаном! – вырвалось у Рака.
«Рак не будет капитаном», – писали зеки на стенах лагерного сортира. Когда Рак старался доказать свою интеллигентность, он употреблял слово «фабула».
– А в чем фабула? – спрашивал Рак по поводу любого недоразумения.
– «Фабула» идет! – предупреждали друг друга зеки, завидев приближение тараканьих усиков Рака.
В эти «веселые» времена мы испытывали на себе еще и действие какой-то химической отравы, тайно подсыпаемой в пищу. Решили крикнуть об этом ребятам, когда поведут в баню.
– Не поверят ведь! – сказал сосед по камере. – Кто на себе не испытал, ничему не верит! [130]
Я все-таки крикнул об отравлении и услышал смешок неисправимого оптимиста Шимона:
– Не говори чепухи! Нас скоро всех выпустят!
Шимон верил в разрядку. Нас он понял только тогда, когда сам надолго попал во внутреннюю тюрьму, на наше место… Печальный урок психологии.
В то время приснился мне страшный сон. Будто не сплю, лежу в той же камере. Смотрю в окошко, а там на фоне решетки между двойными рамами каким-то образом примостился один из моих камерных соседей. Лежит, не то спящий, не то мертвый, вполоборота, с закрытыми глазами. Я поворачиваюсь и вижу его же, лежащего на нарах, рядом со мной! В этом было что-то жуткое… Сосед спит рядом со мной, а в это же время его двойник за окном просыпается, приподымается между двойными рамами и смотрит на меня со зловещей жабьей усмешкой Каина… Я проснулся, похолодевший. Только потом, после событий, я понял: это был знак на будущее…
Днем над нами куражился майор Федоров, изголялся Рак, находили миллион зацепок и придирок прапорщики Махнутин и Ротенко. Но и ночью покоя не было. Окошко упиралось в глухой лагерный забор, над которым высился страж с автоматом. Среди ночи нас будил жуткий, нечеловеческий вопль:
«Стой, кто идет?!!»
От одного этого «Стой!» можно было получить разрыв сердца. Часовой орал так, будто сгорал заживо. Выказывал усердие. Это была всего лишь смена караула… А днем – автоматная стрельба за забором, заливистый лай овчарок, резкие выкрики команд, топот марширующих ног, крики хором: «Здравия желаем, товарищ командир!» Получалось, будто куча дрессированных собак в унисон пролаяла: «Гав-гав-гав-гав!' С наступлением холодов майор Федоров обуреваем одной заботой: чтобы все камеры, стены которых покрывались водой и льдом, были постоянно заполнены до отказа. В зону его выводили на охоту, а в БУР он приходил насладиться жестокой игрой кошки с пойманными мышами. Когда мы выходили на прогулку, еще явственнее слышалось, как муштруются краснопогонники за забором. Приходил майор Киселев, старая седая лиса, антисемит и прохиндей, который писал рапорта до такой степени безграмотно, что зеки цитировали их друг другу, как образцы тупости.
– Ну, как мы себя чувствуем? – ехидно спрашивал он у нас, гуляющих по запертой клетке.[131]
– Да вот спорим, никак одной вещи в толк не возьмем!
– Ну!
– Коммунисты говорят, что произошли от обезьяны. Охотно верю, им виднее. Но вот от какой именно? От гориллы или от мартышки?
Киселев обижался смертельно, хотя был коммунистом и майором МВД. Ходили слухи, что он потихоньку ходит в церковь, замаливать грехи, накопленные в изобилии еще со времен Берии. Это не мешало ему продолжать свое дело…
– Я вот попросил врачиху Котову, жену коменданта лагеря, чтобы она меня к себе в собаки взяла! – рассказывал очередную хохму Красняк. – Обязался исправно сидеть на цепи и лаять всю ночь. Жить согласен в будке, пусть только кормит, как кормят собаку. Так она сказала, что я и ее, и ее детей сожру!
– Ишь чего захотел! Собаке мясо или хоть кости положены!
– Да, господа, мы тут все требуем прав человека, а нам бы хоть прав животного добиться! Ведь признают же коммунисты человека общественным животным? Животному положена подстилка – а нам в карцере – нет! Хозяин не морит собаку голодом – а нас морят! У собаки теплая будка – а у нас, чуть не голых, – на холодный бетон! В общество защиты животных надо жалобу писать. За людей нас не признают, – пусть признают хоть за животных! Ведь за такое обращение с животными – судят!
Хромой лагерный начальник санчасти Петров приходил в БУР со странными вопросами:
– Ну, как вы тут уживаетесь между собой?.. Чем занимаетесь?.. Не деретесь?.. А что читаете?
– Гомера.
– Гомера? Но, что именно? Повести, рассказы?
– Комедии, доктор…
Как-то мы гуляли в своей проволочной клетке, а доктор Петров направлялся через БУР в зону.
– О, шлеп-нога идет! – приветствовал его появление Красняк.
Не обращая на нас внимания, Петров со своей палкой поковылял к углу внутренней тюрьмы, расстегнул штаны и при всех стал спокойно мочиться… Туалет был всего в нескольких шагах, но интеллигента это не смущало. «А доктор Краузе достал свой маузер», – прокомментировал Красняк куплетом из блатной одесской песенки.[132]
39. «СТРЕЛЯЙТЕ КРАСНЫХ!»
Тоталитарные режимы, эти гении зла и подавления, оказываются потрясающе неэффективными в разрешении самых обыкновенных жизненных проблем. Если бы Россия не обладала такими колоссальными природными ресурсами, народ вымирал бы с голоду. Большевики очень умело выдают щедрость природы за свои собственные достижения. Вот попробовали бы они строить свой коммунизм, поменявшись местами с японцами!
Коммунистическое учение распадается на две составные части: утопические цели и злодейские средства. Причем, чем прекраснее и ближе изображается утопическая цель, тем более страшные средства она санкционирует. Но десятилетия идут, десятки миллионов принесены в жертву, а цель не ближе, чем вначале…
И тогда начинается поиск «врагов», мешающих и стоящих на дороге в рай. Внутренние враги в светлом и монолитном социалистическом обществе могут появляться только в качестве отрыжки, производной врага внешнего. Нужен враг! Сама неэффективность коммунистического хозяйствования толкает на тривиальный путь экстенсивного развития, то есть экспансии. Поэтому понятие коммунизм и мир – несовместимы. Поэтому коммунисты понимают только логику железной стены. Малейшее послабление смерти подобно.
На наше счастье, существуют два коммунизма (московский и пекинский), поэтому можно с помощью третьей силы – свободного мира – добиваться равновесия между ними. Это гораздо лучше, чем «задабривать» более сильного зверя все новыми подачками, все новыми странами… Очень странно подыгрывать именно тому, кто вот-вот дожрет Европу.
С теми, кто проявляет слабость и податливость, Советы поступают по обычаю уголовников: ставят «на четыре кости» и превращают в педераста. Я всегда поражался сходству между психологией уголовников и кремлевских вождей. Впрочем, это те же люди, вышедшие из того же деклассированного дна. Когда коммунисты кричат о мире – жди войны. Ибо их метод: «Держи вора!»
Но не только об этом думал я в последние камерные дни. Хватало и своих забот. Жена и недавно освободившийся брат решили приехать ко мне на свидание как раз в день моего выхода в зону. Во внутренней тюрьме меня не могли лишить свидания, так как оно там и без того [133] запрещено, а в зоне я и побывать не успею. Об этом решении мне сообщили намеком в письме, чтобы коммунисты не пронюхали и не подготовили заранее какую-нибудь каверзу.
Дадут свидание или нет? Жене – наверняка нет. Оно и к лучшему: перед свиданием разденут догола, подвергнут такому обыску, после которого хоть в омут, каждый закоулок тела обшарят. Родственники ведь тоже не свободные, а всего лишь на общем режиме! И после этого – свидание в камере с микрофоном. Менты будут сидеть за столом и подслушивать каждый вздох. Если же свидания не дадут – моим придется возвращаться ни с чем через всю заметенную снегами империю, за столько тысяч километров, с множеством пересадок – от края Северного Ледовитого океана до далеких Карпат.
Приехали они накануне моего выхода в зону.
Утром Рак, как всегда, выводил в уборную. Параши в 36-ой зоне были громадные из грубого листового железа, так что и пустую оторвать от земли было нелегко. Это было придумано специально для того, чтобы парашу невозможно было использовать в качестве «оружия».
На мою долю как раз выпало выносить полную парашу.
– Вынесешь? – спросил Рак.
– Надо вывести кого-нибудь из соседней камеры, ее только вдовем можно поднять.
Рак промолчал и повел меня в уборную. Между тюрьмой и уборной рыли фундамент на запланированные постройки. Федоров расширял тюрьму. Рвы, земляные насыпи, настилы, кучи щебенки – тут и без ноши шею свернешь.
Во второй половине дня, после основательной нервотрепки, меня повели в зону. По дороге и заявили об отмене свидания за… отказ вынести парашу.
– Вы хотели поставить нас перед свершившимся фактом, – сказал майор Котов, имея в виду неожиданный приезд моих родных. Предупреждать следует своевременно, чтоб и могли лишить свидания заблаговременно.
– Но как же мне все-таки получить свидание? Ведь такое лишение – сплошное беззаконие!
– Гм… Спросите у сотрудника КГБ…
Спрашивать я не стал.
В последнее время большевиков заставили заговорить не только о причинах арестов, но и об условиях содержания. Большевики, конечно, [134] пробуют ссылаться на максимум того, чем может быть осчастливлен зек. Теперь пора заставить их заговорить о том минимуме, который при любой ситуации гарантирован «не встающему на путь исправления» зеку, если он, скажем, отказывается от рабского труда на преступную систему.
Этот минимум:
1. Никаких свиданий (абсолютная изоляция).
2. Никаких писем (все они конфискуются цензурой или просто воруются).
3. Никакой медицинской помощи (или хуже того – намеренньй подрыв здоровья соответствующими препаратами).
4. Система издевательств и унижений.
5. Отсутствие самых элементарных бытовых условий.
6. Пытки голодом и холодом.
7. Травля и провокации КГБ.
Если сопоставить это со сроками (скажем, двадцать пять лет), то лишь Дантовская фантазия может уяснить, что означает этот минимум на практике.
До зоны я добрался изможденный и измученный до предела. Лицо было желтовато-белым, как снег, кружащийся в вечернем свете лагерных фонарей. В первые дни ноги сильно болели от обыкновенной ходьбы…
В голове циркулировали лозунги Красняка, которые я месяцами слышал изо дня в день. Меня еще преследовал запах параши, самой гнусной из параш. По-видимому, в эту парашу кто-то когда-то оправился (не утерпел), а потом не вылил, просто оставил возле туалета. Не знаю, сколько простояла она там, но когда уже в камере Григорьев открыл крышку – мы чуть не упали в обморок от мерзейшего гнилостного смрада. Параша никогда не благоухает, но это было что-то небывалое. Хотелось лучше умереть, только бы не вдохнуть еще раз эту невозможную вонь.
А в зоне в мое отсутствие впервые отметили день красного террора. Мы в камерах только голодали в этот день, но процедуры не видели. Пятого сентября 1918 года, вскоре после начала красного террора, вышел ленинский декрет о создании первых концлагерей. Гитлеру было у кого учиться… Пятое сентября 1972 года. Накануне вечером зеки тайно собираются в недостроенном помещении. Насыпан символический могильный холм в обрамлении колючей проволоки.[135] Представители каждой общины по очереди читают поминальные молитвы по замученным.
Долго молится Платонов.
Украинцы упали на колени со словами: «Помяни, Господи, души замученных братьев наших».
Иосиф Менделевич быстро, нараспев, прочел Кадиш. Армяне, прибалты… По-арабски молится мусульманин с Кавказа. По одной большой свече от каждой общины ставят в могильный холм, и они озаряют жуткий полумрак. Потом, у кого есть репрессированные родственники, ставят по маленькой свечке за каждого. Свечей было очень много…
Наша новая община, собранная из разных лагерей, была спаяна так, будто мы всю жизнь провели вместе. Верующие и неверующие люди совершенно разных возрастов, судеб и характеров держались, как братья. Впрочем, не обходилось и без курьезов. Ходячим курьезом был, например, Яша Сусленский. Есть коммунисты по убеждению – это дело поправимое. Факты и доказательства, жизненный опыт могут переубедить их. Есть коммунисты, для которых партбилет – «хлебная книжка». Таких подавляющее большинство в СССР, но они коммунисты только до тех пор, пока это помогает карьере. Есть коммунисты по профессии – это правящий класс. Яша был коммунист по характеру. Следователь Мамалыга прямо при нем звонил в магазины, требовал, чтобы ему оставили какие-то товары. Рассказывал, как они развлекаются в своем спецсанатории. Показывал в окно на женщину-завуча, проходившую мимо и подмигивал:
– Какая баба в постели! Огонь!
Он даже не считал нужным скрывать свои махинации:
– Надо уметь жить!
Яша, у которого дома на окнах висели занавески из марли, удивлялся:
– Так кто из нас кого должен судить?
Посадили Яшу за искренность и истовость, уж больно беспокойный был товарищ. Дома бедность, дочь тяжело больна, а он все какие-то кружки в своей школе организовывает, лекции читает, выдумывает новаторские методы преподавания. И это в Империи, которая в своем фригийском колпаке закостенела, как заклинание. Вдобавок еще и жид. В тюрьму его! И нарушитель косной рутины получил свои семь лет – за какое-то письмо по поводу Чехословакии. Но приговор его ничему не научил: Яша так и остался красным. Для него пламенный [136] комсомольский энтузиазм был не выгодной фразой, а сутью его чрезвычайно энергичной натуры. Он органически не понимал, что подавляющее большинство людей никаким «воспитанием» нельзя сделать такими, как он. Но если бы случилось невозможное, и человеческая природа вдруг перековеркалась бы на Яшин лад, произошла бы катастрофа: все только и делали бы, что кукарекали да заботились о чужих горшках. От этого и в своем горшке было бы пусто, и в чужом бы не прибавилось, зато путаницы и недоразумений было бы хоть отбавляй. Но если бы и второе чудо произошло, и пословица «Чужую беду – руками разведу» – вдруг утратила бы свой иронический смысл, то каждый ощутил бы себя младенцем, которого сажают на горшок… Так ли уж приятно ежесекундно чувствовать себя осчастливливаемым? Это, право, утомительно и быстро надоедает… Люди не должны слишком удаляться друг от друга, но и чрезмерное приближение ничего хорошего не сулит, особенно в больших дозах.
За Яшей нужен был глаз да глаз: как бы чего не учудил этот неуемный фантазер. Он даже жалобы в английских стихах отправлял в прокуратуру! По-русски, мол, не хотите понимать, так вот же вам!
Но пятого сентября все были вместе, независимо от характера и убеждений. «Все, кроме капээсэсовцев» – так было решено.
Пятого вечером, после голодовки, весь лагерь собрался на поминальный ужин. Пели песни про черного ворона. Менты безуспешно пытались разогнать, офицеры были нервозны, испуганы, руки у них дрожали, голос срывался.
Новая обстановка в лагерях действовала на неустойчивых. Был такой зек Богданов из города Электросталь. Работяга лет сорока, вкалывал на военном заводе. Все дорого, особенно водка, а выпить хочется. Что делать? Тащить, как все тащат. Но что уворуешь на военном заводе? И произошло невероятное. Богданов украл пару кусков урана(!), что само по себе прекрасно характеризует экономический хаос в СССР, где всеобщая электрификация – это когда всем все до лампочки ( до той самой лампочки Ильича). В Москве Богданов подходил к иностранцам, предлагая по сходной цене купить у него уран. Те в ужасе шарахались от сумасшедшего с мерцающими сероватыми кусками радиоактивного металла. Богданова арестовали, избили, обвинили не то в шпионаже, не то в измене, и, конечно же, произвели в политические.
В лагере Богданов стал бригадиром, стучал, но освобождать его все [137] равно не собирались. Щеки его ввалились, открылся туберкулез, он превращался в «доходягу». Сказались куски урана в карманах… И тут Богданов раскаялся публично в сексотовских делах своих и поклялся впредь быть честным зеком.
* * *
На Западе властвует Закон, на Востоке – Обычай. В России нет ни того, ни другого. Поэтому там безраздельно господствует Самодур. Понятие о свободе там очень своеобразно – это свобода о т закона. Какая же «свобода» у властителя, если он всего лишь слуга закона? Да и народ в своих диких, кровавых, мародерских бунтах проявляет то же отношение к свободе. Это свобода в понимании преступников.
Элементарные понятия о правосознании доступны в России очень немногим. И поэтому глумление над жизнью, достоинством и человеческим правом составляет суть имперской жизни. Кстати, без правосознания, без атмосферы четкого распределения прав и обязанностей не может быть и здоровой экономики.
Если иудейская Тора предписывает судьям не смотреть на лица, если греко-римская Фемида изображается с завязанными глазами, то советское кривосудие требует обратное: судить с «учетом личности», как будто судья – это Бог, способный проникать в сокровенные тайники души.
Если учесть совершенно резиновые диапазоны наказаний (по 70-ой статье за одно и то же «преступление» – от шести месяцев до двенадцати лет), то «учет личности», а иначе говоря, обыкновенное самодурство – превращается в решающий фактор советской «законности». А что сказать о таком «четком» определении состава «преступления», как «деятельность, направленная на… ослабление советской власти»! (См. ту же семидесятую статью.) В лагерях, за глухими заборами секретности, самодурство расцветает особенно пышным цветом. Первое, чего надо требовать от большевиков – это рассекречивания мест заключения – ибо именно в них скрывается подземный корень тирании, который смертельно боится света гласности. Стратегические ракеты рассекретить легче… [138]
* * *
С самого появления нашего на Урале нам пришлось познакомиться с антирелигиозным террором. Полицаи ходили с бородами, кто хотел, но с евреев бороды состригали насильно. Бросали в карцер. Чтобы лишить еврея бороды, заламывали руки (хотя мы и не оказывали активного сопротивления – просто не подчинялись приказу); как можно туже заковывали в самозатягивающиеся наручники из врезающихся в кожу стальных полос. По нескольку дней не сходили с запястий запекшиеся синие полосы, напоминающие следы коньков на льду.
За это меня же еще и судили, приговорив к трем годам Владимирского централа…
Похоже, что сегодня то же самое ожидает Менделевича за соблюдение субботы.
* * *
Как-то Олег прочел нам потрясающие стихи одного зека, отправленного в психушку. Они могли родиться только в лагере.
«Стреляйте красных!»
Всех красных взять бы –
Пожалуй, не хватит силы…
Готовьте веревки для свадьбы,
Готовьте для пира мечи!
Во многих просторных квартирах
На стенах висят Ильичи.
Когда мы ворвемся в те житницы,
Набитые красным зерном,
Как птицы, взовьются сожительницы
Злодея, объятого сном.
Готовьте веревки для свадьбы,
Готовьте мечи для пиров –
Веселые черные сватьи
На крови замесят пирог.
* * *
Рукав закатан.
Закат приближен.
Рукав закапан
Кровавой жижей.[139]
Прикладом в зубы!
По пятнам темным
Шагайте, зубры,
К пустым и томным.
Шагайте, зубры, вперед по трупам!
Пусть рот кривит рожденный трусом.
Язык продажный в дверях защемим!
Пусть страх ползет по красным семьям…
Стреляйте красных! Это волки!
Нам кровь их – волны.
Купайся в шелке!
Стреляйте в красных!
Их кровь целебна.
Отриньте небо
В словах молебна.
О, как приятно, вторгаясь в рожи,
Трясти за щеки, ссыпая розы…
О счастьи полном звенят осколки…
Стреляйте красных. Это волки.
Вот он, вопль отчаяния человека, которому наверняка еще в двухлетнем возрасте сунули в руку красный флажок; которого многие годы учили, как благородно выдавать собственных родителей во имя светлых идей коммунизма. Некому было научить человека такой жгучей ненависти к красным. Это могли сделать и сделали только сами красные.
Как-то автору этих стихов жена написала, что решила вступить в партию. Тот в подцензурном письме ответил:
«Вступай, вступай! Меня коммунисты двадцать лет е…т, – так я хоть одного коммуниста е… буду!»
Это письмо ходило по рукам офицеров, автора вызывали в кабинет, менты бесились и хохотали одновременно. В конце концов законная гордость за высокую оценку их многолетних праведных трудов превозмогла, и письмо было отправлено.
* * *
После тяжелого дня каторжных мытарств мы валились в свои койки и засыпали в спертой вони барака.[140]
Однако и койки у нас были особенные: вместо положенной по закону «койкосетки» под жиденьким матрасом давали себя знать выкрашенные синей краской железные полосы по нескольку сантиметров шириной каждая. Между полосами были примерно такие же щели, в которые глубоко проседала наша жалкая подстилка. Койки громко скрипели от малейшего движения.
Некоторые чуть ли не целью своей жизни поставили непрерывным потоком жалоб во все мыслимые инстанции добиться положенных нам «койкосеток».
Тщетно!
40. КАК КОММУНИСТ КОММУНИСТУ
У Мицкевича есть очень актуальное замечание. Когда иностранец близко знакомится с русскими, он не понимает, на чем держится правительство, если все против него. Потом, присмотревшись, он замечает, что подавляющее большинство фрондеров в своей гражданской жизни являются добропорядочными чиновниками, делающими карьеру на службе тому правительству, по адресу которого «отводят душу» в интимном кругу.
К этому можно добавить, что стоит какому-нибудь порабощенному народу подняться на борьбу за независимость – вот тут-то самые большие либералы часто вдруг оказываются правовернее самого Брежнева, требуя со всей беспощадностью раздавить строптивых и «неблагодарных» чехов, «ради» которых мы кровь мешками проливали. Два бандита подрались из-за добычи, а жертва должна быть пожизненно благодарна тому из них, кто оказался сильнее. Они будут с пеной у рта отстаивать право на независимость любого островка, населенного папуасами, но попробуй заикнуться об Эстонии, Туркистане или Украине, которая больше Франции.
Однако Павел Кампов не был даже таким безобидным для властей ворчуном. Человек пикнического сложения, круглый, как колобок, мягкий, робкая душа, он верил в официальные идеалы, как школьник, и был членом КПСС. Коммунизм, по его понятиям, был самым светлым, справедливым и гуманистическим учением. Но… Павел Кампов был украинцем, закарпатцем. Он не понял значения этого факта и поплатился, по сути, полным крушением своей жизни. Будучи преподавателем математики Ужгородского университета, Кампов участвовал в [141] работе органов народного образования (ОНО), и ему приходилось ездить по селам. Там ему открылась безрадостная картина. Многодетные семьи без отцов. Земли мало (и та в руках колхозов), работы нет, мужчины уезжают в дальние края на заработки. Их за это называют «шабашниками» и охотниками за длинным рублем, преследуют.
А дома, где плачут голодные дети, и «короткого» рубля не отыщешь. Когда-то славились Карпаты своими прекрасными лесами. Большевики хищнически вырубили их. Не свое – не жалко. Да и партизанам в случае чего негде будет прятаться. И дешевой рабочей силы хватает – не то что в Сибири; и возить лес далеко не надо, и породы деревьев ценные… С оголенных Карпат начались катастрофические оползни. Рубить больше нечего – и народ остался без работы. С индустриализацией этой окраины большевики не торопятся: пусть сначала голод выгонит со своей земли как можно больше закарпатцев: это облегчит колонизацию.
Сих тонких расчетов Кампов не понимал. Он думал, что индустриализация края задерживается по чьему-то недосмотру, и очень мягко, сдержанно и лояльно, как коммунист коммунисту, описал Брежневу сельскую безотцовщину и верноподданнейше просил посодействовать ускорению социалистической индустриализации Закарпатья.
«Ты смотри, какой хитрый националист! – подумал, должно быть, Брежнев. – Ведь до чего дошел: просит выдвигать больше местных кадров, а то приезжие начальники сменяют друг друга прежде, чем успевают войти в курс запутанной и запущенной ситуации».
Может быть, так и не узнал бы Кампов, что взят на заметку. Ведь он абсолютно далек от всякой оппозиционной деятельности. Но край был оппозиционным, он глухо противился колонизаторам. В местном самиздате ходила книга неизвестного автора. Псевдоним – Петро Пидкарпатский. Название: «Тридцать лет надежд и разочарований», разумеется, на украинском языке. Автор был блестяще знаком с историей, экономикой и общей ситуацией края, вплоть до персональных перемен в руководстве. Книга была написана на высоком уровне, аргументированно, с цифрами и фактами, которые человеку с улицы взять неоткуда. КГБ с ног сбилось, но автора не нашло. Позор! Провал! Когда «преступник» неуловим, а изолировать его приказано строго-настрого, приходится хватать первого, кто под руку подвернулся, и взвалить вину на него. Прием старый, как мир. А на кого свалить, подсказал сам закарпатский народ, подсказал невольно.[142] Кто-то неведомый выбросил листовки с призывом на ближайших выборах в Верховный Совет голосовать не за официальных кандидатов, а за Кампова и еще одного известного в крае местного писателя.
Кампов даже не знал об этом. На другой день после выборов его арестовали. Для Кампова это было, как гром с ясного неба, как обухом по голове. «Помилуйте, за что?!» – «А, попался, кто на базаре кусался! Да знаешь ли ты, что за тебя проголосовало вчера двадцать процентов населения? А ну, выкладывай свои преступления, как на духу!»
Кампов, по природной робости своей, и выложил бы, да нечего. Чист, как стеклышко. «Слухом-духом не ведаю». – «Да? А эту книгу ты сочинил?» – «Какую книгу? Первый раз вижу!» – «Если не ты, то кто?» – последовал неотразимый удар.
Делать было нечего. Кампов не знал – кто.
– А письмо, письмо товарищу Брежневу, может быть, тоже не ты написал?! – и следователь торжественно выложил перед ним исписанный листок.
– Я, – обалдело сказал Кампов, недоумевая, при чем тут письмо? И почему оно в КГБ? Какая связь?
Чекисты Белоцерковец и Жаботенко долго втолковывали ему это. Потом втолковывал суд, приговоривший его в конце декабря 1970 года к шести годам концлагерей плюс три года сибирской ссылки. Итого, девять лет…
Так покинул бедняга Кампов родной край, в котором девушка, которая хочет устроиться на работу, слышит в ответ предложение: сначала отдайся, потом приму. И некоторые соглашаются, куда денешься… Это явление приняло настолько массовый характер, что даже суды вынуждены были этим заняться.
– Мы посадили тебя потому, что так хотим, – дерзко в лицо говорили Кампову на следствии чекисты и партаппаратчики области.
Из лагеря Кампов постоянно направлял Брежневу жалобы: ведь именно за письмо генсеку посадили неудачника, – но ни разу не удостоился ответа. Брежнев знал, что делает.
«Я больше никогда-никогда не напишу Вам, – клялся Кампов, – раз за это сажают».
Не помогло.
– Твой муж хотел стать президентом Закарпатья! – сказали чекисты жене Кампова.
– Не может быть! – простодушно удивилась женщина. – Он всегда [143] со мной делится, он бы мне сказал. – На суд ни жену, ни кого бы то ни было из родственников не допустили. Они плакали снаружи. Не впустили даже на объявление приговора. Суд был полностью закрытым. Приговор Кампову выдать отказались. Родственникам – тоже.
Когда Кампов был в лагере, чекисты заставили жену развестись с ним.
Павел Кампов был арестован в середине июня 1970 года, сразу после выборов. Его домашний адрес: Ужгород, ул. Чайковского 8.
Летом 1976 года его из концлагеря № 36 увезли в сибирскую ссылку. Сибирский адрес Кампова: Томская обл., г. Комсомольск, пер. Почтовый 5. Номер приговора: К–1–3.
Кампов говорил, что в штате Пенсильвания у него должны быть родственники с той же фамилией.
В Сибири он бедствует, без работы, без хлеба насущного, один.
Эту трагическую деталь избирательной системы СССР можно дополнить другими свидетельствами.
Михайло Дяк до ареста был милиционером, и одновременно – тайным членом Украинского Национального Фронта. Он был в курсе того, как проводится выдвижение кандидатов в сельские советы – куда уж ниже и несущественнее!
Оказывается, и эта ступенька находится под строжайшим контролем КГБ. Председатель предъявляет чекистам предположительный список кандидатов. Те заглядывают в свои досье, вычеркивают всех, у кого хотя бы родичи есть неблагонадежные или сосланные, а взамен вписывают своих людей, то есть стукачей.
В Эстонии после московской оккупации вооруженные солдаты развозили по деревням избирательные урны. Но даже под дулами автоматов эстонцы вычеркивали официальных кандидатов.
Тогда избирательные комиссии причисляли бюллетени с вычеркнутыми фамилиями к голосам, поданым «за». Это избиратель, мол, хотел подчеркнуть фамилию кандидата, но провел черту по ошибке слишком высоко… И только если кто-то перечеркивал фамилию дважды – это, скрепя сердце, признавали «против»…
До сих пор повсеместно члены избирательных комиссий бросают бюллетени вместо непришедших на голосование, всячески подтасовывают число голосов, иначе им нагорит, что плохо провели агитационную работу. «Должные» цифры и показатели заранее спускаются сверху, как и положено в плановом хозяйстве. Отступление от них в худшую [144] сторону, если невозможно этого скрыть – ЧП, обвинение против местных организаторов выборов, которые заинтересованы скрыть свой провал.
Кампов был до того робок и наивен, что, три года избегая карцера, не верил, когда ему говорили, что постели там нет, холодина, бушлат отбирают, дают кусок хлеба на весь день и воду.
– Та не може цього бути! Що ж вони, не люди? – возмущался он «наветами» зеков.
И товарищи капээсэсовцы как-то предоставили Кампову на своей шкуре проверить истинность его убеждений. Выйдя из карцера, Кампов испуганно пропищал:
– Та у цьому карцерi нi за яку iдею сидiти не можна!
– Даже за коммунистическую? – потешались те, кого он раньше зачислял в лжецы и клеветники.
Коммунисты других стран не понимают, что играют – вольно или невольно – роль коллаборационистов пятой колонны русского империализма. Неминуемая «рука братской помощи» ставит вопрос не просто о «переустройстве», но о постепенной ликвидации каждого «освобожденного» народа.
Коммунисты тащат свои народы в светлое будущее московской братской могилы, которая чаще всего не минует и поводырей, особенно если они, на манер Кампова, не понимают свою «историческую роль».
41. —54° С.
«День чекиста» (есть и такой в СССР) «именинники» отмечали повальными шмонами. Внезапно была опечатана каптерка. Менты и чекисты вызывали зеков по одному, требовали перенести свои вещи в другое помещение, предварительно подвергая все взятое скрупулезному обыску. У Симаса Кудирки отобрали какие-то записи (за бумагами охотились особенно). Чекист-литовец начал чему-то поучать Кудирку. Симас, который всегда говорит правду в глаза, вспылил и назвал его предателем, коллаборантом. Симаса потащили во внутреннюю тюрьму.
Вещи, которые никто из зеков не признал своими, изымались вовсе. Поэтому избегнуть шмона не было возможности. У Иосифа Менделевича обнаружили, отобрали и выбросили маленькую самодельную деревянную менору. Не положено! Вслед за семисвечником при следующем [145] шмоне изъяли тайно доставленный в лагерь Танах.
Треть территории лагеря была дополнительно отгорожена колючей проволокой – за ней простиралось болото. Летом от него исходили миазмы гнилостной сырости. Для туберкулезников – а таких в лагере немало – просто нож в горло. Когда наступал сезон, некуда было деться от полчищ, целых туч комаров и гнуса. Мордовские кровопийцы теперь казались пустячком.
Уральский хребет, вытянувшийся по меридиану, служит направляющей для сильных ветров, ориентируя их с севера на юг или с юга на север. Это, при малейшей перемене ветра, порождает резкие, почти мгновенные изменения температуры воздуха, облачности и прочего. Только что было жарко в рубахе – и вдруг уже в бушлате холодно! Давление воздуха тоже скакало в колоссальном диапазоне перепадов. Гипертоники только охали.
Но вот пришла зима с такими лютыми морозами, что только треск стоял, да изморозь висела в воздухе, игольчато искрясь на солнце. Помню, когда я в восемнадцатилетнем возрасте впервые испытал русскую зиму в Рязани, где всего лишь немного перевалило за тридцать, то не понимал, как люди вообще могут жить в этой стране. Ведь дышать невозможно, легкие сводит, дыхание перехватывает! Потом, на вторую зиму, привык. А ведь на Урале градусник показывал —54°С. Говорят, ртуть замерзала. Большинство же зеков – или южане (украинцы, армяне), или прибалты, люди мягкого морского климата. Но и этого палачам было мало. Федоров начал массированную акцию по изъятию «лишней» одежды. Дело в том, что зеки умудрялись отрывать рукава от старых фуфаек и надевать под бушлат эту дополнительную душегрейку. Были и другие попытки как-то спастись от леденящего дыхания Арктики. Эти «противозаконные» потуги и пресекал неутомимый Федоров, который сам в своей шинели, согнувшись, поеживался от холода и от садистского кайфа. В бараках температура опускалась чуть ли не до нуля, в цеху невозможно было умыться, так как замерзала вода.
Увы, это было не единственной достопримечательностью нашего цеха. Шведская фирма Динамит Нобель поставляла нашему концлагерю большие жесятные банки с химическим порошком (периклас), которым зеки на вибростендах набивали трубки (термоэлектроэлемент) для утюгов. Я работал на подрезке этих трубок, уже обожженных. К вони от обжига добавлялись тучи тонкой химической пыли, [146] которая оседала в легких. И все это в гудящем, грохочущем цеху, переполненном всевозможными станками и оборудованием. Трубка в станке зажималась пневматическими тисками. Норма была невыполнимой. Ручка станка поворачивалась туго, требовались большие усилия. И так всю смену. Неудивительно, что иеговист Волчанский вскоре попал в тиски собственными пальцами, которые были раздавлены. Теперь на его месте работаю я. В соседнем цеху на штампе отрубило палец молодому зеку Пестову. Техника безопасности не нужна, главное – темп. За сверхприбыли каторжного предприятия лагерное начальство получает большие премии, а это дороже зековских пальцев и легких. Нормы продолжали повышаться. Листовое железо для штамповки поступает из Японии. Я видел печать с названием фирмы: не то Кавасака, не то Кавабата. Точно не запомнил. Зато рядом красовался герб фирмы. По этому приблизительному рисунку фирму, думаю, можно опознать. Не так уж много в Японии стальных трестов.
При мне начала разворачиваться трагическая история Иовчика, об окончании которой я узнал только во Владимире. Иовчик был тихим, незаметным старичком-волынцем. Во время оккупации он был в полиции местного самоуправления. К зверствам, вроде бы, никакого отношения не имеет.
После переезда на Урал он начал быстро терять зубы. Страшный климат, болотная вода, долгие десятилетия мученичества взяли свое. Он просил вставить ему искусственные зубы: хлеб уже жевать нечем. Менты тянули резину. Начали уговаривать его вступить в СВП, намекая, что иначе лечить не будут. Он ответил, что скорее умрет, чем опаскудит себя.
– Ну и подыхай себе! – напутствовал его майор Федоров, выгоняя из кабинета.
Потом за Иовчика взялись чекисты. Эти, как вороны, мигом слетаются туда, где бедой, мертвечиной запахло. Чекисты Ивкин и Кромберг (латышский предатель) вызвали больного к себе и стали требовать, чтобы старик дал обличающие показания против каких-то незнакомых людей, чтобы выступил свидетелем на очередном процессе. Иовчик отказался. С дикими угрозами и площадным матом чекисты вытолкали непокорного в шею.
– Подыхай, мать-перемать! – кричали они ему вслед.
Два года добивался Иовчик, чтобы ему вставили зубы. История начала всплывать на поверхность, зеки подняли шум. Только тогда [147] зубы Иовчику вставили.
Еще когда я сидел во внутренней тюрьме, прибыли два новых украинца – результат очередной волны арестов на Украине. Пока они сидели в камере на карантине, нам изредка удавалось перекликаться. Они перечисляли фамилии арестованных – мы только за голову хватались.
Теперь, в зоне удалось познакомиться поближе. Олесь Сергиенко получил семь лет за то, что на полях нескольких страниц рукописи Дзюбы «Интернационализм или русификация» обнаружили его пометки. Пожалуй, нигде в империи не дают таких беспощадных сроков, как на Украине. «Интернационализм или русификация», как мне стало известно из авторитетных источников, принадлежит перу не одного Дзюбы, а целой группы авторов, что отчасти нашло свое выражение в приговоре Сергиенко. У него были очень интересные идеи. Так, победу марксизма в империи он объяснял внутренней близостью того и другого начала. Семья строится на любви. Там, где начинается расчет: «Ты мне, я тебе», там, где всецело побеждает меркантильность – семья рушится. Нация – большая семья. Империя же, наоборот, противоестественное, насильственное образование, которое не может строиться на нормальных человеческих чувствах любви и близости. Наоборот, эти естественные чувства ведут к выделению национальных организмов. Поэтому империя берет на вооружение всеобщие разрушительные теории, пытаясь подменить нормальные кровные связи искусственными, поверхностными, неподлинными. Империи нужна теория о том, как манипулировать людьми, уподобленными винтикам.
Олесь был высокий, худой, эмоциональный. Он болел туберкулезом. На подбородке сбоку белело безволосое большое пятно – результат применения следствием медикаментозных средств «воздействия».
Другой, Олекса Резников, большой и крепкий, голубоглазый, с большими пшеничными усами, был сильным, спокойным и осторожным человеком. Он даже казался равнодушным. На самом деле это настоящий, талантливый украинский поэт с глубинным знанием языка, с потрясающей чуткостью к слову и силой слова. Первый раз он попал в лагерь за листовку против «фашистской диктатуры КПСС». Тогда еще он был далек от национальных идей, но под арестом прозрел. После освобождения жил в Одессе. В нем во всю ширь разворачивалось творческое начало. В городе, где не услышишь украинского слова, самобытный украинский поэт был фигурой просто одиозной. Его арестовали вторично (вместе с Караванской), приписали распространение [148] какого-то самиздата, хотя доказательств столь чудовищного преступления не было. На суде прокурор грозно спросил одного из свидетелей:
– А вы предупреждали подсудимого, чтобы он прекратил заниматься подобной деятельностью?!
– Да, да, – затрясся свидетель – предупреждал я его: «Сбрей усы, не говори по-украински – органы тобой заинтересуются!»
Сейчас Олекса уже должен выйти из лагеря. Его домашний адрес: Николаевская обл., г. Первомайск, ул. Лысенко 8.
Олесь Сергиенко родился даже не на Украине, а в изгнании, в Тамбове. Там милиция всеми силами пыталась заставить его высланную семью записаться русскими. Те упорно отказывались.
– У, националисты проклятые! – в бессильной злобе кричала им ментовка.
В русском окружении семья продолжала сохранять свой язык и свои понятия, свою культуру быта, от которого Россия далека. При первой возможности вернулись в Киев. Олесь, тогда еще мальчик, мечтал наконец-то услышать язык своей матери на улицах города. В Киеве его ждало горькое разочарование… Масса его родственников погибла в лагерях и в изгнании, устлала своими костями Сибирь. Теперь и он здесь, на границе Сибири.
* * *
Приближалась весна, участились внезапные оттепели, зазвенела капель. Наступил праздник Пурим. Зону патрулировали удвоенные наряды ментов. Они останавливали каждого еврея, обыскивали, следили, то и дело заходили в бараки. Пришлось нам собраться за скудную праздничную трапезу раздельно, разбившись надвое, каждая группка в своем бараке. Потом все сходились снаружи, на вечернем морозце. Иосиф изображал в лицах и словах современный пуримшпил, который играли до ареста. Мы покатывались со смеху. А вокруг кружили аманы в красных погонах, подходили любопытствующие зеки. Как менты пронюхали о Пуриме – неведомо, но вели они себя так, будто в лагере готовится восстание.
Позднее, когда меня на Урале уже не было, христиане решили отметить свою Пасху снаружи, благо погода позволяла устроить пикник. Разогнать христиан ментам не удалось (те не поддавались на запугивание),[149] и тогда поблизости заработала ассенизационная машина, чтобы испортить трапезу смрадом.
Менты свирепствовали все злее, но все мы чувствовали, что снаружи что-то меняется. Рассказывали о настоящем духовном бунте на съезде писателей Украины. Даже сам Малышко во всеуслышание объявил ассимиляцию украинского народа фашистской идеей. Вскоре он умер при загадочных обстоятельствах. А ведь в организацию писателей – очень жесткий отбор. В сталинских застенках погибло во много раз больше украинских писателей, чем на фронтах 2-й мировой войны. Выкорчевывали поголовно, заменяя верными янычарами.
* * *
В лагере пошла мода писать жалобы. Мол, хоть и толку мало, зато ментам работы прибавится: любые липовые письменные объяснения давать труднее, чем бить баклуши.
Менты, со своей стороны, начали мстить, рассматривать каждую жалобу как акцию протеста.
Я написал жалобу о воде, которой даже мыться было невозможно. На раковине от нее оставался темный слизистый налет, она пахла болотом. В бане, где мы стирали свое белье, вода оставляла на нем несмываемые ржавые пятна. Поговаривали, что она еще и радиоактивна, так как где-то близко есть урановые рудники.
Меня вызвал к себе начальник лагеря Котов – беседовать о жалобе. Когда-то, сразу после нашего приезда, начальство было настолько дико и необразованно, что наказывало зеков за употребляемые в жалобах слова «нюансы», «пенитенциарная система» и пр., принимая их за ругательства. Даже «высшее юридическое образование» не помогало им разобраться в таких тонкостях. Теперь «цивилизовавшийся» Котов предложил мне просто не отправлять жалобы, а забрать их обратно. Я отказался. (Кстати, позже неоднократно приезжали комиссии, проверяли воду, признавали ее негодной, и… все оставалось по-старому.)
– Значит, отказываетесь? – переспросил Котов многозначительно.
И он позвал Рака.
– Сорвать с него ермолку! – прогремел Котов Раку, указывая на меня театрально-царственным жестом.
Рак протянул руку, я инстинктивно прикрыл голову ладонью.[150]
– Сопротивление! В карцер! – заорал Котов.
И меня потащили в карцер. Когда истекли назначенные десять суток, добавили еще десять и намерены были продолжать так до победного конца.
Тогда наша община направилась к чекисту. Ребята заявили, что если мне еще раз продлят карцер, они устроят нечто неслыханное. Солидарность помогла. Чекисты струхнули. Вместо еще одного продления они решили отправить меня во Владимир. Пока я сидел в карцере, мент Махнутин изощрялся в обысках с раздеванием до наготы. Его собрат Ротенко во время отбоя не выводил меня в кладовку, где карцерник обычно сам выбирает себе «лежанку», а не ленился собственными руками отыскивать и приволакивать мне всегда один и тот же топчан: самый узкий из всех, всего из трех досточек, с самыми большими щелями между ними.
Появлялся и Шириков, офицер из Управления лагерей. Он удивительно напоминал своего однофамильца, описанного у Михаила Булгакова. Булгаковский Шариков был изготовлен гениальным хирургом из дворовой собаки и сохранил за собой все собачьи повадки.
Наш Шариков был обыкновенным уголовником с татуировкой. Он специализировался на провокациях. Вызывал в кабинет, начинал орать, грозить и издеваться, умело имитировал атмосферу вседозволенности, стараясь спровоцировать отчаявшегося зека на ответную реакцию. Я вообще отказывался с ним разговаривать, и он, после нескольких разбойных воплей, обескураженный отсутствием реакции, устало бросал ментам:
– Уведите.
На суд меня привели внезапно, прямо из карцера, не сказав, куда и зачем. Таков стиль.
– Фамилия, имя, отчество? – обратилась ко мне косая женщина, сидящая за столом в центре «тройки», едва только меня ввели.
– Я еврей и говорю только на иврите, – ответил я непонятным для нее языком своего народа.
Судья окосела еще больше. Она была ошарашена и не знала, что теперь делать.
Но менты пошушукались с ней, усадили меня в уголок, и провернули всю комедию, не обращая больше на меня ни малейшего внимания. Какой там переводчик, зачем, когда все это одна пустая формальность: все давно решено в КГБ.[151]
Меня приговорили к трем годам тюрьмы за соблюдение еврейских обычаев. Для судейских дам меня как бы вообще не существовало. Они смотрели сквозь меня. Существовали для них только бумаги, которые нужно с соответствующим обрядом оформить.
В обвинении фигурировало: «Считает себя пленным». Это было по доносу Махнутина, которому я как-то по запарке высказался откровенно. Он специализировался на «откровенностях».
42. БЕЛЫЙ ТАРАКАН
После некоторого отдыха в одиночке при «нормальной» лагерной пище и отсутствии особой травли – спасибо ребятам! – меня ждал этап во Владимир. В соседней камере уже сидели в ПКТ Симас Кудирка, Олесь Сергиенко и Леха Сафронов, беглый солдат с артистическими наклонностями и веселым сангвиническим расположением духа. Там то и дело слышался смех: есть люди, которые умеют смеяться всюду.
Меня повели на вахту между двумя глухими заборами, отгораживающими и от лагеря, и от внешнего мира. И все же ребята как-то учуяли (может, в щелку заметили?), в чем дело, и из-за высокого забора донеслись прощальные крики:
– До встречи в Ерусалиме! – кричали евреи.
– Скорейшей свободы! – напутствовали другие.
Я, со своей стороны, вслух пожелал всем того же. Мент, зная, что теперь меня уже в лагерный карцер не засадишь (ускользаю), реагировал слабо.
Страшные лагерные ворота, вахта, выход, автоматчики с оружием наизготовку. Воронок, тесный железный «стакан». Опять бьюсь в нем, как муха об стекло, на безбожных русских ухабах. Кажется, сейчас вытряхнет все кишки, оборвутся внутренности, сломаются кости.
После бесконечного ада – остановка… Как сквозь вату, доносятся голоса конвойных. Они спокойно сидят на своих мягких сидениях и разговаривают о том о сем.
– Да, война с Китаем начнется – пошлют нас туда… – со страхом сказал солдат.
– Это не то, что зеков возить… – поддакнул другой.
И я вспомнил разговоры моего соседа по комнате, в которой я жил до ареста, с собутыльниками. Они уже чувствовали, что в институте [152] проваливаются, и им предстоит армия.
– Вдруг на границу пошлют, шпионов ловить! – предполагал один.
– Что ты, я лучше сделаю вид, что не вижу его, пусть себе идет! А то пристрелит еще – кому это нужно? – отвечал другой офицерский сын, хотя и был разнузданным хулиганом.
В лагере от бывшего военного я слышал об одном советском секрете. Почему за тридцать послевоенных лет русские не посылали свои армии на рискованные локальные войны типа Корейской, Вьетнамской, Ангольской? Посылали китайцев, вьетнамцев, кубинцев – кого угодно, но русские были максимум советниками, летчиками, ракетчиками.
Объяснение простое. Вторая мировая война помогла массированной русской пропаганде создать миф о непобедимости империи. И теперь официальная тайная доктрина запрещает создавать ситуации, которые могут содействовать развенчанию этого мифа. Ведь если говорить по правде, 2-ю мировую войну выиграла авиация западных союзников, которая разрушила промышленную базу Германии. Америка же оттянула на себя силы Японии, не позволила открыть второй фронт против русских. Колоссальные жертвы России говорят не о непобедимости, а об элементарном неумении вести войну и о презрении к жизни собственных солдат. Пусть попробуют теперь на китайском фронте отдавать по десять своих вояк за одного врага! В этом все их военное искусство. Россия, вообще, как правило, проигрывала войны, если вела их в одиночку, без союзников. Последние примеры – Финская война 1940 г, Польская – 1920 г., Японская – 1904 г., Крымская – в середине прошлого века. Рассредоточенная, децентрализованная китайская экономика не так боится атомного удара, как советская, основанная на централизации и гигантомании. И без того перегруженная транссибирская магистраль окажется единственной легко уязвимой коммуникацией громадного фронта. Советские танки увязнут в китайских рисовых полях, а натренированная в парагвайской тактике китайская легкая пехота просочится сквозь любые заслоны среди бескрайней сибирской тайги. Лесистые пространства, закрытые для техники и потому идеальные для китайского наступления, тянутся сплошными массивами от Амура до Москвы и дальше. Весь Китай – в подземных туннелях. У китайцев нет никакого страха перед войной, даже атомной. Психологически они готовы к войне. Шести фанатичным, смелым, стойким, подготовленным и неприхотливым китайцам будет противостоять один разложенный русский неврастеник, а рядом с русским будет [153] вооруженный узбек или чеченец, для которого китайцы – избавители. А ведь войска нужны и для оккупации Восточной Европы…
Русские привыкли к молниеносным парадным маршам по чехословакиям, а у китайцев свежий опыт многих локальных войн в лесисто-гористых местностях, а не на европейских парадных плацах. Как только китайцы займут Зеленый Клин, из которого эвакуировать жителей не так-то просто, они смогут приступить к формированию из местного населения украинской армии. Через какую-нибудь восставшую Восточноевропейскую страну ее можно будет перебросить на Карпаты. Это чувствуют кремлевские вожди, которые хотят сделать Запад своим союзником. А Запад, к сожалению, не совсем понимает, кто в ком нуждается, и нуждается смертельно. Если Запад проявит достаточную твердость и не позволит завоевать себя ни силой, ни хитростью, медведь сам приползет на коленях с новой песенкой: «Да мы же белые люди, христиане… Помогите нам спасти европейскую цивилизацию от желтого варварства! Ведь мы же цивилизованные люди, европейцы, христиане, ваши братья…» Вот тут-то и надо будет заставить медведя действительно стать цивилизованным человеком. А не захочет – пусть выкручивается, как знает, на оккупированных территориях Дальнего Востока, да и на всех прочих вместе.
Китай поднимается, модернизируется, с каждым годом соотношение сил неуклонно меняется в его пользу. Время работает на Китай.
Это чувствуют даже простые солдаты, мои конвоиры. Они нервозно переключаются с китайской темы на привычную.
– Иди сюда! – подзывают они к воронку какого-то мальчишку. – У тебя сестра есть? Сколько ей? Четырнадцать? Ей еще не порвали? Не понимаешь? Ну все равно – веди ее сюда!
За этими милыми разговорами о девках, самоволках и водке проходят часы. Я медленно околеваю, сидя среди железа на весеннем уральском морозце. Даже пошевелиться для согрева негде, не развернешься. В конце концов оказывается, что вышла какая-то неувязка с поездом, и меня по тем же родным ухабам прут назад, в лагерь, в мою камеру. Назавтра – все сначала.
И вот, наконец, я в поезде. Внезапно в клетке оказываюсь лицом к лицу со своим добрым знакомым по Мордовии Михайло Дяком. Он с тридцать пятой зоны едет в Пермь на медобследование.
– Что случилось? – пугаюсь я.
Он дает мне пощупать странные уплотнения на шее, как горошины [154] под кожей. Они не болят, но… Кто знает, что это такое? Позже оказалось: рак. Дяку сообщили об этом.
– Раскайся, тогда будем лечить, – прямо сказали ему чекисты.
Дяк отказался. Его продержали до крайней стадии и актировали в безнадежном состоянии.
Дяк был членом УНФ. Эта группа обнаружила в Карпатах заброшенный бункер повстанцев, а в нем – целый склад печатных материалов ОУН послевоенного времени. Ребята стали разбрасывать и расклеивать листовки, оставлять на скамейках книги, бросать материалы в семейные почтовые ящики на Крещатике, пускать их вплавь по рекам в целлофановых мешочках. Прокламации проникли до Донбасса и Кубани, кто-то из нашедших начал размножать их самиздатовским способом, и они ширились по Украине.
Сроки были беспощадными: по 15 лет лидерам. Красивський, Лесив – из той же группы. Распространяли они и свою работу: «Як Ленiн дурив i гнобив Украiну». В этой работе были… только слова самого Ленина, без комментариев. По левую сторону – то, что он обещал украинцам до революции; по правую – как он после революции откровенно декларировал удушение украинской независимости. Из его же собственных цитат вырастал образ коварного, как Чингиз-хан, хладнокровного убийцы.
У мудрого Ленина вообще на каждую цитату можно подыскать контрцитату диаметрально противоположного смысла. Неизменным оставалось только одно: жажда захватить и удержать власть любой ценой. Все остальное – служебное, несущественное. Для осуществления этой великой исторической задачи – установления своей абсолютной власти ради самой власти – требовалась гениальность исключительно в сфере интриг. И Ленин был гением именно такого рода. История его жизни, как и история КПСС, – это бесконечные интриги и кровавые преступления, ничего больше. Интрига впервые была возведена в ранг науки. Ленинский план создания СССР – гениальный обман, дьявольская ловушка, до которой белым ни за что бы не додуматься. Именно убийца императора наглухо заковал народы, разрывающие цепи русского колониализма.
Ленин – спаситель империи. В приговоре Дяка фигурирует и еще одно «преступление»: с помощью молотка он ломал памятник Ленину.
– Не место ему на украинской земле!
Памятник попался твердый, с трудом отшибся нос, никак не отламывалась рука.[155] В приговоре о каменной статуе говорилось, как о живом человеке: «…и нанес два удара по голове».
Мы надеялись, что в Перми нас разместят в одной камере. Однако меня вдруг отделили и посадили в одиночку. Дяк – простой парень – был человеком идеи. Без малейших колебаний он принес в жертву свою судьбу, свою жизнь. И все это как-то обыденно, без громких фраз, как и подобает настоящему мученику. Сколько таких бесхитростных, незаметных героев сходят в могилу…
Моя новая камера в Пермской тюрьме отличалась удивительным туалетом. Это был толчок с трубой и краном одновременно для умывания и канализации.
Примерно пятисантиметровая дыра в железном основании размещалась почти вплотную к стенке и примыкающей к ней холодной железной трубе. Только упираясь изо всех сил в эту трубу, можно было, скособочившись, как-то умоститься на этом достижении пенитенциарной техники.
Почти весь день каркало радио. Но ужаснее всего было то, что камера представляла собой настоящее тараканье царство. Целую неделю я бил бегающих по полу, по нарам, по стенам и по столу насекомых, больших, средних, совсем крохотных. Но их от этого, казалось, становилось еще больше. Я как будто воевал с гидрой. Казалось, в мире остались только я и тараканы. Особенно наглели они по ночам, вылезая из своих укрытий, расползаясь по всей камере и устраивая целые свадьбы. Они утаскивали и пожирали трупы своих собратьев. Их любовные игры стали моим ночным кошмаром. Однажды я наугад ударил веником под толстую трубу отопления, где они гнездились, и вымел оттуда убитого таракана, белого, как молоко, как снег, с головы до пят. Он был белым насквозь, даже внутренности были будто из молока. Во всем остальном это был самый обыкновенный крупный таракан. В жизни не думал, что среди них бывают альбиносы! У некоторых было развито какое-то шестое чувство. Когда я просто устало смотрел на них, они спокойно ползали и резвились. Но стоило мне издалека, еще не шелохнувшись, только мысленно проникнуться жаждой подкрасться и прихлопнуть гнусное насекомое, как оно вдруг без видимых причин начинало беспокоиться, метаться, и панически удирало за трубу отопления, в щели стены. Целую неделю прожил я в этом аристократическом обществе. Теперь меня везут в Киров (бывшая Вятка), а уже оттуда – прямо во Владимир.[156]
Слава Богу, продолжают держать отдельно от уголовников, сидящих в других камерах. Когда водят в туалет, мужики и бабы сквозь решетку видят друг друга. У баб в основном ужасный вид: испитой, истасканный, измученный, порочный. Есть и другие, но их немного. Уголовники, проходя мимо бабьей клетки вопят:
- Покажи сеанс!
Это означает: обнажись, продемонстрируй свои прелести. Польщенные зечки спешат удовлетворить просьбу. С обеих сторон раздается тоскливый звериный вой: так в зоопарке в период течки выли бы самцы и самки, помещенные по соседству в разных клетках.
Когда проводят меня, бабы тоже воют:
– Ой, какой молоденький! – Самый сок! – Ну, посмотри на нас!
– Это мой цыганенок!
Ехали и смертники в наручниках. В лагере прирезали кого-то из активистов-стукачей. Это расценивается так же, как нападение на мента. Смертная казнь. Бабы жалели бесшабашных смертников:
– Такие молодые!
И вот я в Кирове. Бесконечное сидение в тесном душном боксике, полшага в длину и в ширину. Все грязное, заплеванное, замызганное. Изрезанные надписями двери, стены, даже потолок. Целый мир. Прощания, сообщения, объяснения в любви, росписи, клички, приветы. Сижу часами, наконец, выводят в баню и в камеру. Но в какую! Это явно камера смертников, она напоминает карцер. Окошко загорожено целым рядом мелких решеток, добраться до него немыслимо. Оно забито наглухо, затянуто паутиной и пылью. В камере спертая духота, нечем дышать. В воздухе медленно кружатся какие-то мушки. Помещение подвальное, потолок низкий, аркообразный, только посредине узкой камеры не упираешься в него головой. Ходить почти негде. Каменная лежанка, сверху покрытая деревом. И то благо! У двери – вонючее невыносимое ведро без ручки, с испражнениями внутри. Сверху оно прикрыто огрызком картона. Ни водопровода, ни туалета. Тусклый свет лампочки, забранной железом. Даже помыться негде. Стучу в дверь. Никакого ответа. Стучу сильнее, долго, до боли в кулаках.
– Чего …евничаешь? – доносится из-за двери ленивый мат надзирателя.
– Позовите начальника! Мне положена нормальная камера!
– Не ..евничай! – наставительно отзывается удаляющийся мент. Никто больше ко мне не подходит. Я объявляю голодовку. Нулевая [157] реакция. Отказываются дать хотя бы бумагу для заявления о голодовке. (Свои вещи в камеру захватить запретили.) Голодаешь – ну и голодай. На другой день при утреннем обходе появляется врач и корпусной. Сообщаю им о своей голодовке.
– Чем эта камера плохая? – пожимает плечами женщина в белом халате.
Все уходят. Бесполезная голодовка продолжается. К счастью, на следующий день меня забирают дальше. Еще один «Столыпин», еще ночь на железной дороге. Меня почему-то сажают с арестованными детьми. Те рассказывают свои истории. В империи полно детских лагерей. У одного тринадцатилетняя сестра тоже сидит, за разврат. Спасаясь от «законников» (лагерного актива), один не вылезал из БУРа, другой разогнался изо всех сил головой в стену, чтобы попасть к «дуракам» и избавиться от издевательств.
Воронок подвозит меня к Владимирскому Централу. Ночь я провожу вместе с уголовниками-рецидивистами на голых холодных нарах возле большого слепого окна в «наморднике», но без стекол.[158]
ВЛАДИМИРСКАЯ ТЮРЬМА
43. ДВА МЕСЯЦА В ОДИНОЧКЕ
На следующий день перед обедом меня вызвали из этого тамбура и привели пред ясные очи тюремного начальства. Обычные злобно-язвительные бессмысленные вопросы и замечания, суконные «рекомендации», объявление о двух месяцах строгого тюремного режима.
– Распишитесь!
Я расписываюсь.
– Это что такое?!
– Роспись.
– Это по-каковски? Что за иероглифы?
– По-еврейски.
– Вот, он уже начинает!!! – заорал офицер, и его контуженная щека задергалась от ненависти.
Меня выводят из кабинета, начинается в соседнем помещении подробнейший обыск всех моих вещей, одежды, меня самого. На их языке это называется «обработка».
Заставляют раздеться донага, всюду что-то ищут, рыщут.
Маленькая кокетливая смуглая ментовка что-то пишет, искоса поглядывая на меня. Ментовки вообще начисто лишены стыда, как животные. Я, в конце концов, тоже старался смотреть на них как на кошек, на которых нечего обращать внимание, а тем более стесняться.
Как-то в коридоре тюремной бани молодая краснощекая ментовка уселась рядом с ментами-банщиками. Я выглянул из боксика и попросил ее хоть на минуту отвернуться, пока я пройду.
Вместо ответа она положила ладонь на левый локоть и выразительным жестом махнула левой рукой снизу вверх. А этого, мол, не видел?
– Ты чего, рехнулся? – недоумевали менты. – Она же приходит посмотреть, у кого больше! Все зеки довольны! Или ты богомольный?
После шмона у меня отнимают собранные ребятами в лагере продукты и отводят в камеру, где я должен пребывать на режиме пониженного питания.[159]
Ведут между громадными корпусами. Владимирский Централ предстает передо мной в виде целого тюремного города с тысячами «жителей», с производственными и административными корпусами. Государство в государстве, царство кирпича и железа, отгороженное громадным каменным забором, колючей проволокой, вышками, сигнализацией. Настоящая цитадель тирании.
И вот я оказываюсь в одиночной камере. Тишина. Правда, вместо умывальника и туалета – вонючая параша. Это один из четырех громадных «жилых» корпусов, переполненных зеками. Второй корпус считается больничным, и почему-то именно он – сплошь с парашами; каждая камера видом своим напоминает туалет.
Разница между тюрьмой и лагерем была очень большой, и притом двоякой. Отрыв от природы я в третий раз уже не чувствовал так остро, как в первый. Заметнее был голод, здесь это стандартная официальная кара. Голодный рацион не из чего было пополнить: не было ни травы, ни поганок, ни кузнечиков. Несколько соленых попахивающих килек, черпак жидкой бурды без капельки жира, горсть кислой капусты, вызывающей изжогу, и 400 граммов глинистого хлеба – вот все, что я получал день за днем.
Но зато психологическая разница была положительной. В лагере я чувствовал себя как в облаве, травля не давала вздохнуть. А тут – тишина. Ментов и вовсе не видно. Пробовал я остановить мента на проверке, спросил адрес тюрьмы, чтобы письмо отправить, – куда! Только я его и видел! Мелькнул, как метеор. Тут камер и зеков во столько раз больше, чем ментов, что требуются особые обстоятельства, чтобы обратить на себя внимание. К тому же менты в коридоре, по ту сторону ряда закрытых дверей. Нет контакта. А в лагере я не знал, куда хоть на минуту укрыться от них.
Пытаюсь вызвать библиотекаршу, она подходит, добродушно разговаривает на отвлеченные темы, обещает принести книги, но неделями не приносит ничего. Оставалось думать, мечтать, вспоминать. Вспоминались рассказы бывших солдат о тяжелых расовых конфликтах в советской армии, о кровавых побоищах между русскими и узбеками. Это бывает всюду, где в подразделениях большой процент цветных. Потом мысли уходили в себя, углублялись, сосредотачивались в абсолютной тишине, где и тараканий шорох можно было бы расслышать. И вдруг – громовой удар. Это мент, проходя по коридору, ударом большого ключа в железную дверь расколол тишину.[160]
Иногда этот внезапный грохот – предупреждение о выводе на прогулку или в туалет, иногда – просто от нечего делать, развлечение. Зек вздрагивает от неожиданности и долго потом не может успокоиться. А мент идет себе дальше, погромыхивая на ходу.
Койка сделана из очень узких железных полосок, сваренных в виде редкой решетки. Жидкий матрас проседает сквозь решето, и лопатки чувствуют железо.
Я требовал, чтобы лагерь перевел на тюрьму выписанные мной за свои деньги газеты и журналы. Надо же хоть что-нибудь читать в этом бесконечном одиночестве. Но майор Котов тянул резину, даже советскими газетами не хотел меня побаловать. Я написал две жалобы: одну в прокуратуру, другую в министерство связи. Через несколько дней пришел контуженный капитан, открыл кормушку, швырнул мне конверт с жалобой и сказал:
– В прокуратуру мы отправили, а эту – нет. Ясно?
– Почему? Я ведь имею право отправлять и туда!
– Хватит и одной.
– Это уже мне решать. Возьмите, пожалуйста, и отправьте. Иначе придется жаловаться и на вас.
Контуженная щека задергалась.
– Не забывайте, где вы находитесь!!! – рявкнул побагровевший капитан и захлопнул кормушку с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка.
Давненько я не слыхал такого рыка. Рычание уверенного в себе хищника. Заповедник.
Вскоре я проснулся среди ночи. Что-то пекло и давило в груди. Спросонья не понимал, что происходит. Тяжелая, мучительная, кошмарная полудремота. Но сонливость развеивалась под напором нарастающей страшной боли. Спирало дыхание. В грудь как будто впихнули горячий кирпич. Пульс почти не прощупывался. В слабом свете ночной лампочки я увидел, что мои вены, обычно такие рельефные на руках, куда-то исчезли. Ладони были белые, как мел, как стена. Невозможно было вздохнуть. Я ловил ртом воздух, как рыба. Еле добрался до двери, хватило сил постучать. Мент ответил, что врача нет, будет только утром.
Когда, наконец, появился фельдшер, я еле-еле выпросил у него таблеточку нитроглицерина. Случайно запомнил, что Ягману это помогало при стенокардии, а у меня было очевидное сужение сосудов. Таблетка меня спасла. Еще немного постоял, прижавшись к холодной стене.[161]
К сердцу приложил полотенце, смоченное давно остывшей водой из чайника. Это состояние, подобное долгой агонии, начало медленно отпускать меня. Вскоре вызвали к врачу, Ларисе Кузьминичне Сухаревой (зам. Бутовой).
– Ничего особенного, – отвечала она на все мои вопросы.
Сплошные тайны. Непроницаемые лица. Фельдшер взял у меня целый шприц крови – на анализ. Результатов анализа я так никогда и не узнал. Тоже секрет. Что это было, и не было ли это результатом подмешивания в пищу какого-либо препарата – до сих пор не знаю. Одиночка, в принципе, весьма облегчает медикаментозные «эксперименты».
Во всяком случае, ни до, ни после этого с сердцем у меня ничего не случалось. Уникальный и единственный случай, совпавший с двухмесячным одиночным заключением.
Что такое жизнь человека для империи, которая попирает и убивает народы? Раз она ставит себя настолько превыше всего человеческого, то ее естественный финал – поглощение всей земли, идеологии, экономики, социальных структур, тел и душ человеческих. Коммунизм – последнее слово имперского развития.
44. ОБЫЧНЫЙ СТИЛЬ
С какой-то непонятной тревогой ждал я окончания одиночки. Прежде всего непонятно было, оставят меня здесь насовсем или заберут в общую камеру. И потом… неизвестность в таких закоулках потустороннего мира редко сулит что-нибудь приятное. С сомнением шел я по коридорам вслед за ментом. Он переводит меня через открытое пространство между строениями в первый корпус, самый холодный и тяжелый по режиму и питанию.
Львиную долю своей Владимирской эры я провел там. Летнее солнце и небо остались позади. По темным сумрачным коридорам и лестницам ведут меня к одной из бесчисленного множества камер. На скрежет двери с коек приподымаются какие-то ужасные лица мертвецов: желтые, с синевой под глубоко запавшими глазами. Может, уголовники? Нет, «свои».
Один с армянской фамилией, но из смешанной и совершенно русифицированной семьи. Сидел за легальное письмо в Би-Би-Си об отсутствии у него квартиры. Другой – беглый солдат-украинец, нервный [162] мальчик с персидского пограничья. Третий – пожилой, костистый, худой и сутулый, с висящими плетьми жилистых рук, с узким вытянутым лицом и глазами, горящими волчьим огнем из глубины. На лбу – безобразный, глубокий шрам, посреди которого мозг пульсирует прямо под тонкой кожей…
Мертвецы «набрасываются» на меня, как вампиры, чтобы, жадно глотая, высосать свежую кровь новостей. Они тут давно уже отрезаны, как в могиле. Немым ужасом веяло от этого гробового мира. Суть его выражалась тюремной песенкой на мотив «Крутится-вертится шар голубой». Я запомнил отрывок:
…Слова не знаем «твое» и «мое».
Все у нас общее – даже белье.
Здесь пережитков прошлого нет –
Общая баня, общий клозет.
Так приучайся же, кто не привык:
Общая родина, общий язык!
Хором пропели общие мы
Общую песню особой тюрьмы!
Тогда, действительно, даже белье было общим, безымянным. В бане ты сдаешь в стирку снятое с себя, а взамен получаешь постиранное из общей кучи.
После того, как я рассказал все лагерные новости, и про великий этап на Урал, и все, что знаю о мире за колючей проволокой, настала очередь моих новых соседей. Сначала о себе, о своих делах. Впрочем, волк со шрамом тут отмалчивался, темнил.
Зато он поведал историю о том, как два беглеца скитались по Сибири и вдруг в тайге наткнулись на колючую проволоку. Не было ни вышек, ни собак, ни людей, только колючая проволока, окружающая два зеленых холма посреди бескрайней и безлюдной тайги. Беглецы хотели уже встать и уйти от этой ржавой и, видимо, забытой ограды, как вдруг раздался странный металлический звук. Они снова затаились в густой зелени. В холме как будто открылся люк. Оттуда стали попарно выходить зеки и, звеня кандалами, направлялись ко второму холму, исчезая в нем. Их сопровождала вооруженная охрана. Самым страшным было то, что никто не подавал голоса, только железо звенело. Вереница привидений скрылась во втором холме. Опять все затихло, опять ничто, кроме ржавой проволоки, не напоминало о следах человека.[163]
Охваченные ужасом, далеко-далеко от этих холмиков уползли беглецы, прежде чем решились подняться на ноги и взглянуть в бледные, как смерть, лица друг друга…
Кто эти заживо погребенные? Смертники? Что там? Урановый рудник? Строительство подземного аэродрома? Ответа не было…
Мы читали в советских журналах высказывания американских коммунистов о советском «праве на социальный эксперимент» и поражались жесткой черствости этих людей. Вот если бы этот «эксперимент» ставили не на ком-то, а на них самих, – они запели бы по-иному. Но чужая беда не болит. Очень мило и благородно в своих уютных квартирах рассуждать о важных и нужных экспериментах, которые где-то в неведомой дали устраиваются над жизнями каких-то людей, людей второго сорта, которых позволительно принести в жертву гипотетическому «светлому будущему». Чем же плох тогда нацист Менгеле? Партийной принадлежностью? И кто, на основании каких признаков делит людей на сорта: кому быть экспериментатором, кому подопытным кроликом. Это почище расизма. «Самое гуманное учение», приносящее живых людей в жертву кабинетной схоластике. Насколько иными все-таки выглядят еврейские социалисты, которые в своих кибуцах ставили социальный эксперимент исключительно на самих себе, как и подобает исследователю. А вот западных коммунистов в их кровный и кровавый соцлагерь никакими веревками не затащишь. Как-то спокойнее наблюдать за «экспериментом» со стороны, или у себя дома ставить его на согражданах, не на себе.
Говорили мы и о том, что есть в мире особая порода голодранцев (независимо от профессии и достатка – речь идет о духовной категории). Им, голодранцам, не нужна нация, религия, семья, собственность – просто нет у них такой потребности. Именно они – человеческая база коммунизма.
Богдан Ведута, беглый пограничник, рассказывал, как советские солдаты гоняются за беглецами даже по иранской территории. Нагло, бесцеремонно. Персы боятся им мешать. Были и неправдоподобные истории о том, что в одной из камер сидел человек, продавший душу дьяволу. Невидимый черт будто бы громко, при всей камере, разговаривал со своим подопечным откуда-то из батареи, матерился, обещал проучить жену своего собеседника и ее нового любовника. Атеисты, присутствовавшие при этом, не верили своим ушам.
Второй из молодых, Аваков, все больше прятался в шахматы от мрака камерной жизни.[164] Прятаться было от чего… Волк только первое время оживленно расспрашивал. Он просмотрел купленную мной через посылторг книгу о кумранских рукописях и вдруг спросил с подозрением:
– А с какой целью выпущена эта книга?
У меня как-то сразу засосало под ложечкой.
– Они объясняют это со своей, атеистической точки зрения.
– Нет, с помощью этой книги они намекают на неоригинальность христианства! – и он злобно посмотрел на меня, этот молящийся волк.
Он был типичным для России сочетанием юродства, уголовщины и патологии. Молился он часто и истово, даже в тюрьме держал посты, но при этом грязно матерился; из него так и перли агрессивные бандитские замашки; ненавидел он всех лютой ненавистью, горевшей в глубоко запавших глазах на страшном узком лице. Но особенно ненавидел евреев. Каждого второго подозревал в сокрытии своего происхождения. Он целыми днями молча лежал, как бревно, мрачно сверкая глазами, ходил из угла в угол, аккумулируя ненависть. Это безмолвное накопление внутренней злобы чувствовалось физически.
А когда он узнал мои взгляды по национальному вопросу, то озверел совершенно. После ряда грубых, провокационных, хулиганских выходок, он перешел к прямому бандитизму.
Внезапно мы прочли в газете о войне Судного дня. Я включил последние известия (в этой камере был выключатель). Волк, ни слова не говоря, встал и направился к посудной полке. Я сразу почувствовал неладное, но не подал виду. Волк так же молча приблизился ко мне и вдруг обеими руками со всей силой обрушил металлическую миску на мою голову. Я успел вовремя выбить миску у него из рук, и она покатилась по полу. Положение было идиотское. С одной стороны, надо спастись от нападения. С другой, нельзя дать втянуть себя в драку: менты только этого и ждут, могут намотать дополнительный срок, да еще по чисто уголовной статье. Под кожей его расколотого лба пульсирует мозг: стоит ему этим местом на что-нибудь наткнуться – верная смерть. После этого можно расстреливать за «убийство». Если останется в живых – тоже проблема, я ведь знаю эту публику. До меня во Владимире сидел украинский националист Семенюк, который высказывал национальные взгляды и тем навлек ненависть соседа по камере Быкова. Ночью, когда все спали, Быков достал миску, подкрался к койке Семенюка и изо всех сил ударил спящего по голове металлом.[165]
К счастью, угодил не в висок, а возле. Первыми словами Семенюка, приподнявшегося на кровати, были:
– За что ты меня ударил?!
Недоумение, непонимание перевешивало даже страшную боль и возмущение.
Обычно менты имеют в камере «своего» человека. Однако происшествие осталось без последствий, хотя дважды в день, на проверках менты видели разбитую голову зека. На это они обязаны реагировать немедленно. Но зачем? Их продолжали держать вместе, как ни в чем не бывало. Победит свой – прекрасно. Чужой – тоже неплохо: можно добавить националисту срок, а то и расстрелять. А обстановка-то какая благоприятная для «перевоспитания»! Политические поедают друг друга, как пауки в банке! Золотая мечта КГБ!
На разрешение всех этих тяжелых сомнений у меня не оставалось времени: действовать надо было мгновенно. Я поймал запястья противника, сжал их мертвой хваткой и, увертываясь от его попыток ударить меня головой или ногой, начал выяснять чего ему от меня надо. Оказывается, он хочет всего-навсего, чтобы я выключил радио. Я подержал его еще немного, пока он успокоился, и после этого выполнил его скромную просьбу. В это время Аваков возмущенно сказал:
– Что это такое, ни с того ни с сего бросаться на человека с миской?
Вместо ответа волк наклонился, поднял закатившуюся под кровать посуду и, ни слова не говоря, бросился с ней на Авакова. Завязалась драка. Был в это время у нас в камере появившийся на днях четвертый зек: Слава Миркушев, мой старый знакомый, сосед по камере в Мордовии, великий мистик. Он первым опомнился и бросился разнимать дерущихся. Привлеченный шумом мент открыл кормушку и начал громко, угрожающе комментировать происходящее. Волк продолжал лезть в драку, ни на кого не обращая внимания.
В конце концов явились менты и начали по одному вызывать сокамерников для «выяснения». Я не знал, как быть. Тут враг, там тоже. Сказал, что вообще ничего не знаю, не видел. Аваков и Миркушев рассказали все, как было, так как не хотели оставаться в одной камере с опасным типом. Аваков, к тому же, не желал быть наказанным за чужую вину. Волка забрали. Мы облегченно вздохнули. Это было настоящее избавление. Через несколько дней нас повели в баню. Вдруг дверь тесной банной камеры открывается, входит наш знакомый с волчьим огнем в запавших глазах; ни слова не говоря, берет один из [166] грязных тазов и начинает мыться. Воцарилось гробовое молчание. В руках этого беса во плоти – таз с кипятком. Наперекор официальной инструкции менты намеренно соединяют его с теми, с кем он находится во вражде. Обычно из бани выгоняют поскорее, но на этот раз все мылись до отвала и потом никак не могли достучаться, дозваться ментов, чтобы вывели нас… Возвратившись в камеру, я пишу жалобу в прокуратуру о том, что тюремная администрация намеренно провоцирует драки между заключенными. Никаких подробностей или имен не называю. Тем не менее на следующий день волка от нас забирают, а меня просят взять жалобу обратно, так как «вопрос исчерпан»
45. КАМЕРУ ЗАТОПЛЯЕТ
Хочу рассказать об одном явлении, обычном во владимирских камерах первого этажа. Анджела Дэвис с ним не сталкивалась, а если бы хоть раз столкнулась, это огненными буквами было бы вырезано на скрижалях мировой истории. Иное дело мы, простые смертные, не состоящие в священной и неприкосновенной коммунистической церкви, а потому законно подпадающие под спасительную сень крыла новой инквизиции – КГБ – русского Гестапо.
В камере № 16 первого корпуса нескольких дней не проходило без того, чтобы из унитаза не раздавалось громкое бульканье. Мы бросались к двери, стучали, требовали перекрыть краны. Из закупорившихся где-то под нами канализационных труб скопившаяся сточная жидкость поднималась в унитаз, переполняла его и через край лилась в камеру. Менты обычно обращали на это серьезное внимание только после того, как нечистоты через порог начинали просачиваться за дверь, в коридор. Тогда зеки-сантехники прочищали канализационные трубы. Уходя на прогулку, мы боялись оставлять что-нибудь из вещей на полу: как бы в наше отсутствие они не «поплыли» по морю нечистот.
Как только начинался очередной потоп по-коммунистически, мы доставали свои книги и вещи из-под кроватей (другого места для них не было в переполненных камерах), забирались вместе с обувью на койки и с тоской смотрели вниз, где разливалась зловонная жижа, по которой плавали «торпеды» кала и прочие приятные отходы. Наш двойной плен длился часами. Когда канализацию приводили в порядок, дневальному приходилось спуститься вниз и каким-то подручными средствами вычерпывать мерзость обратно в унитаз.[167] Потом необходимо было по несколько раз заливать камеру водой, драить ее и опять черпать, пока не слабели ароматы бездны. Вскоре все повторялось.
Дежурили мы по очереди, каждый день сменяя друг друга. Особенно обидно бывало тому, на чьи дежурства чаще выпадали «наводнения». Как сейчас помню лысину Славы Миркушева, тускло поблескивающую внизу в подслеповатом электрическом свете. Склонившись к смраду, он черпает до боли в руках и спине, а мы сверху наблюдаем за этим адом. Куда там Данаидам! Потом его сменяли другие…
Славу преследовали и еще более удивительные знамения. С детства он чувствовал себя точкой приложения неведомых мистических сил. В лагере это достигло апогея. Теперь он в тюрьме, его «гуру» освободился из лагеря, но положение только ухудшилось.
Он был убежден в том, что готовятся страшные вещи, что Вандакуров и еще несколько таких же, как он, пошли на службу к большевикам и в их тайной лаборатории готовят неведомое сверхоружие, используя его, Славу, в качестве подопытного кролика.
Все те гипнотические приемы, которыми располагал Вандакуров, теперь соединены с электроникой и больше не зависят от неуловимых тонкостей внутреннего состояния экспериментатора. В голове Славы, где-то за лобовой костью, как бы включен приемник. Не всегда есть передача, но и в ее отсутствие остается слабое фоновое гудение, как от зуммера.
В определенные моменты «приемник» работает, в мозгу звучат слова, навязываются целые картины или необычные состояния, не поддающиеся описанию. Однажды в конце сеанса в его мозгу прозвучал характерный звук: тюр-ля-ля» – как при перекручивании магнитофонной ленты. Иногда его вызывают на диалог.
Я, честно говоря, не верил ему, думал, что у парня галлюцинации. Но позднее, в день получения визы на выезд из СССР, я вдруг услышал по «Голосу Америки» о таинственном советском микроволновом оружии, о странных излучениях, которые направляли в сторону американского посольства, о том, что это облучение вызывает в мозгу людей звуки и слова, дезориентирует их поведение и может даже провоцировать инфаркт. Основную информацию американцы засекретили. Получается, что наука достигла такой степени тонкости, что состыковалась с магией. Примитивное манипулирование веществом, породившее материализм, отходит теперь на второй план. Мы стоим на пороге [168] открытия мистического мира, который войдет в нашу жизнь так же властно, как мир физический. Возникнет сверхшпионаж: получение информации прямо из человеческих мозгов, без устного или письменного слова. Куется сверхоружие, парализующее противника еще до того, как он сможет применить против врага какие-то физические средства защиты.
Два или три раза за последние десять лет русские приводили свои войска в состояние полной боевой готовности для нападения на Китай. Планировалось атомными ударами разрушить основные китайские центры, отторгнуть Синцзян, Маньчжурию, Внутреннюю Монголию и Тибет, отбросить Китай в каменный век и прижать его к морю железным кольцом новых стран-сателлитов.
Но всякий раз что-то мешало, и готовность номер один отменялась. Теперь уже поздно: Китай располагает средствами для сокрушительного ответного удара.
И русские пошли по другому пути: они разрабатывают неслыханное сверхоружие, против которого ни у кого пока нет защиты. Когда под шумок детанта оно будет завершено, русские ринутся на завоевание мирового господства, не колеблясь ни минуты.
Из многих источников я слышал, что люди, обладающие мистическими способностями, зачастую таинственно исчезают, как только власти узнают об этом; что целые тайные институты в СССР работают над проблемой гипноза и магии.
Когда-то в курилке цеха Слава пошел заваривать чай для себя и Вандакурова. Вдруг Вандакуров сделал странный кругообразный жест и Слава на ходу остановился, у него как бы отключилась правая нога и левая рука. Другой жест – и «парализованные» конечности снова могут двигаться, но взамен отключены две другие. Третьим жестом учитель приводит потрясенного ученика в нормальное состояние.
– Как ты это делаешь?! – воскликнул Слава. Он готов был терпеть что угодно, лишь бы и самому научиться.
– Хе-хе-хе, – надтреснуто рассмеялся лысый Мефистофель и записал в свой блокнот какую-то таинственную формулу.
Есть в раджа-йоге магический прием: вдыхание воздуха в одну ноздрю, а выдыхание через другую. Специалисты умеют делать это автоматически, причем время от времени ноздри меняются ролями. И Слава при разговорах с Вандакуровым иногда слышал характерный щелчок этого переключения. Тот не просто разговаривал, а проникал [169] глубоко в душу собеседника. Еще в самом начале их знакомства Вандакуров излагал Славе свое учение о двенадцати арийских богах во главе с Тором, которые задумали сотворить мир. Их подслушал тринадцатый. Он сотворил мир по-своему, чтобы узурпировать власть над ним, опередив замысел двенадцати. Арийские боги теперь спасают своих людей из этого страшного еврейского мира, созданного бунтовщиком. Отражением высшей борьбы богов является и борьба в этом мире между арийцами и евреями. Эта борьба будет разворачиваться и углубляться, аккумулируя в себя всю энергию человечества вплоть до кульминационной схватки.
Рассказывая это, Вандакуров вдруг сделал властное движение ладонью снизу вверх. Как по мановению дирижерской палочки, вся жизненная сила Славы как бы всплеснулась в нем, резко поднялась вверх и ударила в голову. Вандакуров сделал движение ладонью вниз и сразу погасил это страшное озарение. Потрясенный, нервный, в ознобе, Слава не знал, куда ему деться, не понимал, что с ним происходит… Этот мир волшебства страшил его и манил. Он тоже хотел стать чародеем. Жадно схватывал все, что только мог, пытался экспериментировать на других, погружал себя в транс…
Сокамерники жаловались на гипнотическое влияние с его стороны, доходило до конфликтов. Я поступал проще: как только чувствовал что-то неладное – мысленно молился; как рукой снимало.
Однажды я молился так с особым напряжением воли, однако совершенно беззвучно. Слава лежал на своей койке, укрывшись с головой одеялом. Это помогало ему входить в транс. Вдруг он повернулся в мою сторону и, откинув одеяло, сказал:
– Ты что делаешь?
– Ничего, – невинно ответил я.
– Неправда. Я чувствую исходящую от тебя силу. Она разрушила мое состояние…
– Я молился.
– Ты, наверное, знаешь магию?
– Нет, нам запрещается.
Но Слава не очень верил. Я же был потрясен: явная экстрасенсорная связь!
Однажды ночью Слава увидел, как чей-то призрак коричневой тенью сквозь дверь влетел в камеру. Слава был уверен, что это душа одного из тех магов, которые посылают сигналы в его мозг, выводят [170] душу из его тела, иногда угрожающе это комментируя. Слава вдруг оказался внутри невидимой прямоугольной коробки со светящимися, как раскаленная проволока, гранями. Эта невидимая преграда мешала коричневому добраться до него. Но тот как-то сумел разорвать и свернуть светящуюся «проволоку», после чего полоснул Славу чем-то прямо по сердцу.
– Будешь знать! – злобно сказал коричневый скрючившейся от страшной боли жертве. И исчез…
В последние дни нашего пребывания в заливаемой нечистотами камере Славу вызвал тюремный психиатр Валентин Леонидович Рогов. Больше всего поразило Славу то, что Рогов был в курсе всего эксперимента. Его интересовали только некоторые подробности…
Забегая вперед, скажу, что вскоре после нашего переселения Славу забрали в больницу, оттуда – на двенадцатый корпус (для психов) в Мордовии, а после этого – в Днепропетровскую психушку, где сидел Плющ. Само переселение было совершенно неожиданным. До этого по концу срока освободился Аваков. Вдруг всей камере приказали собираться с вещами. Забрали Богдана. После этого меня и Славу вместе повели на третий корпус, в большую камеру. Каково же было наше удивление, когда среди прочей публики, в основном случайной, мы опять увидели нашего незабвенного волка! Никак расстаться не можем. Опять нагнетание напряженности. Камера на верхнем этаже, вода то совсем исчезает, то еле сочится. Сплошные беды с унитазом, а людей полно и всем надо…
Волк вскоре взялся за старое, со злобными угрозами убийства обвиняя Славу и меня во всех смертных грехах. Это мы все, оказывается, на него ни с того ни с сего напали!
Мне почему-то сразу вспомнилось «нападение» Финляндии в 1940 году и израильская «агрессия». Я объявил голодовку, никак не отвечая на нападки врага. Подошел корпусный, открыл кормушку, спросил о причине.
- Требую перевести меня в другую камеру и прекратить провокации.
- Кто занимается провокациями?
- Ваше начальство!
Кормушка захлопнулась. Волк как-то сразу сник. Менты некоторое время разыгрывали непонимание, но потом забрали его. Взамен привели Богдана. Тот, учуяв антисемитское окружение, делал вид, что едва знаком со мной. Что ж, и с такими друзьями я сталкиваюсь не впервые.[171]
Внезапно приказали собираться мне. Почему? Зачем? В коридоре столкнулся с волком, которого вели мне навстречу. Как? Опять?
46. ТРОЙНИК
Но нет, его завели в дежурку, а меня проводят мимо. Лестницы, коридоры, лязгающие железные двери, чистое небо над головой, когда ведут из корпуса в корпус. Только в такие минуты и можно увидеть небо по-настоящему, не в полоску, и не в клеточку. Опять первый корпус, третий этаж. Камера крохотная, тройничок, повернуться негде, негде ходить. Койки, столик и параша занимают почти всю площадь. Ни канализации, ни умывальника. У столика в стену же вделаны сидения, на каждом из которых уместится без труда только детская ягодица. Стена мешает, двое сидят скособочившись. Для третьего место и вовсе не предусмотрено, он кое-как примостится обедать на кровати.
Один из моих новых соседей – известный лидер группы ВСХСОН, Игорь Огурцов, яркая личность. Другой – беглый солдат Трепов. Оказывается, сначала к ним привели Богдана. Потом его забрали, а взамен появился наш волк. Огурцов, против которого он уже не раз устраивал провокации, доходившие до драк, отказался сидеть с ним наотрез. Тогда волка вернули на третий корпус, а сюда привели меня. Ну, слава Богу, можно отдышаться. Лучше без умывальника и с парашей, чем с таким вот монстром. Огурцов имеет пятнадцатилетний срок, из которого первые семь лет – тюрьма, а не лагерь. Старожил. Он рассказывает, что такие волки еще недавно «делали погоду» в тюрьме. Кто из них был завербован прямо, кто просто действовал на руку по преступной своей натуре, но чекист тюрьмы Обрубов частенько сажал неугодного один на один с целой кучей такого сброда, а потом вызывал доведенного до отчаяния человека и ласково говорил:
– Ну, что, может, покаетесь? Может, будем сотрудничать? Вы нам поможете, а мы – вам…
Обрубов однажды стал вызывать всех политзеков по одному, каждому предлагая стать стукачом. Вместо «здрасьте», прямо с порога бросал:
– Жрать хочешь? Или:
– Бабу хочешь?
Фамилию Трепова тоже обыграл: [172]
– Ну, что, потреплемся?
Зеки рассказали друг другу, подняли шум. Обрубов «ушел в подполье» и стал рубить не в лоб, а из-за кулис. Мне он даже на глаза не показывался.
Огурцов объяснял большой процент разложенных среди политзеков тем, что весь мир старается поддерживать нормальные отношения с Москвой, будто ничего особенного не происходит. Тем самым разбой как бы легализируется, вводится в норму. После этого нечего удивляться его распространению и вширь и вглубь.
Удивительно другое: как на этой выжженной земле все-таки прорастают семена инакомыслия и сопротивления. Как хватает у людей смелости выйти с голыми руками против непобедимого железного чудовища? Ведь даже слабое и робкое сочувствие извне – чисто словесное, в то время как чудовище от тех же «сочувствующих» получает и хлеб, и доллары, и машины в таком изобилии, что просто диву даешься. Настоящая дань! Иначе не назовешь многомиллиардные кредиты, которыми осыпают двукратного злостного банкрота. Какое самоуничижение перед откровенным врагом свободного мира! Какое поощрение! Создается впечатление, что этого зверя уже признали владыкой, весь торг идет только об условиях гегемонии. Мы, мол, откупимся – только не посылайте против нас карательную экспедицию, как против чехов!
Огурцов был удивительно похож на Наполеона и по характеру, и внешне. Даже родился он под созвездием Льва. Чувствовалась в нем какая-то громадная, неодолимая внутренняя сила, которой и менты побаивались. От него исходил ток предназначения, это был человек Рока. Пожалуй, и политические его взгляды во многом близки к наполеоновским. Это рыцарь до мозга костей. Он один из немногих искренних в своей группе. По сути, его мечта – повернуть вспять сатанинское колесо современной истории. И он либо повернет, либо погибнет под ним. Когда-то Юлиан-«отступник» посвятил свою жизнь реставрации язычества в охристианенном Риме.
Теперь другой человек хочет силой своего духа вернуть мир к христианской цивилизации. Не присутствовал ли я при прологе великой трагедии, чуть ли не мистерии?
Не знаю. Он владел европейскими языками, глубоко изучил литературу, философию, религию. Это настолько сильная личность, что никакие внешние обстоятельства не могут повлиять на нее. Не повлияли даже те массовые испытания новых медикаментозных средств, которые [173] проводила на зеках Елена Бутова, Эльза Кох Владимирского Централа. В то время параши в камерах были сплошь. Однажды что-то толкнуло Огурцова не пить разливаемый по бачкам кипяток. Остальные пили. Вскоре тюрьма загрохотала от ударов кулаками в железные двери: всю ночь из всех камер зеки ломились в туалет. В камерах свирепствовал страшный понос, напоминающий дизентерию. Пострадали все, пившие накануне кипяток, а таких было большинство. В туалет не выпускали; зеки стлали на пол бумагу и оправлялись на нее. Только утром можно было все это унести в туалет.
Огурцов написал жалобу в Красный Крест. Обычно на жалобы плюют, но тут Бутова несколько взволновалась, вызвала Огурцова и настойчиво просила жалобу не отправлять. Огурцов согласился, но при одном условии: пусть Бутова скажет ему, что это было. Он обязуется хранить в тайне.
– Ишь чего захотел! – возмутилась Бутова.
Не раз и не два зеки по всей тюрьме выбивали стекла и хором скандировали сквозь решетки в сторону города:
– Коммунисты травят!
Мне довелось присутствовать при совершенно наглой и открытой попытке отравить Огурцова мышьяком. Зубной врач (женщина) в начале 1974 года взялась лечить больной зуб. Сначала нужно было убить нерв, а для этого примерно на сутки в дупло вкладывается ватка с мышьяком.
– Вы завтра вынете? – на всякий случай спросил Огурцов.
– Хи-хи-хи, мы знаем, когда вынимать! – пропищала чем-то довольная зубниха.
На следующее утро при обходе Огурцов напомнил медсестре о своем зубе.
– Да, да, конечно! – ответила толстенькая, черноволосая раскосая баба.
Прошло полдня. Мы стучали в дверь, требовали, напоминали – бесполезно. На следующий день – то же самое. На третий – та же картина. Мы теперь целые дни проводили, стуча по очереди в дверь, напоминали каждый раз корпусным и медсестре, требовали врача или дежурного офицера, требовали металлический крючок, чтобы попробовать вытащить ватку самим – тщетно. Это была непробиваемая стена молчаливого заговора. Зуб уже был обречен, он неминуемо рассыплется, но через нерв мышьяк начинает диффузию в организм. Огурцов рассказал, что раньше аналогичным образом чуть не убили Гунара Роде.[174]
Он уже посинел, не мог ходить, когда мышьяк согласились, наконец, вынуть. Зуб Гунара, разумеется, разрушился, но тут уже было не до зуба… Мы решили не ждать летального исхода, не доводить дело до посинения. У Огурцова уже начинались признаки отравления, он больше лежал. Решили все вместе подать заявление о голодовке: Огурцов – о немедленном начале, мы двое – о присоединении к нему на следующее утро, если не будут приняты срочные меры. Я в своем заявлении открыто обещал огласку этого дикого преступления. В тот же день мышьяк вынули.
Вскоре у Огурцова кончился семилетний тюремный срок, и его отправили в лагерь. Как потом выяснилось, по рекомендации Рогова возили его и в психушку, и только протесты хорошо организованных зеков 35 зоны помогли ему выбраться оттуда.
Я остался один на один с Треповым, круглолицым лысеющим парнем. Он любил днем спать, а ночи напролет гробить глаза, читая в тусклом свете ночника какую-нибудь философию. Когда нас было трое, он помалкивал, но наедине разговорился.
В тюрьму он попал каким-то боком из-за листовок, которые в лагерном клубе разбрасывали натравленные Вандакуровым «активисты». Это было незадолго до моего приезда в лагерь. В листовках было сказано: «Нет бога, кроме Тора, а Гитлер – пророк его». Несомненно делалось это по рекомендации КГБ, о чем не догадывались искренне верившие Вандакурову непосредственные исполнители. Трепов смотрел кино в переполненном клубе, когда рядом с ним взвились прокламации. Его отправили в тюрьму «за компанию». Он вообще-то тоже ошивался в вандакуровских «кругах» и был свидетелем одного впечатляющего события.
Как-то в бараке они втроем – Вандакуров, Миркушев и Трепов – пили чай. Вдруг глаза Миркушева остекленели от ужаса, и он стал прятаться за спину Трепова, со страхом поглядывая на дверь. Трепов тоже посмотрел туда, но ничего не заметил.
– Ну, чего боишься? – с улыбкой отметил его испуг Вандакуров, – ничего особенного, это же обыкновенные духи земли.
Потом Миркушев признался Трепову, что видел в дверях («вот как тебя!») волосатого, мерзостного черта, который заглядывал в секцию. Черт был большой, толстый, ужасный, с рогами, как на картинках.
С Миркушевым у Трепова уже в тюрьме был серьезный конфликт. Миркушев пробовал на нем свое искусство, внушая Трепову жуткие, [175] невероятные сны. В одном из снов Трепов стоял посреди проезжей части улицы, а вокруг мчались машины, угрожая ежесекундно наехать на него. Но самое страшное было то, что и улица, и дома, и автомобили при этом беспрерывно сжимались и растягивались, как резина, как гармошки. Очнувшись, Трепов почувствовал, как его тянет, тянет к противоположному углу камеры. Он приподнялся и взглянул в ту сторону. Там, загородившись книгой, сидел Миркушев. Из-за книги на Трепова сверкали страшные глаза гипнотизера.
На прогулку Трепов выходил редко: отсыпался после ночных бдений, от которых совсем осовел. Его глаза потускнели в обрамлении покрасневших век, он часто жмурился, видел все хуже.
Однажды, когда я вышел на прогулку один, толстомордый мент завел со мной разговор по душам. Он откуда-то знал мой приговор, представился земляком, из одного, мол, города; выразил готовность помочь в переправке документов за границу. Я спросил с какой он улицы.
– Первая Набережная, знаешь?
Действительно есть такая улица, и название редкое.
– Это между Полтавской и Карла Маркса?
– Вот-вот! – ответил мент, и попался, так как я назвал совсем другой район.
– Ты в Первой школе учился?
– Да.
Я задал ему какой-то вопрос по-украински. Дело в том, что у мента типично русская физиономия, а Набережная у нас – сплошной ураинский район, да и Первая школа – украинская.
– Чего-чего? – не понял мент. Он явно даже и не жил никогда на Украине, в его речи не было и намека на украинский акцент. И русским с Украины трудно избавиться от мягкого «г» в своей речи… В общем, операция «земляк» провалилась.
47. НАПРАСНАЯ РАДОСТЬ
У Трепова тоже кончился тюремный срок, и он уехал в лагерь. Какое-то время я сидел один, потом опять кочевал по всяким камерам.
На этих кочевьях пришлось мне как-то столкнуться с двумя людьми, имен которых я не хочу называть, чтобы не навредить им. Иногда такая перестраховка необходима даже в отношении отрицательных характеров.[176] Назовем одного из них С., а другого – Т. Обоих я знал по лагерям, и очень обрадовался, встретившись с ними. Но меня ждало жестокое разочарование, чтобы не сказать больше.
Сперва Т. вдруг, ни с того ни с сего устроил мне скандал. Потом у них начались сплошные склоки между собой, а я по дурости еще старался их разнимать, мирить и успокаивать. За это меня тайно возненавидели оба. Они были людьми сложной и запутанной биографии. С., например, из какой-то неблагополучной семьи, рано порвал с родными, тешился своей силой в драках и пьянках. Однажды, вернувшись домой, с перепою увидел на кровати громадного кота, с человека величиной. С. пулей выскочил за дверь. Естественно попал в уголовный лагерь, чудил по-всякому и там, видел и пережил всякие ужасы. На его глазах, например, зеки бросили неугодного в огромный кипящий котел.
Потом за какой-то флаг со свастикой пошел скитаться по лагерям политическим. С шиком прирожденного актера натягивал он на себя шкуру интеллектуала, сверхчеловека, борца, святого и еще Бог весть кого, нисколько не утрачивая старую хамско-уголовную подкладку. Книги он глотал запоем, но как-то лихорадочно, пятое через десятое. Во что-то мог проникнуть удивительно глубоко, в чем-то натаскался поверхностно, третье путалось и перемешивалось в его голове; все это вместе приправлялось соусом ненависти вообще и перцем антисемитизма в частности.
Мнил он о своей значительности нечто невообразимое. Любое возражение на самую ничтожную и невинную тему воспринимал со злобным содроганием, чуть ли не как покушение на свою драгоценную жизнь. Особенно любил позлословить. Все у него оказывались ниже земли, он один возвышался на пьедестале. Ему казалось, что весь мир обращен в его сторону. Если кто-то смотрит на него – значит, завидует. Если в другую сторону – ненавидит. Если вниз – что-то замышляет. Вверх – задается. Каждое дыхание, звук движение, слово другого он воспринимал как какое-то коварнейшее посягательство, даже если это вообще его никакой стороной не касалось. Доходило до галлюцинаций, которые являлись, видимо, реликтом былой алкогольной абстиненции. И он мстил окружающим за то мнимое осуждение в свой адрес, которое им приписывал. Менты умело использовали его состояние, шантажировали, что никогда не выпустят, на что-то намекали… Как-то он сказал, кивнув в мою сторону, что он чувствует необходимость кого-то [177] убить, а потом его «или выпустят, или… не знаю что». И он, надо сказать, однажды был на грани осуществления своего замысла. Не знаю, что его в последнюю минуту остановило. Все теории мира были гротескно перемешаны в его разрушительном, грязном и злобном сердце. Однажды этот Каин, величавший себя христианином, выдал свою заветную мысль:
– Люди очень много потеряли, отказавшись от человеческого мяса!
Другой, как дикарь, считал, что ни в чем не должен себя сдерживать, что ему в высшей степени плевать на других, да и на свою судьбу тоже. Не знаю, как меня не раздавило между этими валунами. Т. был еще по-дикарски рыцарственен, он не стал бы нападать сзади или на спящего, но прожженный С. был способен на все. Так, он собирался внезапно вылить на соседа целый бак кипятка, обварить его с ног до головы. Можно подивиться той инквизиторской тонкости, с которой чекисты подбирали мне соседей. Почти год просидел я со стопроцентными уголовниками в следственной тюрьме, но ни разу не переживал там таких горестных и тягостных минут. Чудо, что выдержал и уцелел.
От С. я слышал очередную историю о лошади. Эта лошадь была мерином, и лагерные уголовники не могли использовать ее обычным способом. Тогда скотину стреножили, повалили на землю, связали и попытались воспользоваться лошадиной ноздрей. Мерин догадался применить челюсти и чуть не откусил насильнику все на свете.
Был в тюрьме среди «полосатых» Томасян. Этого простого советского вора, как и многих других, за какой-то проступок произвели в «политические» особого режима. Томасян болел язвой желудка и получал за это свою скромную диету. Бутова украла из его медицинской карточки сведения о язве и на этом основании диета приказала долго жить. Дело обычное. Но горячий Томасян взвился на дыбы. Концы найти было невозможно: Бутова валила на чекиста, чекист на Бутову. Томасян начал отсылать во все инстанции умело нарисованные карикатуры на Ленина, с которым кайзер Вильгельм предается всевозможным извращенным удовольствиям. В то время (шестидесятые годы) еще можно было отправлять жалобы в закрытых конвертах. Томасян рассчитывал, что увидев Ленина за такими отвлекающими от классовой борьбы занятиями, как минет, коммунисты предпочтут лучше разобраться с Бутовой, чем продолжать поток осквернения и оскорбления величества.
– Кто вам дороже: Ленин или Бутова?! – восклицал Томасян.[178]
Толстая, как слон, сопящая, мрачная Бутова оказалась дороже протухшей мумии. Вместо возвращения диеты, язвенника еще раз судили, дали довесок. Тогда под видом кассации он вновь направил в Москву Ленина во всех позах с Вильгельмом, а вдобавок изобразил весь суд, который совокупляется вповалку при прокуроре Образцове, аккомпанирующем на гитаре. Не зная, как избавиться от больного, ему вместо язвы вменили сумасшествие и отправили в психушку на вечную койку. Красняк, кстати, описывал врачей-садистов Смоленской психушки (Сычевка). Там не только воруют паек пациентов, но и подвергают их всяческим пыткам. Веревки на теле заключенных затягиваются так, что лопается кожа.
Были, впрочем, и в этот тягостный момент моей жизни светлые минуты. Однажды из соседнего дворика послышался тихий голос:
– Какая камера? Я назвал номер.
– Полит?
– Да.
Быстро знакомимся. Оказывается, рядом, за стенкой, в соседнем дворике, гуляет Мороз!
Мы начали жадно, торопливо переговариваться, не обращая внимания на мента. Прежде, чем нас увели из дворика, Мороз успел сообщить мне, что скоро начнет большую голодовку. Позже я узнал все подробности о ее причине и о положении Мороза, о пыточном зонде и пр. Как-то мне удалось по тайным каналам переправить Морозу открытку с чудесным видом Тивериадского озера, и он, человек верующий, был глубоко тронут. Но это тоже было потом, примерно, через год.
* * *
В 1974 году в тюремных двориках вдруг стали попадаться экзотические иероглифы. При выводе на прогулку или смене камер мы иногда сталкивались с группами китайцев, которых тоже куда-то вели. В конце концов один китайский зек попал и в нашу камеру. Это был Юй Ши Линь, беженец, после нескольких лет жизни в СССР ложно обвиненный в шпионаже. Подробности своего дела он тогда еще боялся рассказывать. Я узнал их позже. Зато мы вместе думали о том, как спастись от голода, особенно белкового. Время от времени те несколько килек, [179] которые мы получали на брата, оказывались ржавыми и протухшими до невозможности, до отравления. Других белковых продуктов не было. Когда эту гниль, вместо помойной ямы, месяцами бросали зекам, белковый голод становился физически невыносимым. Нарушались функции организма, терморегуляция и пр. Человека бросало то в жар, то в холод. И само чувство голода, ненасыщенности становилось особым, специфическим, ощущалось каждой клеточкой тела. Еще немного – и в организме начнутся необратимые патологические изменения.
Юй Ши Линь, как мог, написал жалобу о том, что такую рыбу «даже свинина не стал бы кушать». «Свининой» он называл также необъятную Бутову и побаивался, как бы она не приняла жалобу на свой счет. Вначале не было никакой реакции, а позднее, когда жалобы о гнилой рыбе стали повторяться все чаще и принимать массовый характер, нас начали попросту сажать за них в карцер. Я, Гунар Роде и многие другие получили за это по семь суток.
Но в это время мы все-таки нашли выход: нас спасло отсутствие «намордника» в нашей тогдашней камере, только что переоборудованной из ментовского кабинетика. За решеткой было окошко, а за ним – чистое небо! Это чудо надо было использовать. Мы с китайцем стали плести из ниток веревочки, готовили петли. Насыпали на окошко хлебных крошек, и вскоре нам попался жирный голубь. Мы срочно посадили его в мешок и спрятали под кровать. Стали совещаться, как лучше организовать его секретную варку. В это время принесли письмо, а в нем – сообщение об освобождении Сильвы Залмансон! На радостях мы «амнистировали» голубя и пустили его лететь. Но следующего уже не удержались и съели. Варили его по частям в кружке, подогреваемой горящей газетной бумагой, ежеминутно рискуя попасться менту и загреметь в карцер. Впрочем, маскировку мы наладили безукоризненно. Эти кусочки мяса вливали в нас живительные силы. Прежде, чем нас перевели в другую камеру, мы успели слопать еще пару голубей, гнездившихся на тюремной крыше.
В этот период мне пришлось непосредственно столкнуться с деятельностью тюремного психиатра Рогова.
Должен был освободиться Березин, и Рогов вместо этого старался упрятать его в психушку. Это была характерная логика: до последнего дня срока действует «неотвратимость наказания»: человека держат в лагере, сажают в карцер, судят, отправляют в тюрьму, до последнего момента держат среди нормальных (им он почему-то не опасен), ни на [180] один день не кладут в больницу, не дают диету – но как только надо выходить на свободу, тут-то вдруг и «обнаруживается», что он же, оказывается, псих! Сумасшествие и юридическая ответственность оказываются невероятным образом совмещенными. До чего только не доходит советская логика! И опять война, протесты, голодовки, пока жертва не вырвана из пасти.
– Зачем? И так ведь жрать нечего! – недоумевал прокурор области Царев.
И опять после нескольких дней голодовки – та же каша из вениковых зерен, хранящихся на складах со Второй мировой войны, жалкий жиденький черпачек полуочищенной и сваренной на голой воде дряни с отвратительным привкусом мышиного помета.
И опять тот же невероятный мир, где мужчину могут звать «Люська», где он сам переделывает свою фамилию на женский род и кокетливо, зазывно демонстрирует глаза, вытатуированные на ягодицах. У педерастов вырабатывается чисто женская психика со сплетнями, интригами и ревностью. У них тоже есть свои кокетки, любящие надевать на себя женские украшения. Даже физический облик, движения, жесты – трансформируются до неузнаваемости.
48. ШАЛЬНЫЕ РЕБЯТА
И вот я снова, в который раз, остался в камере один. Совершенно измученный повалился на постель, уже не мог ни о чем думать. Ночь тишины, ночь покоя. Что завтра? Назавтра в камере оказываются двое свеженьких, наполняя мир феерическим смехом, шутками, историями. Оба беглые солдаты, друзья-неразлучники по тридцать шестому лагерю, Витольд Абанькин и Леха Сафронов. Оба бесшабашные рубаха-парни. Они сходу включились в новый спорт писания жалоб наперегонки, кто больше. Инструктор влетал в камеру с выпученными глазами и пачкой жалоб, а вылетал уже в истерике. Абанькин провожал его мощным пением арии:
– Напи-и-шем жалобу, напи-и-шем!
Менты сходили с ума от этой парочки еще в лагере. Это был совсем другой пласт лагерного населения, о котором я до сих пор почти ничего не знал. В этом-то втором лагерном слое подготавливался безумно дерзкий побег. Кто-то рыл подкоп прямо под полом каптерки вдоль [181] единственного глиняного гребня посреди болота. Глина защищала от затопления, но была плотной и слежавшейся настолько, что каждый сантиметр давался с трудом. Стукачи тоже не дремали. Опер и чекисты старались опередить друг друга в поимке побегушников на горячем, прямо в шурфе. Те перехватили стукача, и, в конце концов, менты и чекисты столкнулись лбами над пустой ямой. Ни одного человека в ней не было. В лагере появились листовки с призывом к сопротивлению, майор Федоров месяцами боялся сунуть нос в зону из-за таинственных записок с угрозами в его адрес. В зоне чуть не начались пожары в отместку за то, что менты за зоной разграбили вольные вещи зеков, а для отмазки инсценировали, будто склад «сам» сгорел. Практически никакой компенсации зеки за это не получили, и никакие суды не хотели принимать их иски. Когда мы уезжали из Мордовии, над ментовскими домами стоял сплошной лес телевизионных антенн. Разжирели на нашей крови. Теперь настала очередь уральского зверья. Мои новые соседи были гранью между старым полууголовным контингентом наших камер во Владимире, и новым, где преобладали уже настоящие политзеки. Эта грань знаменовала начало организованного лагерного сопротивления палачам. Большая забастовка на тридцать шестом всвязи с избиением ментами Сапеляка, массовые голодовки и забастовки на тридцать пятом означали психический перелом, который долго назревал и наконец разразился.
Одной из форм протеста стали самоубийства в лагерях. Наложил на себя руки старый украинец Опанасенко на тридцать пятом. Он оставил записку: «Будьте прокляты, каты». Был вынут из петли и едва спасен еврей Иосиф Мешенер. Вспоминали мы и рассказы старых лагерников. Одно время зеков – мужчин и женщин – держали вместе. Женщины были до того истощенными, что кожа втянувшегося живота свисала на бедра, как передник. Сытыми были только «придурки». Они покупали зечек за ломоть хлеба, и несчастная женщина торопливо проглатывала хлеб прямо во время полового акта. Тут, в тюрьме, мы уже успели узнать не менее страшные факты.
Недалеко от нас была камера «молотобойцев», которые за лишний черпак каши фактически работали тюремными экзекуторами. Оттуда время от времени раздавались душераздирающие крики. Менты только посмеивались. Формально непокорного уголовника просто переводили в эту камеру. На деле – отдавали на расправу. Нанятые за кашу изверги отбивали ему почки, ломали ребра, насиловали. Потом жертву забирали [182] оттуда и взамен бросали следующую. Много раз по ночам мы не могли уснуть: кто-то из соседей непрерывно стучал в дверь, просил забрать его из камеры, где ему грозит расправа. Менты только издевались. Иногда сами вытаскивали докучного зека из камеры и зверски избивали в коридоре или в карцере. Особенно отличался этим майор Киселев. Он забивал некоторых до смерти.
Так был убит заключенный Герасимов по кличке Дикарь. Труп вытащили из карцера и записали, что умер своей смертью. До нас доносились жуткие глухие звуки ударов и нечеловеческие, предсмертные вопли. Потом все стихло.
Как-то в 1975 году на 3-м корпусе уголовник-еврей Борис Гуляка из Ленинграда сам выскочил из враждебной камеры, где его хотели убить, и отказался заходить обратно. Просился в любое другое место. Вместо этого набежала куча ментов и его стали заталкивать силой. Он пассивно упирался. Уже вталкивая его в двери, здоровый усатый мент изо всех сил нанес ему удар ногой в пах. От невыносимой боли Гуляка потерял сознание, первые дни не мог двигаться и оправляться. Дозваться врача оказалось невозможным. Даже озверевшая враждебная группировка уголовников проявила себя гуманнее: они уложили жертву на постель и больше не трогали.
Одной из тем наших жалоб были бесчисленные тараканы в тюремной бане. В конце концов мы заставили их морить, но вначале на наши претензии банщик равнодушно отгавкивался:
– Где баня, там и тараканы!
Моя парочка заводила его на откровенности, и он оказывался не менее подозрительным, чем лагерные антисемиты: евреи мерещились ему всюду. Даже нашего инструктора он считал полукровкой (на самом деле он был далек от евреев не меньше, чем от Африки). Как-то на прогулке мы увидели его на надзирательском помосте.
– А мы что-то про вас знаем! – стали мы его поддразнивать.
Мент был заинтригован.
Вскоре после этого меня вдруг вызвали из камеры. Привели в ментовский кабинет. За столом сидел инструктор.
– Знаете, по какому поводу я вас вызвал? – таинственно начал он. Оказывается, его так и свербило узнать, какой его секрет нам известен.
Я возьми да ляпни:
– Один ваш коллега сообщил нам, что вы наполовину еврей.
– Что вы, что вы, – испуганно замахал руками мент, – и близко ничего нет![183] Я вам, не в обиду будь сказано, признаюсь: за столько лет работы в наших органах ни одного еврея не встречал! Я, конечно, не хочу вас этим обидеть…
– Ну, что вы, совсем наоборот!
– А кто вам это про меня сказал? – спросил вдруг мент, сверкнув глазами.
– Ну, у нас ведь тоже свои секреты…
Инструктор еще долго пытался выпытать у меня координаты своего коварного врага, а в конце, еще раз прижимая руки к сердцу, клятвенно уверял, что нет, нет, он не еврей ни с какого боку.
Между полом кабинетика и стенкой оставалась заметная щель. Вообще-то полы настелены только в кабинетах. В камерах – сплошной бетон. От тюремной сырости снизу из-под кабинетного пола что-то длинное проросло сквозь щель. Я глазам своим не поверил: мясистая такая поганка! Немедленно сорвал.
– Что это? – спросил мент.
– Ничего особенного, гриб. – И я вышел.
Уже у самой камеры встретил знакомую библиотекаршу.
– Вы что это несете? – удивленно вскинула брови девушка.
– Прогнила тюрьма насквозь, поганки прямо в кабинетах растут! – И я торжественно показал недоумевающей библиотекарше свой трофей.
В эту самую минуту на меня сзади коршуном налетел инструктор, в мгновение ока выхватил гриб из рук.
– Нет, Вудка, не прогнила тюрьма! Тюрьма живет и дышит! – И он убежал, унося добычу.
От моих рук еще исходил сладостный грибной запах: поганка явно была из съедобных. Впору было по-красняковски взвыть:
– Гнилую коммунистическую поганку из пасти вырвали! – Но я соблюдал приличия.
Мои неразлучники так привязались друг к другу потому, что их характеры идеально взаимодополнялись. Один был властный, даже деспотичный, другой – перекати-поле, носимый всеми ветрами, корабль без кормила. Одному нужен был подчиненный, другому – рулевой.
Менты попытались было разъединить их, надеясь, что поодиночке они утихомирятся, но вышло еще хуже, и потом их снова соединили, вопреки страшным клятвам осатаневшего инструктора. Однако в период разъединения разыгрались бурные события. Сначала в камере вместо тандема появился энергичный, астеничный холерик – астроном Кронид [184] Любарский, худющий, все ребра наружу, но боевой, как огонь. Еще до него возник беглый солдатик, симпатичный малый Володя Афанасьев. И, наконец, из карцера возвратился осиротевший Леха Сафронов и бодро набросился на паек.
49. ТРУБА В ГЛОТКЕ
Кронид влетел в камеру и сходу начал знакомиться. Рассказал смешную историю, связанную с арестом своего однофамильца. Есть Кронид Любарский, русский ученый-демократ из Москвы, и есть Лазарь Любарский, инженер из Ростова, еврей-сионист. Между собой они не знакомы. Лазаря арестовали раньше. И вот в один прекрасный вечер сидит себе Кронид в своей квартире, слушает Би-Би-Си, и вдруг раздается следующее сообщение, от которого у него глаза на лоб полезли: «Астроном Любарский арестован за сионизм». Такая вышла путаница.
Кронид был первым известным мне русским зеком, открыто и принципиально отстаивающим не только право народов на отделение, но и жизненную необходимость этого отделения для самой России. Он совершенно четко осознал, что империя и демократия несовместимы. Будучи убежденным демократом, он отверг империю.
И действительно, это был бы выход. Кто из националистов отвергает право русских на жизнь или государственность? Никто. Борьба идет не против русских самих по себе, а против русского империализма. Россия как национальное государство наконец-то занялась бы колонизацией не чужих, а своих собственных необъятных неосвоенных пространств, решением нормальных житейских проблем, повышением духовного и материального уровня своего собственного народа. Такая Россия могла бы стать демократической страной. Ведь даже Турция к этому пришла.
И вопрос внешней опасности решился бы по-другому: национальная демократическая Россия, с ее колоссальными природными ресурсами, могла бы войти в семью европейских народов, занять достойное место в формирующихся Соединенных Штатах Европы. Это обеспечило бы мирное решение территориального спора на Дальнем Востоке при надежных международных гарантиях. Это способствовало бы демократизации все новых и новых регионов земли.
Увы, я не оптимист. Я опасаюсь, что устоявшиеся имперские структуры (от психологических до экономических) поглотят новорожденную демократию, как в 1917 году, и на поверхность снова выплывет [185] какая-нибудь имперская махровщина. Смена флага – это еще не смена структуры.
В первый же день Кронид спросил, действительно ли я верю, что земля плоская? С чего бы это! Оказывается, так кто-то в лагере истолковал мое неверие в обезьяньих предков. Кронид тут же взвился:
– Как это образованный молодой человек может не верить дарвинизму?!
– Если кто-то хочет потешить свою родовую гордость такой гипотезой – его личное дело, – отшутился я.
Тут уж Кронида совсем понесло:
– Да, да, от обезьяны, от павиана! – возбужденно выкрикивал он, бегая по камере, но быстро успокоился.
Таким он был: фанатично влюбленным в науку, страшно заводным, но отходчивым. Как спичка. Кронид любил животных, держал у себя попугаев, рассказывал про их удивительные качества.
Оказывается, попугай только по натуре птица, но по характеру – зверь (однако не по отношению к человеку). Его попугайчик храбро направлялся под стол, где кот обгладывал куриные лапки. Он подходил к коту, потрясенному такой наглостью, цепкой лапой вырывал у него добычу и уносил в свой угол. Возвращался, отбирал у жалобно фыркающего кота и вторую куриную лапку, после чего спокойно принимался за трапезу. Другой попугай на плече хозяина часто «ходил в гости». Там пестренькую птичку облюбовал громадный сибирский кот. Он начал осторожно подкрадываться. Попугай заметил агрессора, взлетел, уселся к нему на спину и начал своим железным клювом долбить по голове, по-русски приговаривая:
– А водочки не хочешь?
После этого четвероногое не только боялось попугая, как черта, но лишь стоило котяре расшалиться, набедокурить, как хозяин грозно спрашивал: «А водочки не хочешь?» – И кот пулей выскакивал в окно.
Я пытался спорить с Кронидовой влюбленностью в науку, которая породила машинную цивилизацию, органически враждебную и разрушительную по отношению к живому. Если так будет продолжаться, то она и самого человека вытеснит с земли. В ходе споров у меня возникла мысль о цивилизации биологической, которая в максимальной степени утилизировала бы возможности живых организмов. Если на входе технологии будут биологические процессы, то и на выходе обойдется без разрушительных отходов. Пример такого цикла: выращивается [186] сверхурожайная хлорелла. Ее белковые и витаминные компоненты идут в пищу животным. Клетчатка с помощью брожения перегоняется в спирт, а на спирте могут работать двигатели автомобилей без всяких вредных выхлопов. Ту же биомассу можно подвергнуть вакуумной термообработке, после чего отдельно использовать выделившийся газ и чистый уголь.
Думаю, что истощение ресурсов и колоссальный побочный ущерб, наносимый природе, заставит перейти к цивилизации биологической, о возможностях которой нам пока даже трудно судить.
Кронид рассказывал о необычном зеке Пете Ломакине, с которым познакомился в лагере. У Пети правая половина лица была как бы сплющена в вертикальном направлении, а левая, наоборот, растянута. Долго от Пети не могли добиться, за что он сидит. Потом заполучили его приговор и были потрясены. Оказывается, первый срок Петя получил по какой-то бытовой статье, но был досрочно актирован по идиотизму (не в бытовом, а в медицинском значении этого слова). Озлобившись, он в своем родном Владивостоке стал время от времени звонить в КГБ и, как сказано в приговоре, «характерным хриплым голосом» вещал:
– Ах вы, суки, б…, да я вам весь Тихоокеанский флот взорву!
КГБ разыскал злодея, судил и в качестве особо опасного государственного преступника спровадил в мордовский концлагерь. Пожалуй, только в идиотском государстве идиот может превратиться в государственного преступника!
Ребята послали Петю к чекисту с одним-единственным вопросом:
– Вам не стыдно меня здесь видеть?
– Стыдно, Петя, но, что я могу поделать? – развел руками чекист.
Эта машина заглатывает с величайшей легкостью, но выплевывает только с кровью.
Кронид считал, что дикость России – явление не уникальное и поправимое. Всюду в Европе те регионы, которые пережили дикие нашествия из других частей света, отстали в своем развитии и трудно переваривают влитую в них дикость. Таковы Балканы после турок, Пиренеи, Южная Италия и Сицилия после арабов. Во всех этих районах демократизация продвигается, хотя и с трудом. Не избежит этой участи и послемонгольская Россия.[187]
* * *
Знаменитая «поправка Джексона» была принята как раз накануне. Мы ликовали. Большевики согласились бы с ней, если бы законопроект не был отягчен массой других поправок. Они мстили нам тем, что перекрыли переписку, стали отбирать книги.
– Все! Голодаю! – кричал Кронид, – Это духовное удушение!
Первым радостно откликнулся Леха:
– Не меньше двух недель!
Мне ничего не оставалось, как присоединиться. Я уже почти два года не получал ни единого письма из Израиля, даже от брата – и решил выставить этот вопрос на первое место в своих требованиях. Володя Афанасьев решил тоже, как все. Тайно был обеспечен выход информации, что отозвалось необычайно «уступчивой» реакцией прокуратуры.
За два дня до голодовки, ничего не подозревавшие менты повели Кронида и Леху на анализ желудочного сока. Кронид получал диету, которую чуть ли не силой раздавал всем. У него была резекция желудка, почти весь он был вырезан, оставалось процентов двадцать. Когда у Кронида взяли сок, Леха увидел, что жидкость в пробирке была черной от крови. Кронид запретил Лехе рассказывать об этом в камере, и я узнал правду только тогда, когда астронома уже забрали от нас.
На другой же день после анализа Кронида сняли с диеты и выдали ему тот же скупой и несъедобный даже для здорового паек, что и всем нам. А на третий день началась голодовка. Это было в конце февраля 1975 года. Кронид, тощий очкарик, был человеком страсти, обаяние которой привлекало к нему сердца. Голодовка длилась долго. Капитан Дмитриев, наш тогдашний инструктор с типичным лицом неандертальца, наглел до последней минуты, пока не приехала комиссия из Московской прокуратуры, нагрянувшая из-за шума по радиостанциям.
Так, он приказал Крониду, лежащему пластом через неделю после начала, – собираться и идти в другую камеру.
– Ножками, ножками потопаете! – злобно куражился неандерталец. – Да еще матрас потащите по лестницам!
В конце концов Кронида унесли в больницу.
На десятый день явились прокуроры. Они удовлетворили часть наших требований. Мне, например, притащили целую пачку писем от брата.
На одиннадцатый день началось принудительное искусственное [188] кормление пыточным зондом, вталкиваемым через пищевод до самого желудка. Он был вдвое толще обычного, чуть не полтора сантиметра в диаметре. «Фельдшер» даже не смазывал его жиром для скольжения. Мы давились им, нас рвало, но ничего не помогало. В течение всей длительной голодовки Мороза, его терзали таким же зондом. Мороз вообще прошел через все круги ада: его бросали к провокаторам, бандитам, сумасшедшим, избивали, грабили, резали ножом, пытались растлить с помощью гомосексуалистов. Никакая фантазия не передаст того, через что прошел этот национальный герой.
– Посидишь с такими, – вообще думать отучишься! – стращал его чекист Обрубов.
Мороз бежал от такого «общества» через карцера, и тут его начал преследовать Рогов.
«Имеет контакт с Богом», – записал психиатр в медкарточке Мороза после того, как тот наотрез отказался говорить что-либо о своих религиозных убеждениях.
На двенадцатый день нашей голодовки Леха взвыл:
– Вы так наелись, а я голодный!
Дело в том, что в наши глотки фельдшеру еще удалось со страшными муками что-то влить, а Леха все изблевал, изрыгнул из себя, не выдержал, и теперь скулил.
– Пиши заявление, – сказал я ему, – что, всвязи с частичным удовлетворением наших требований, ты согласен прекратить голодовку, но не можешь без периода диеты сразу перейти на эту страшную, грубую пищу.
– Я один не согласен! – упирался Леха.
– Чудак, так они скорее удовлетворят (раскол, дескать), а мы напишем за тобой!
Хитрая дипломатия удалась, и впервые в истории тюрьмы зеки после голодовки получили двухнедельную диету. Мы не верили собственным глазам, искали какой-то подвох. Потом были боли в желудке и понятные только роженицам трудности первой оправки после долгого голодания. У нас это называлось: «родить сталактит». Советский Красный крест на наши жалобы о пыточном зонде ответил, что не компетентен вмешиваться. Тогда мы запросили, чей же Красный Крест компетентен вмешиваться не в чилийские, а именно в советские тюремные дела, но ответа не получили. Как-то позднее в «Правде» опровергли «клевету» о тяжелом положении немецких военнопленных. Мы им в голодное военное время по 600 граммов хлеба в день давали! – возмущался советский автор.[189]
Я запросил обозревателя Юрия Жукова, почему в обеспеченное мирное время нас, не воевавших с оружием в руках, а повинных исключительно в инакомыслии, держат на 400 г хлеба в день, что в полтора раза меньше.
Жуков лично ответил: он всего лишь комментатор, которому поручено отвечать только на вопросы о внешней политике.
Я снова написал ему заявление, где, отдавая должное его скромности, все же напомнил Жукову, что он еще и депутат, которому поручено осуществлять всю полноту власти. Этого вполне достаточно для постановки вопроса о четырехсотграммовом пайке через тридцать лет после войны и Нюрнбергского процесса, а теперь и после Хельсинки…
Бедный Юрий Жуков как воды в рот набрал…
50. «УМЕРЕТЬ БЫ!»
Мы получили передышку. Пламенный Кронид куковал где-то в больнице. Но и на расстоянии получалось так, что мы прекратили голодовку практически одновременно. И теперь мы втроем «разлагались», как говорил Леха, блаженствовали, и только с койки Володи Афанасьева время от времени доносилось полунаигранное-полутоскливое:
– Умереть бы!
Володя был маленьким, худощавым, добродушным пареньком с продолговатым лицом, крупным носом и поврежденным веком. Он был большой шутник и искатель истины. История его была такова. Простой парень из русской бедноты, он был призван в армию и служил в стройбате.
Там царила атмосфера всеобщего пьянства и разврата. Шлюхи в казармах не переводились. Их шпарили повзводно, иногда прямо на столе. Раскоряченная баба только щупала голову очередного возлюбленного и, обнаружив свежеостриженного наголо новобранца, прогоняла, отталкивала:
– Салага! Следующий!
Пропустив по тридцать человек, бесплатная проститутка хвасталась:
– А меня солдатики-и-и хо-о-ром!
Отсутствие дисциплины, пьянки и самоволки были повальными. Начальству требовалось как-то запугать разудалых молодцов, прекратить разгул.[190] Тут-то и подвернулся под руку Володя Афанасьев со своим подельником. Оба были уральские и служили на Урале же: случай редчайший. В самоволки ездили к себе домой, в родное село, к маме.
Как-то их, пьяных, изловили во время очередной «отлучки» прямо в поезде. До мамы им суждено было теперь доехать нескоро. Для острастки самовольщиков обвинили в… измене родине и бегстве за границу! Так хотели приструнить остальных, загубить две жизни ради «воспитательного мероприятия».
Всякий имеющий понятие о географии обнаружит, что нет в необъятной империи места более удаленного от границ, чем Урал. Именно туда во время войны эвакуировали заводы и фабрики. Бежать оттуда можно разве что через Северный полюс.
Однако такие мелочи, как география, мало волнуют советское «правосудие». Главное, – так называемый «социальный эффект».
И Володя получил свои десять лет, стал «политическим». Впрочем, вел он себя в лагере неплохо. За участие в сопротивлении был отправлен во Владимир. Еще на этапе столкнулся с Яцишиным, которого знал по тридцать пятому.
Яцишин и в лагере держался необычно, всех сторонился, утверждал, что в его шапку вмонтирован микрофон. На тех, кто пытался его разуверить, смотрел как на врагов и агентов. Впрочем, бывали случаи и похуже: один утверждал, что мордовские леса вокруг лагеря – это не леса, а картонная декорация, что на самом деле лагерь в центре Москвы, что он единственный действительный зек в нем, а все остальные – подосланные к нему чекисты.
Вместо лечения Яцишина снова и снова бросали в карцер. Это усугубляло его состояние. Психически больного, несмотря на проведенную экспертизу, судили и приговорили к Владимиру.
На этапах Яцишин спрашивал у Володи, не могут ли чекисты установить телескоп в… лампочке. Володя, как мог, постарался его успокоить. Но во Владимире коридоры и пространство между корпусами просматривается телеаппаратурой: тут-то, подозрительно поглядев на Володю, Яцишин «смекнул», что к чему.
В камере, где кроме Володи сидели Симас Кудирка, Давид Черноглаз и Буковский, Яцишин уже начинал бредить. Потом он сворачивался в форме плода в утробе.
– Скоро будет есть кал! – предсказал Буковский, которого большевики сделали великим специалистом по психиатрии.
И действительно, [191] начался и этот ужас. Ребята боролись с ним, как могли, но сила у сумасшедшего была громадная. Выпрямившись, как столб, он бросался на пол плашмя с высоты своего роста. На лбу вспухали громадные синие шишки. Страшен был глухой звук удара о бетон. Неимоверных усилий стоило ребятам заставить психиатра заняться Яцишиным, признать его больным и, в конце концов, забрать в тюремную больницу.
Психиатр был слишком занят нормальными. Позднее, после многих перетасовок, Володе Афанасьеву довелось сидеть с еще одним ненормальным – Лазаревым. Тот был помешан исключительно на антисемитизме. Все вокруг у него были евреи: от первого зека и до последнего мента.
– Я вашу тайну знаю! – кричал он двум своим русским соседям.
Однажды те ушли на прогулку, а Лазарев остался. Мент открыл дверь камеры, хотел зачем-то войти. Думая, что это возвращаются сокамерники, Лазарев бросился на входящего с занесенной для удара крышкой унитаза и диким ревом:
– У-у-убью, жиды проклятые!
Мента чуть не хватила кондрашка, он еле успел захлопнуть железную дверь.
После голодовки в нашу камеру опять привели Абанькина. Этот фанатичный спортсмен даже в тюрьме старался делать свои упражнения. Однажды он стоял на столе вниз головой и вдруг свалился от хохота, чуть не убившись при этом. Оказывается, стоя на руках, он прочел надпись, сделанную карандашом на газете, которую мы настилали вместо скатерти:
«Я дух.
Я человек.
Все люди духи».
Это шутник Володя, начитавшись Канта, занялся силлогизмами. «Я дух» и «Умереть бы» – стали потом камерными идиомами, притчей во языцех.
– А умереть не хочешь? – часто со смехом отвечали мы друг другу вопросом на вопрос.
– А лес – растение? – спрашивал Володя, вконец замороченный Кантом.
Наше блаженное отдохновение подходило к концу. Большевики решили заставить нас работать. Одни сразу отказались, другие попытались [192] сломить это начинание изнутри, так как работать в тюрьме было не принято. Мы делали процентов десять того, что он нас требовали, и писали целые кучи жалоб во все инстанции о невероятных условиях труда. Писать было о чем. Температура в рабочей камере около 10°С; влажно при электрооборудовании, бетонный пол покатый (бывшая баня со стоком), из-за чего мы на своих стульчиках сидели скособочившись; наши станки должны были греметь до глубины ночи, не давая тюрьме спать. Но самым настораживающим был характер работы. В тюрьме зрение и без того подвергается серьезной опасности. Вечный полумрак. Глаза не могут отдыхать на далеких предметах. Всюду только близкие стены; окошко забрано железом; над прогулочным двориком – густая сетка и решетка; круглосуточное искусственное освещение лампами накаливания, часто слабыми по 60 ватт.
И после таких-то условий нас заставили собирать резисторы из мельчайших деталей – тоже при загороженном окошке и лампе накаливания. Люминисцентные лампы, которые сплошь были установлены в рабочих камерах для уголовников, нам проводить категорически отказались без объяснения причин. Цель была ясна: подорвать зрение. Для этого же из нашего рациона исключали витамины, запрещали присылать их с воли, полностью прекратили выдачу рыбьего жира в медицинских целях. Раз не хотят видеть мир в официальном свете, так пусть к чертовой матери совсем слепнут! Пожалуй, не было в Советском Союзе такой инстанции, куда бы мы не писали обо всех этих безобразиях с максимальными подробностями. Ни одна партийная, государственная или общественная организация даже не ответила по существу. Все – от Брежнева до местного прокурора и от журнала «Огонек» до Терешковой – были единой блокирующей нас мафией, связанной круговой порукой и заговором молчания. Нас вдобавок еще начали сажать в карцеры за «невыполнение плана». Тогда мы вообще бросили работу и больше не выходили, несмотря ни на какие репрессии.
Почти весь первый этаж первого корпуса был теперь заполнен уголовными камерами, которые, вопреки даже советским законам (Приказ № 20 МВД СССР от 1972 года), были оборудованы и как жилые, и как рабочие одновременно.
В переполненной камере сидит на собственной койке простой советский уголовник. Прямо перед ним – станок, на котором он целый день, с утра до ночи, штампует продукцию (застежки-молнии, детали электроники). Тут же по левую руку от него – миска с баландой, а по правую – унитаз.[193] Что еще нужно человеку для полного счастья? Чем не рай на земле? Чем не царство труда? Мы называли этот камерный мир коммунистической сверхэксплуатации системой «СССР», что расшифровывалось как «сортир-столовая-спальня-работа».
Позже, на третьем корпусе, куда нас перебросили в камеру пониженного питания за невыход на работу, произошел бунт в уголовной камере, причем виноваты были всецело менты.
Сверху, с помощью тесемки, в камеру спустили жалкую пачку махорки. Зек Васюков, стоя у окна, отвязывал дар своего товарища из верхней камеры. В эту минуту внезапно ворвался заметивший неладное старшина Сухарев, эдакая красномордая горилла. Никто глазом моргнуть не успел, как Сухарев был уже у окна. Он набросился на «нарушителя» и принялся душить его за горло своими огромными лапами. Зеки еле вырвали потерявшего сознание товарища из этих железных клещей. Возмущенные, негодующие, они вытеснили Сухарева из камеры. Казалось, инцидент исчерпан. Но нет, открылась дверь и пьяный офицер сильно ударил дубинкой первого попавшегося ему под руку зека. Но камера была большая, выгнали и этого мента.
Вдруг посышался топот множества ног. В щелку зеки заметили, что к их камере приближается толпа курсантов. Все стало ясно: расправа. Изувечат, забьют до смерти всех подряд. Зеки стали баррикадировать двери, ломать койки и рамы на прутья и дубинки для обороны. Выбили стекла, боясь применения газов. Наши ребята встречали на этапах уголовников, полупомешанных от нервно-паралитических газов, которыми их «усмиряли».
Намочили полотенца, чтобы в случае чего дышать через них. Предупредили, что будут защищаться до последнего. До глубокой ночи длилась осада. После полуночи прибыли начальник тюрьмы Завьялкин и владимирский прокурор. Они обещали не применять силу и не устраивать судебную расправу, если зеки разоружатся. Те согласились. Их перевели из разгромленной камеры в другую, потом рассредоточили и вскоре судили. Всем дали дополнительные срока; никого из ментов-провокаторов и рукоприкладчиков – к ответственности не привлекли. Помню фамилии двух осужденных: Владимиров и Васюков.
Бунт был в мае 1975 года.[194]
51. ЯША И ЛЮДОЕД
Когда меня в конце нашей производственной «карьеры» бросили на пятнадцать суток в карцер, стояла страшная майская сушь 1975 года. Опять всюду возникали пожары. Опять большевики надеялись только на американскую манну, которая никогда еще их не подводила. Обычно в карцере страдают от стужи, а тут стояла такая жарища и духота, что впору было голым ложиться на бетонный пол.
Карцер был закупорен герметически: двойные рамы окна с одной стороны и двойные двери с другой. Я высадил бы стекла, но до них из-за решеток невозможно было дотянуться. Задыхался.
Единственным возможным занятием были разговоры с узником соседнего карцера. Был он из «полосатых» – политических. Рассказывал, что у них преобладает самый отъявленный контингент, те, кто среди уголовников-рецидивистов не смогли ужиться, оказались преступниками даже среди преступников и вынуждены были бежать в «политические» с помощью полуграмотных листовок. Эту свору коммунисты используют, как хотят, эта шваль затравила Мороза и загнала его в одиночку. Нет такого порока, такой подлости и такого преступления, на которое они не были бы способны.
В моем соседе накопилось столько горечи и ненависти, что он готов был с ножом один на один выйти против целого мира и при этом верить в победу. Все взрывать, уничтожать, пускать под откос поезда… Что, дети? Так они же пионеры, будущие коммунисты! Он лопался от ненависти, готов был вызвать на себя атомный огонь. Мир погибнет? Ну и пусть! Пусть из всего человечества уцелеет один только Новый Ной! При всем при этом лексикон моего соседа был на высшем уровне, он блистал эрудицией и развитием, жаждал и сам почерпнуть и пополнить свой багаж, благожелательно расспрашивал меня о еврейских делах. Эдакий утонченный интеллектуал до мозга костей, хороший русский парень.
Прощаясь, он прочел посвященное мне прочувственное стихотворение. Философ, политик, психолог, поэт, христианин. Пылкая душа, чистое сердце, трагическая судьба, пытливая мысль… Не скоро я снова услышал его голос, а когда услышал – все вдруг вывернулось наизнанку.[195]
После карцера меня завертела карательная карусель: наказания, строгие и пониженные режимы, почти калейдоскопическая смена камер. Это нагромождение подавляло хронологию, только самые яркие события и лица оставались в памяти. В тюрьму прибывало много новых участников лагерного сопротивления. Это мощное течение подхватывало и втягивало в свое русло даже людей случайных.
Нередко человек, вполне компанейский в лагере, становится просто невозможным в тюрьме. Причина проста: в лагере ты общаешься с ним несколько минут в день, а в камере – двадцать четыре часа в сутки.
Одним из таких тяжелых людей был Саня, вечно всех подозревавший в каких-то неведомых кознях и умыслах, всем противоречивший и всегда находивший причину для конфликтов. Был он рабочим, парнем разгульным и бесшабашным, страстным рыболовом. Как-то ему не дали отпуск в период рыбной ловли, и он, озлившись, написал на избирательном бюллетене все, что о них думает. Бюллетень извлекли из урны, Саню разыскали, арестовали и дали пять лет. В ледяных лагерных карцерах он стал калекой: отит, болезнь Бетховена. Ему резали ухо, но ничто не помогало: Саня неумолимо глох. Это еще более возбуждало его подозрительность, так как он не знал, о чем говорят сокамерники и часто предполагал самое худшее на свой счет. Однако настоящие происки были вне камеры. Сане тоже вставили в дупло мышьяк, и тоже «забыли» вовремя вынуть. Мы подняли скандал, и уже напуганные гласностью менты отреагировали достаточно быстро. Саня рассказывал, как его оперативно обслужила необъятная «медсестра», баба как раз в его вкусе. Он даже не удержался и в процессе лечения прижал ее легонько к себе…
Мы прыснули, получив описание «медсестры»:
– Да знаешь ли ты, что обнимал саму Бутову?!
Саню искалечили за пять лет, а вот Гунара Роде увечат уже целых пятнадцать. Началось это еще до ареста. КГБ боялся, что Гунар уже чувствует: сыщики наступают на пятки. Чекисты знали, что этот биолог и один из спортивных чемпионов Латвии в лесу чувствует себя как дома. С помощью подставной врачихи они под видом «лечения» испортили ему добрую половину зубов. С такими зубами в лесу не проживешь!
Потом – арест за участие в националистической группе, мечтавшей о восстановлении независимости Латвии. Лагерное сопротивление. Два залета во Владимир за долгий пятнадцатилетний срок. Кроме истории с зубом, Гунар еще раз был на грани смерти во время прошлого владимирского срока.[196]
Был тогда во Владимире озверевший полууголовный контингент. Драки вспыхивали ни с чего, металлические миски летали по воздуху, как снаряды.
Каждого новичка внимательно осматривали со всех боков: в какую сторону стоптаны его каблуки, как прирастают мочки ушей; по этим «верным» признакам определялся важнейший вопрос: не еврей ли?
Как-то один из полууголовников поругался с Сухаревой (ныне зам. Бутовой). Тогда эта игривая фурия решила отомстить. Она подмешала к глюкозе возбудитель и через медсестру направила гремучую смесь камере врага. Пусть, мол, побесятся! Зеки были крайне удивлены внезапным предложением угоститься глюкозой. То силой не вырвешь, то вдруг сама предлагает! Взяли, откушали. Однако Сухарева перестаралась. Чрезмерная доза вызывает уже не половое возбуждение, а спазмы. Все, кто ел глюкозу, согнувшись держались за животы. Спазмы были очень болезненными.
Гунар съел больше других, а по габаритам был самый маленький, ему не много нужно.
В то время, как другие постепенно очухивались, он ночами, скрючившись, сидел на кровати и стонал от адских болей. Медики не реагировали, пока полууголовники не написали заявление о том, что Гунар, видимо, сошел с ума. Его забрали в камеру для сумасшедших. Как ни умолял он о приходе врача – ничего не помогало. В конце концов явился психиатр.
– Ну, на что жалуемся? – с характерной улыбочкой спросил он. Но как только врач увидел живот Гунара, улыбка мигом сменилась выражением ужаса:
– Сидите, сидите спокойно! – крикнула медсестра и выбежала из камеры за хирургом.
Изнутри живота Гунара Роде как будто выпирал кулак. Это была перевернутая кишка: заворот. Гунара понесли на операцию. Случай был страшно запущенный. Посреди операции Гунар очнулся с ясным сознанием, что умирает. Он привстал, хотел произнести последнее проклятие Москве, и снова упал без памяти. Его тело содрогнулось от электрического разряда: медики стимулировали остановившееся сердце. На руках остались ожоги от электродов.
Теперь этот еще молодой, недавно переполненный жизненной силой спортсмен выглядит больным стариком. Только дух остался юным, [197] задорным. За отказ от рабского труда его во внутренней тюрьме концлагеря довели до цинги.
По своим религиозным воззрениям Гунар был язычником, верил в Перуна. Он говорил, что в Латвии сохранилось древнее язычество вместе с его праздниками и обычаями, несмотря на тысячелетние страшные гонения.
Гунар брал карту, водил по ней пальцем: «Вот здесь, говорил он, указывая на Смоленск, жил балтский народ голядь. Здесь – ятвяги. Там – пруссы. Этих народов уже нет. Осталось всего два: литовцы и латыши. Один из этих народов уже умирает. – И он обводил пальцем родную Латвию. – Колонизаторский элемент у нас уже сравнялся с коренным населением. Мы превращаемся в национальное меньшинство собственной страны. В Риге уже редко услышишь латышскую речь. Скольких вывезли в Сибирь целыми эшелонами, а взамен привезли пришельцев! Скольких перебили, переморили, замучили! Смертность у латышей теперь выше рождаемости: они не хотят производить на свет рабов. Нация гибнет. Умирает народ, совсем недавно имевший независимое государство, входившее в Лигу Наций!» И он умолкал, этот мученик, воплощавший судьбу своей страны.
Гунар был прекрасным ученым-биологом, даже в тюрьме он умудрялся поддерживать свои знания на самом высоком уровне. Он жалел вымирающих зверей и птиц так же, как свой вымирающий под московским «солнцем» народ. «Боже, спаси Латвию!» – была выцарапана на карцерных нарах молитва латышских узников. Гунар отдал Латвии свою жизнь, свое тело, свою душу, свою судьбу. Большего он для нее не мог сделать.
Но под натиском современной цивилизации гибнет и дорогая ему природа. У Гунара есть целый многоступенчатый план спасения исчезающих видов. Он верит, что у вымирающих животных больше шансов, чем у некоторых народов, о которых захотят слушать только тогда, когда они отойдут в царство археологии. Однако его убивают и как ученого, полностью блокируя возможность передать научным кругам ценные идеи, не таящие в себе никакой опасности для империи. Просто вместе с человеком списано и все ценное, что он создал или создает. У Гунара есть родственники в Швеции, но чекисты блокируют переписку.
Гунар весело смеялся беззубым ртом, слушая свежие лагерные истории про молодую ментовку из лагерной бухгалтерии 36-й зоны. Муж ее, [198] мент, был, видимо, импотентом, и она тайно исходила неудовлетворенной страстью.
Как-то туда зашел молодой зек выяснить что-то насчет денег. Поблизости никого не было. Ментовка вцепилась в него; задыхаясь, стала целовать и кусать. Тот перепугался. Он был уверен, что это провокация, что сейчас его обвинят в изнасиловании. Еле оторвавшись от нее, он бежал, как Иосиф Прекрасный. Об этом прослышал старый вор, непонятно как попавший к политическим, вечный зек Бергер. Он тайно работал на чека, из-за него Черноглаз и Сусленский оказались во Владимире (он обещал переправить материалы на волю, а сам передал их совсем по другому адресу). Провокатор не боялся провокаций. Он быстро нашел с неудовлетворенной ментовкой общий язык. Скрывшись от любопытных глаз за каким-то строением, Бергер дал распаленной бабе все, чего она желала. Ему это тоже, видимо, нравилось больше, чем пользовать местных педерастов. За новостями, новыми лицами и событиями незаметно мелькали дни.
В одну из октябрьских ночей 1975 года, когда я сидел на четвертом корпусе, а Гунара уже с нами не было, среди ночи нас разбудили громкие крики. Хорошо поставленный голос, артикулируя, кричал в окно одной из ближайших камер:
– Медсестра Гена мордожопая! Принеси мое лекарство, сучка позорная! Брежнева Леонида Ильинична! Принеси мое лекарство, сучка позорная!
Звонкий голос в ночной тишине разносился на всю тюрьму. Где-то я его уже слышал, но никак не мог вспомнить… Сбоку доносилось унылое ворчание уголовников:
– Не мешай спать, мать твою…
В ответ на басистый упрек, знакомый голос взвизгивал:
– Ах ты, падло, е… захотела, что ли? Ну, что заглохла, или х… подавилась?!
И снова в морозной тишине неведомо откуда звенели предоктябрьские «контрпризывы»:
– Пришельцы с Ближнего Востока! Вон со священной земли русской!
– Православные христиане! Совершим крестовый поход в город Иерусалим, освободим гроб господень от рук неверных и покараем жидов-христопродавцев за кровь государя-императора и его невинно убиенной семьи! Да здравствует вечно юный город Киев, столица священной Российской империи![199]
Гениально, не правда ли? Ночь, тишина, полумрак, все спят, и только этот неведомый голос наполняет мир мистической жутью. И вдруг я узнал его! Да это же мой «благородный друг», недавний сосед по карцеру, новый Ной! Так вот оно что! Да, этот дорвется до власти, – куда там Иди Амину. Даже Камбодже можно будет позавидовать! Такой действительно постарается сделать себя новым Ноем, а современная техника откроет перед ним широчайшие перспективы… Но вдруг донесся другой голос, далекий, срывающийся: – Умирает политзаключенный Гунар Роде! Ему требуется срочная операция!
Все сошлось и совпало в эту страшную ночь. Кричал Абанькин. Они сидели на третьем корпусе. У Гунара, который после операции страдал спайками, вдруг опять начались адские боли в животе. Опять заворот, к которому его организм имел повышенную склонность. С вечера ребята добивались срочной медицинской помощи, но их игнорировали. К концу ночи, когда возникла угроза смерти, а Гунар уже потерял сознание от боли, ребята выломали скамейку и вышибли ею, как тараном, кормушку. Только тогда Гунара унесли в больницу. Готовились к операции. Однако с помощью сифонной клизмы кишку удалось выправить. У Гунара даже изо рта хлынула вода. Он был спасен от смерти, но ребят, которые с таким невероятным трудом заставили «медиков» помочь ему, за «хулиганство» бросили в карцер. В их числе был и Володя Буковский.
Вскоре новый Ной проведал, что я сижу рядом. Как ни в чем не бывало, он прислал мне дружескую записочку, надеясь, что по голосу я его не узнал…
Позднее подобный случай произошел с Яшей Сусленским. Вернувшись из «трюма» (за очередную жалобу), он с восторгом рассказывал нам всем о человеке из соседнего карцера. Тот, по его рассказам, еще мальчишкой попал в уголовный лагерь за какую-то мелочь. Бригадир – стукач и подонок – на лесоповале не давал жизни мальцу, и тот решил погибнуть, но зарезать негодяя, загубившего не одну жизнь. Зеки пожалели паренька, отвели в сторону, а бригадира зарубили сами, за что пошли под расстрел. И тогда парня осенило: зачем беречь свою жалкую жизнь, которую и так на каждом шагу подстерегает опасность?! Зачем получать срок за какую-то ерунду?! Если уж жить, – то ради чести, если умирать, – тоже за нее! С тех пор он сражается с подлецами, не [200] щадя ни их, ни себя. Он – рыцарь справедливости, ее карающий меч, который сам обрек себя на вечное заключение. За каждое дело ему продлевают срок; он никогда не выйдет из лагерей и тюрем, но он счастлив, потому что знает, для чего живет.
– Вот это человек! – ораторствовал Яша.
Как-то при сеансе тайной связи с уголовниками, мы спросили, где сейчас сидит Яшин друг?
– А, людоед? – отреагировали зеки, услыхав знакомое имя.
– Какой еще людоед?
– Самый обыкновенный! Был в побеге, прихватил «кабанчика» – молодого такого, жирненького, аппетитного зека (тот и не догадывался, для чего ему такая честь оказана), и в лихую годину сожрал его, слопал за милую душу! Это все знают. Поймали, судили, большой срок намотали. А вы-то его откель знаете?
Бедный Яша побледнел и как воды в рот набрал… Было что-то символическое в его постыдных теперь восторгах. От этого веяло почему-то историей и современностью.
52. ЛЮДИ ИЗ КИТАЯ
За время моих владимирских одиссей повстречались мне два человека из Китая с поразительными судьбами. Один из них – уже упомянутый Юй Ши Линь, с которым мы тайно ели голубей. Подробности его истории я узнал позднее, и они заслуживают особого внимания.
Другой – Бабур Алихан Туре (Шакиров), узбек из Синцзяна, внук знаменитого Алихана Туре, вождя народного восстания тюркского населения Синцзяна за независимость в 1949 году. Его родственник, Сабри Денкташ Сатархан Оглы, видный турецкий дипломат, проживает в городе Адана. Поскольку в Синцзяне тюрки уже превратились в национальное меньшинство и никаких надежд не оставалось, группа молодых националистов-мусульман во главе с Шакировым бежала через границу из Китая в СССР, где, как они слышали (советское радио трубило об этом вовсю), – тюркские племена имеют свою государственность.
Действительность быстро развеяла их иллюзии. Под дымовой завесой демагогии, под театральными декорациями их взору предстал Туркестан, методически раздавливаемый сапогом коварного колонизатора.[201]
Группа начала тайную борьбу. Самой дерзкой акцией явилось разбрасывание листовок на стадионе «Пахтакор» при массовом стечении народа. Тучи прокламаций летели сверху на трибуны стадиона. Их ловил лес рук. В тексте не было ничего кровавого: это был призыв к населению сохранять свои обычаи и культуру, не поддаваться ассимиляции. Однако горячие узбеки восприняли событие по-своему. Они тут же, «не отходя от кассы», принялись бить русских, процент которых в Ташкенте и других тюркских центрах громаден. Побоище, паника, давка, вызванные на подмогу войска. Многих затоптала мечущаяся колоссальная толпа. Волнения и стычки выплеснулись на ташкентские улицы. Под шумок подняли голову уголовные и дикарские элементы, начались грабежи и изнасилования прямо в толпе, где человеческий голос тонул, подобно иголке в стоге сена. Голые женщины бегали по улицам, обезумев от стыда и страха. Их волосы развевались, как кометы, как черные знамена анархии. Такие последствия трудно было предугадать.
Позднее, почувствовав сжимающееся кольцо, Бабур решил ускользнуть за границу, но был пойман и за все вместе получил двенадцать лет, из которых отсидел уже две трети. Ходили слухи, что позднее срок ему снизили до восьми лет, но правдивость этой гипотезы даже сам Бабур не сумел выяснить. Чекисты врали каждый раз другое.
Бабур просил предать гласности следующее открытое обращение:
Президенту Заира Мобуту
«Уважаемый г-н Президент!
Я обращаюсь именно к Вам, так как верю, что у Вас достанет смелости возвысить свой голос против величайшего колонизатора современности, перед которым пресмыкаются другие «борцы». Я – сын Туркестана. Мой народ создал древнюю культуру. Бухара, Хорезм, Самарканд восхищают туристов со всех концов земли. Край великих поэтов Востока, фантастической архитектуры, страна всемирно известных ковров, колыбель прославленного полководца Тамерлана превращена Российской империей в запущенную колониальную окраину, сырьевой придаток текстильных центров России. Богатства наших земель, наше белое золото – хлопок – вот тот магнит, который притягивает к нам северного хищника.[202] Наша страна превращена в гигантский военный плацдарм империалистического натиска на Средний Восток, в сторону Индийского океана. Алчные пришельцы растоптали нашу независимость, но раньше не посягали, по крайней мере, на нашу душу.
Теперь все изменилось. Под маской лицемерной «заботы» о нашем «развитии» переменившие цвет флага колонизаторы истребили наше духовенство, составляющее костяк действительно национальной интеллигенции, как и всюду на мусульманском Востоке. Те реликты наших религиозных учреждений, которые оставлены для декорации и «внешних связей» – поставлены под абсолютный контроль КГБ. Мусульманских детей насильно и поголовно отдают в чужие школы, где в них вколачивают чуждые нашему народу идеи; учат (по примеру Павлика Морозова) доносить на собственных родителей. Молодых мусульман мобилизуют в советскую армию, где вынуждают есть свиное сало. Носители пантюрксистской идеи истреблялись физически. Наша восстановленная после революции независимость была раздавлена превосходящей физической силой интервентов, реставрирующих и расширяющих «единую и неделимую» империю. Вместо подлинной независимости оккупанты насадили так называемые «союзные республики», марионеточным «правительствам» которых отведена роль фигового листка. Их единственное реальное право – восхвалять нашего поработителя и по-бараньи слепо следовать мановению великодержавного бича. У нас отобрали арабский алфавит, хотя мы им пользовались больше тысячи лет, а взамен «даровали» русскую письменность, которая обедняет и искажает нашу восточную фонетику, превращает наш богатый язык в грубое провинциальное наречие. На искусственном политическом расколе единого туркестанского народа большевики не остановились. Каждое племя получило не только фиктивную «суверенность», но и новый язык. Под лозунгом «расцвета» языков была произведена настоящая диверсия против лингвистического единства нашей нации. Даже имя нашей страны – Туркестан – было у нас отобрано, чтобы мы забыли о своей национальной целостности.[203] Вместо этого мы получили безликое географическое название «Средняя Азия», как будто это Антарктида, территории которой никакой народ не может дать свое имя. Каждое племя было возведено в ранг отдельного народа, каждый диалект – в ранг самостоятельного языка. Пять разъединенных пальцев по-отдельности сломает и ребенок. Это лучше, чем иметь дело с монолитным кулаком. Русские начали искусственно, через контролируемые ими средства информации, образования и культуры, разъединять, разделять и разводить в разные стороны племенные диалекты, в частности, путем насыщения каждого из них иной иностранной терминологией. Одновременно все они разными путями приближались к русскому языку. В Мордовии я видел конечные результаты такой политики «расцвета языков». Когда еще не ассимилированные мордвины говорят между собой, – я не понимал ни слова. Но когда местное радио час в день говорило «по-мордовски», – я почему-то понимал абсолютно все. Даже такие слова, как «стройплощадка», произносились просто по-русски, как будто мордвины никогда домов не строили или жили в подвешенном состоянии. Немудрено, что мордовский народ тает на глазах. Внедрение чуждой письменности разорвало преемственность нашей национальной жизни; все ранее созданное люди уже не умеют прочесть. Национальное культурное достояние стало уделом узкой группы востоковедов, владеющих арабским алфавитом. Все национальные обычаи, традиции, семейные отношения беспощадно искореняются как «реакционные» и искусственно заменяются «передовыми», то есть русско-советскими. Молодые киргизы в городах уже стесняются говорить на родном языке. Тюркам разных племен привили настолько извращенные национальные понятия, что они несказанно удивляются, внезапно обнаружив, что без всякого переводчика понимают язык другого племени. Они и не подозревали о национальной общности этих племен! Как-то еще до ареста я встретился с министром культуры Узбекистана и предложил ему организовать молодежный кружок по изучению национального культурного наследия.[204] Тот ответил, что это неактуально. Тогда я в шутку предложил свои услуги в организации кружка по внедрению русского языка.
– Вот это именно то, что нам нужно! – тут же воскликнул министр.
Единая национальная культура искусственно разорвана на несколько кусочков – по племенам – и каждому племени достался мизерный ломтик. Нехватка «компенсируется» натиском с Севера, вытесняющим все национальное.
Тем, кто успокаивает себя все еще сильным национальным духом узбеков или туркменов, стоит взглянуть повнимательнее на Киргизию, а еще лучше – на Казахстан, потому что именно это – наше будущее в составе империи. В Казахстане колонизуются уже не только города, но и сельские местности. Казахстан, потерявший в период новой колонизации половину своего населения, теперь, под предлогом «освоения целины» (то есть исконных казахских пастбищ), сплошь заселен пришельцами, а сами казахи превращены в национальное меньшинство Казахстана. Брежнев недаром объявил Казахстан образцом решения национального вопроса в СССР. Вслед за казахами и киргизами наступит очередь узбеков. Уже сейчас в Ташкенте, столице Узбекистана, пришельцы преобладают. Узбеки в своем большинстве обречены на отсталость. Если в России семьи с одним-двумя детьми с трудом сводят концы с концами, то многодетным узбекам ничего не остается, как отказаться от квалифицированного труда за низкую советскую зарплату, а вместо этого устраиваться где-нибудь в ресторанах, магазинах, на складах, где можно с помощью «левых» доходов прокормить столько голодных ртов. В России работают и женщины, чего не может позволить себе многодетная узбечка. Как же глава семьи умудрится прокормить целую ораву на жалкую сторублевую зарплату?
Власти закрывают глаза на это: пусть узбеки лучше разлагаются в погоне за куском хлеба, чем начинают думать и бороться. Нас стараются превратить в деклассированную нацию, лишенную будущего. [205]
Туркестан остался классической колонией, сырьевым придатком метрополии. Как это еще совсем недавно было сплошь в афро-азиатском регионе, У НАС И СЕГОДНЯ КОЛОНИЗАТОРЫ С БЕЛОЙ КОЖЕЙ, ПРИШЕДШИЕ С СЕВЕРА, ПОРАБОЩАЮТ АЗИАТСКИЙ НАРОД ЖЕЛТОЙ РАСЫ, МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИИ, ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ.
И все же я приукрасил наше положение, заявив, что мы подвергаемся классической колонизации. Обычно колонизаторы приходят и уходят, а народ остается.
У нас – другое.
Мы живем под пятой колонизатора-народоубийцы, и потому не имеем времени ждать.
Помогите нашему национальному спасению!
Нам горько слышать глухое молчание наших братьев по вере, культуре, языку, страшное молчание наших соседей, пока еще пользующихся всеми благами государственной независимости. Ведь вслед за нами настанет их очередь! Даже о нечеловеческой доле изгнанного крымского народа говорит только далекий во всех отношениях Лондон или Вашигнтон, но не Анкара, не Тегеран, не Каир.
Я верю, что у Вас окажется больше отваги. МЫ – НЕОТДЕЛИМАЯ ЧАСТЬ АФРО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА. ВО ИМЯ АФРО-АЗИАТСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ Я ПРИЗЫВАЮ ВАС ПОСТАВИТЬ В ООН ВОПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНОМУ НАРОДУ ТУРКЕСТАНА.
Если Третий Мир не возвысит свой голос в нашу защиту, то афро-азиатская солидарность превратится в фикцию, под прикрытием которой осуществляется новое нашествие еще более опасного колонизатора.
1976 Бабур Алихан Туре (Шакиров)»
Владимирский Централ
В отличие от Бабура другой выходец из Китая, Юй Ши Линь, не занимался активной политической деятельность. Он парень простой, но неглупый.[206] Отец его при Гоминдане был начальником полиции общины Чжан Хуая Вы в городе Бан-Бу, провинция Ан-Хой, Центральный Китай. В 1949 году отцу пришлось бежать на Тайвань, и больше о нем ничего не известно. Имя отца – Юй Вэн Хуа. Детское имя Юй Ши Линя: Та-То. Мать умерла из-за голода, разразившегося в 1962 году. Семья скрывала правду об отце. Чтобы избежать репрессий, говорили, будто он утонул во время наводнения. Но все равно они чувствовали к себе особое отношение. Чтобы вырваться из порочного круга отчуждения и дискриминации, Юй Ши Линь решил покинуть родной город. Он записался добровольцем на переселение в пограничную зону. Так поступали многие из «вражеских семей», чтобы патриотическим поступком смыть с себя «социальное пятно». Брат, имя которого Юй Ши Чан, остался в городе Бан-Бу.
Юй Ши Линь оказался в пограничном Зимунае, работал пастухом в госхозе. Во время междоусобиц периода культурной революции его предупредили о предстоящем аресте. Не желая попасть в концлагерь и не будучи фанатиком, Юй Ши Линь предпочел убежать через границу. Он знал о советской практике выдачи беженцев Китаю. На его глазах через мост перевозили этих несчастных, которых китайские пограничники тут же жестоко избивали и увозили на расстрел. (Китайцы, кстати, русских беженцев не возвращают). Чтобы избежать роковой участи, Юй Ши Линь назвал себя коммунистом, подвергшимся преследованиям в Китае. Чекисты тут же взяли его в оборот, заставили тайно пробраться в Зимунай, чтобы освободить арестованного комиссара. Там Юй Ши Линь попал в засаду, чудом избежал смерти и удрал обратно.
Едва отвязавшись от чекистов, Юй Ши Линь поселился в Алма-Ате, работал на металлургическом заводе простым рабочим. Несколько лет прошло спокойно, если не считать случайной дорожной аварии, в которой у него был серьезно поврежден позвоночник. Чекисты с самого начала дали ему другое имя: Ма-Хун. Настоящее, мол, носить опасно.
КГБ среди китайских беженцев занимается массовой вербовкой своих агентов для обучения в шпионских школах и заброски в Китай. Желающие не валят валом, поэтому чекисты пачками сажают китайцев в тюрьму и там шантажируют. Условие простое: или становись нашим шпионом, или засадим как шпиона китайского. Так Юй Ши Линь ни с того ни с сего получил пять лет тюрьмы, плюс пять лет концлагерей, плюс пять лет ссылки. Итого – пятнадцать. Чжоу Чжун Чжан, помощник китайского маршала, бежавшего в СССР, усиленно уговаривал молодого земляка «для его же блага» стать советским шпионом.[207] Юй Ши Линь в Алма-Атинской тюрьме ответил ему:
– У тебя только кожа китайская!
– Не потерплю, сгною, заморю! – взревел от ярости квадратный человечек, метр на метр.
Этот карлик – большой человек у советской власти, вербовщик и резидент.
Я читал у Юй Ши Линя дичайший приговор военного трибунала Среднеазиатского округа, заверенный круглой печатью. Это настоящая бериевщина. Доносили на Юй Ши Линя уже завербованные китайцы, готовые выполнить волю КГБ. Каждый врал по-своему, называл его другим именем, не мог опознать, выдвигал совершенно другую версию, а чекисты, обрубая где надо, грубо сколачивали из этих кусков лжи «обвинения». Чего он «нашпионил» – так и не выяснилось, и тогда обвинили в том, что «м о г шпионить». За это он и получил отнюдь не предположительные пятнадцать лет.
Все «свидетели» «признавались», что вместе с ним учились в разных китайских разведшколах и были засланы на связь с ним. Тем не менее никого из них не судили вместе с Юй Ши Линем.
– Он майор китайской разведки! – испуганно врал о молодом пастухе один агент.
– Он – Чен Шуан Бао, сын заместителя Мао! – сочинял другой, но и эту чушь не постыдились вписать в приговор.
Единственная реальная «связь с заграницей» – это краткая переписка Юй Ши Линя с китайскоязычным отделом Австралийского радио. Юй Ши Линь услышал выступление ученого из Австралийского университета по имени Лю Чан Жен. Юй попросил его посодействовать розыску на Тайване своего отца. Ему ответил другой австралийский китаец, Ян Ше Фэн. Он писал, что требуется сообщить подробности об отце. Этого «преступления» Юй Ши Линь совершить уже не успел: его арестовали.
– Никакого Лю Чан Жена нет. И Австралийского радио тоже нет. Это все шпионские происки! – сказали Юй Ши Линю.
Юй Ши Линь рассказывал, что в первое время он не умел различать русских между собой: все одинаковые! Мы удивлялись. – Вот китайцы – все разные, их различить легче легкого, – уверял Юй. Самые разнообразные лица!
– А мне вот казалось, что это у евреев первенство по разнообразию! – невольно вырвалось у меня.
Интернациональный состав камеры со смехом обсудил эту проблему [208] и сделал вывод, что для бенгальских тигров самые разнообразные – бенгальские тигры.
Один из этажей алма-атинского КГБ всецело занимался китайцами, другой – немцами, в основном из города Иссык. Их тоже обвиняли в шпионаже – в отместку за участие в движении за репатриацию советских немцев. Сидели даже женщины. Возможно, там имел место и шантаж китайского типа: шпионы нужны Москве не только на Востоке. Люди шли потоком.
Китаец был парень свойский, неунывающий. Как-то, вспомнив Володю Афанасьева, он подшутил над Бабуром: повесил над спящим на ниточке соленую кильку с запиской во рту: «Я духа, я хочу умеру». Бабур привык спать странным образом: подушку он клал не под голову, а сверху. Иногда мент испуганно открывал кормушку: не отрубили ли недостающую голову?
– Что за дьяволочка, – смеялся китаец, – человек спит – голова нет!
После пуританского Китая он первое время страшно удивлялся рассейскому разврату. Проститутки навязываются даже по телефону, изобрели какой-то минет. В Китае это неслыханно. На работе у него запросто одалживали деньги. Возвращать не собирались. Как это так?
Даже в тюрьме надули. Он там работал, убирал, чистил, косил траву на тюремном дворе, – а на его счет, с которого все равно ни копейки нельзя взять наличными, не перечисляли ничего.
Мы помогли ему написать в Алма-Ату запрос. Вскоре пришел ответ, что в награду за свой труд Юй получал право дышать свежим воздухом во время работы.
Мы тут же помогли написать ему кучу жалоб, суть которых сводилась к следующему: пусть алма-атинская тюрьма сообщит, сколько мешков воздуха я им задолжал. Вышлю немедленно, а мне пусть взамен отдадут положенную долю зарплаты!
Это помогло, и какие-то гроши на лицевой счет Юя перевели.
Люди из Китая были как дуновение великого противоборства между Севером и Югом, которое предрек пророк Даниил.
53. МЕДИЦИНА В ТЮРЬМЕ
Китаец не может жить без риса. Пленные японцы после Второй мировой войны выстраивались перед шахтой и требовали от лагерного начальства рисового пайка.[209] Те, естественно, отказывались. Тогда первый десяток, один за другим, бросались в шахту.
– Будет рис?
– Нет!
Еще десяток исчезал в темном зеве. Только когда начальство начало понимать, что самоубийством покончат все японцы, их требование удовлетворили. Но у Юй Ши Линя не было батальона камикадзе, и над его просьбами заменить несъедобный для него хлебный паек рисовым только смеялись…
О Бутовой ходили не только страшные, но и курьезные истории. Как-то вели уголовника в карцер. Откуда ни возьмись, навстречу плывет, переваливаясь, сама Бутова. Уголовник, не долго думая, ринулся к ней и через одежду мертвой хваткой впился в волосатое место. Мент кинулся отдирать его от Бутовой, но та взвыла от боли и отогнала его, предпочитая выручать свои волосы путем сепаратных переговоров.
– Пусти, слышишь? – умоляла страшная Бутова. – В больницу положу!
– Врешь, мразь!
– Правда, дорогой! – и она ласково гладила его по плечу.
– Врешь, свиноматка!
Бутова стала клясться всеми клятвами, гладила уголовника все нежнее… Тот поверил и отпустил ее. Короткая тяжелая лапа Бутовой врезала его по морде, раскровавила, но потом все же повела в больничную камеру.
Но еще более важный критерий – санкция КГБ. Если чекист прикажет, зека не только не будут лечить, но постараются уморить под видом лечения. Однако кроме этих крайностей есть еще и обычная рутинная практика, достаточно жуткая.
Как-то я получил письмо от Иды Нудель. Она советовала для предотвращения кровотечения десен натирать их мелкой солью. Зубы укрепляются и не выпадают. Но Ида не знала о том, что соль в камерах тюрьмы запрещена. «Солевая норма полностью расходуется на приготовление пищи». Чтобы добыть соль, надо попасть в карцер: там выдают ее. Однако тут палка о двух концах.
Был среди нас зек Будулак-Шарыгин, человек очень характерной судьбы. Еще когда он был подростком, его вместе с семьей во время немецкой оккупации вывезли в Германию, как и многих других украинцев. После войны он попал в Англию, обосновался там, женился на [210] англичанке, имеет сына. Как-то фирма, в которой он работал, направила его своим представителем в Москву. Там чекисты начали обхаживать его, предлагали продать секреты фирмы, стать советским шпионом. Сулили золотые горы. Будулак отказался. Тогда его арестовали и начали шить дело об английском шпионаже. Улик не было никаких, однако стать советским шпионом он по-прежнему отказывался. Упорствует! Да еще требует освобождения, угрожая осложнениями с английской дипломатией.
– Английская королева нам за вас войну не объявит! – рассмеялся ему в лицо лично Андропов. Шпионаж не клеится – другое отыщем! Был бы человек, а «дело» найдется!
В конце концов остановились на «измене родине путем бегства за границу» (имеется в виду угон подростка в Германию). Будулак-Шарыгин получил свои десять лет. В лагерях встречается целый ряд таких «изменников».
У Будулака – последняя стадия гипертонии, давление скачет далеко за двести. Гипертоникам требуется совершенно обессоленная диета. Однако Будулак получал ту же посоленную пищу, что и все остальные, включая невыносимо соленую кильку. Сколько он ни обращался к врачам, сколько ни писал жалобы во все инстанции, ничего не помогало. В тюрьме нет обессоленного пайка, а позволить больному что-то вне «положенного» никто не имеет власти. Соленая пища медленно убивает гипертоника, его жизнь висит на волоске.
Яков Сусленский страдает тяжелой аритмией сердца. Во время приступов он лежал пластом, но медики не оказывали ему никакой помощи, ссылаясь на то, что, дескать, нельзя открывать дверь камеры. Для других целей почему-то можно…
Потом он изнемогал от страшных болей в плече в результате отложения солей. За ехидные, едкие жалобы на всякие безобразия и ужасы его систематически бросали в карцер. После двух залетов подряд по пятнадцать суток в самое холодное время года, он, 15 марта 1976 года был унесен в больницу в парализованном состоянии в результате кровоизлияния в мозг.
27 февраля того же года из камеры пониженного питания (за отказ от работы) был уведен в больницу Анатолий Здоровый с суставами, опухшими от голода и воспалением легких от холода. Летом в камерах обычно нестерпимая жара и духота, а зимой никто не снимает фуфаек.
Гродецкий и Мешенер еще раньше попали в больницу с опухолью [211] суставов. Совершенно жуткий вид имеет Паншин. Этот, приблизительно, тридцатисемилетний мужчина превратился в шестидесятилетнего старика. Скелет, обтянутый тонкой кожей. Согнутая, сутулая спина, впалый живот. Две язвы – желудка и двенадцатиперстной кишки. Авитаминоз. Цинга. Почти все зубы повыпадали. Голова облысела и шелушится. Ни снаружи, ни внутри нет ни одного здорового места. Однако диету дают ему изредка. Врач четвертого корпуса Замоцкая откровенно объяснила причину:
– Заключенный в тюрьме должен страдать!
Это говорит живому трупу женщина в белом халате…
Уголовник Кукин из Волгограда во Владимирской тюрьме вынужден держать длительную голодовку. Он лежал в больничной камере с тяжелой болезнью. Среди ночи начался приступ. Кукин стучал в дверь, звал врача. Подошла Бутова, сквозь железо бросила:
– Ты хулиган, лечить тебя будет надзорсостав!
После этих злобно процеженных слов она без всякого обследования выписала Кукина из больницы. Бедняге пришлось голодать, добиваясь лечения…
У Арье Хноха было очень плохо с желудком. Врачи врали, что это ерунда, гастрит. Потом открылось внутреннее кровотечение.
Это обычный подход: в лучшем случае, заглушают наиболее явные симптомы болезни, но в целом предоставляют ей медленно прогрессировать. По-настоящему обычно не лечат.
На последнем тюремном свидании мать Олеся Сергиенко увидела сына предельно истощенным, ослабевшим настолько, что он с трудом шептал слова…
О таких мелочах, как проблема некурящих зеков, которым вреден никотин, никто из врачей и вспоминать не хочет. И приходится бедняге с повышенным давлением дышать воздухом, где хоть топор вешай. Ядовитый махорочный дым коромыслом… Менты только недоумевают, когда кто-то просит завести камеру для некурящих. У них всегда один стандартный ответ:
– Здесь не санаторий!
Или:
– Не надо было сюда попадать!
Все вопросы сразу исчерпаны.
Когда зек умирает, труп родным не выдают. Закапывают на безымянном кладбище. Место могилы – тайна.[212]
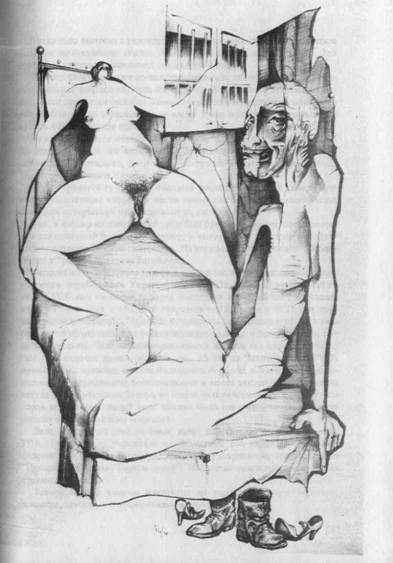
Когда тело выносят с территории лагеря, на всякий случай железным штырем прокалывают сердце, а ломиком проламывают голову. Это чтобы исключить возможности симуляции и побега.
Тяжело больные, даже послеоперационники, обычно лежат в закрытых камерах второго корпуса без сиделок, без помощи, без обслуживания. Если попадется сосед по камере желающий и способный помочь, то это счастье. Даже умирающий не имеет права получить от родных или купить обыкновенное яблоко.
Нужных лекарств обычно или нет, или у них истек срок годности. Ни медикаментов, ни витаминов с воли от родственников тюремная санчасть не принимает, даже если это грозит смертью заключенному. Такой приказ отдала Бутова.
И уж вершиной гуманизма является последний на моей памяти приказ МВД, согласно которому зеков прямо из больницы можно бросить в карцер, совершенно независимо от их состояния.
Так, в карцер на длительный срок был брошен в тяжелейшем состоянии заключенный Василь Федоренко, у которого от многомесячной голодовки начало заживо гнить тело. Из всех врачей им активно «интересовался» только психиатр Рогов.
Федоренко в это время голодал против несправедливого приговора и против порабощения Украины вообще. Он сидит не впервой. Жизни в СССР ему не было, и перед последней посадкой он стал писать властям заявления с просьбой отпустить его к сестре в ФРГ. Его даже не удостоили ответом. Тогда он, отчаявшись, сам пошел туда. Федоренко благополучно миновал чехословацкую границу и был задержан уже на той стороне. Чехи верноподданнически выдали его советским властям. Те, недолго думая, вдепили ему 15 лет за «измену родине». За время своих прежних сроков Федоренко побывал в Хмельницком монастыре, превращенном большевиками в место заключения. Монахинь оттуда давно выгнали. Теперь из зеков формировали спецбригаду, которая за дополнительный паек должна была извлекать трупы из затопленных и замурованных подвалов.
Дело в том, что этот застенок начал действовать в период борьбы УПА. Туда сажали украинцев из окрестных сел вместе с семьями и больше они не возвращались. На стенах сохранились надписи типа: «Прощай, Катерина! Береги детей». Из-за стен монастыря доносились страшные крики…
Теперь зеки с ужасом извлекали из подвала останки: мужские, женские, детские – с проломанными черепами.[213]
54. ПСИХОЦИД
Мне не раз доводилось слышать о применении чекистами (в первую очередь на Украине) химических веществ, активно воздействующих на психику и общее состояние организма. Эти вещества тайно подсыпаются в пищу.
Олесь Сергиенко. Был арестован в Киеве в 1972 г. и обвинен в украинском национализме. В частности, ему инкриминировалось соучастие в написании знаменитого труда «Интернационализм или русификация?» В тюрьме КГБ он почувствовал, после принятия пищи, крайне угнетенное состояние психики, расслабление воли, боль во всем теле.
Он был постоянно в таком состоянии, как будто разбит тяжелой, страшной болезнью.
Когда он приехал в лагерь, я увидел на его подбородке сбоку большое пятно совершенно облысевшей кожи. Он пояснил, что раньше этого не было, что это результат применения медикаментозных средств. Можно не сомневаться, что и внутри организма остались не менее страшные следы. Сергиенко постоянно болеет. Особенно ухудшилось его состояние во Владимирском Централе в условиях прямого голода.
Анатолий Здоровый.
– Да лучше бы ты человека убил! – кричал Здоровому следователь. Арестован в Харькове в 1972 или 73 г. и обвинен в украинском национализме. Ученый. К нему неоднократно применялись различные химические вещества. Здоровый – человек ярко выраженного флегматичного темперамента, и ему легко было отметить необычную экзальтированность своих состояний. Вернувшись со следствия, он обнаружил на масле, присланном с воли, странные зеленоватые полосы. Не придал должного значения, поел и почувствовал сильнейшее действие препарата на психику.
Здоровый уверен, что в распоряжении КГБ имеется до тридцати различных медикаментозных средств, обеспечивающих навязывание всей гаммы состояний: от эйфории до неудержимого побуждения плакать, как ребенок. Ясно ощущалась стопроцентная искусственность этих состояний, но бороться с ними было трудно. К разведчикам эти средства применяются в открытую, без подсыпания в пищу.[214]
Владимир Иванович Константиновский, арестованный 30/Х-1973 г. по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой, после жестоких избиений испытал на себе действие разных химических уколов с последствиями трех типов:
1) Адская головная боль. Ощущение, будто мозг пронзают раскаленными иглами, а голову пилят.
2) Сильная ломота во всех суставах.
3) Слабость, апатия, бессонница.
Уколы откровенно применялись в качестве пытки.
Роман Васильевич Гайдук арестован 23 марта 1974 г. за распространение украинского самиздата. Имеет родственников в США и Канаде (Торонто). Его двоюродную сестру, преподавательницу колледжа в Америке, зовут Лоренция Пшевара. Она приезжала до ареста в гости к Гайдуку. Под следствием сидел в Ивано-Франковской тюрьме КГБ. Следователь – Андрусив.
– Ничего не выйдет! – сразу отрезал Гайдук следователю.
– Выйдет! Не таких ломали!
– Ничего, у меня толстая шкура.
– Лопнет!
Но ни следствие, ни «наседки» в камерах не могли сбить Гайдука с его твердой позиции. И тогда вскоре он стал замечать за собой что-то неладное. Сильно болела икра правой ноги. На следствии требовались большие усилия над собой, чтобы не отвечать на поставленные вопросы. В камере Гайдук посмотрел в зеркальце и увидел, что его зрачки сильно расширены. Никогда раньше такого не было. Сосед по камере, «наседка», вдруг спросил: «У меня болит правая икра, а у тебя?» – «У меня – нет», – ответил Гайдук. Он понял, что подвергся воздействию растормаживающего препарата. Стал присматриваться к поведению соседа. Тот из тюремного супа съедал только картошку, а всю жидкость выливал. Гайдук стал делать так же. Зрачки (и все остальное) после этого начали приходить в нормальное состояние.
Двухмесячная санкция на арест истекла, а следствие никак не продвинулось. Приехавшему из Киева эксперту Гайдук давал такие умелые ответы, что тот никак не мог доказать его вины в подрыве советской власти. Статья не клеилась. Эксперт пообещал Гайдуку, что его скоро освободят. КГБ взвилось на дыбы. Как, освободить арестованного? Просто так выпустить из ЧК?! Да кто же нас тогда будет бояться? [215]
Нет, нет, ни за что! Немедленно были приняты радикальные меры. На конец мая назначили психиатрическую экспертизу. 22 мая сменили камерный состав и вместо прежнего сотрудника КГБ подсадили к Гайдуку двух новых (позднее к ним присоединился третий). В тот же день Гайдуку вручили продуктовую передачу из дома. Назавтра он положил две ложки сахара оттуда в свой чай. Результат не заставил себя ждать. Это был настоящий распад психики. Все поплыло. Гайдуку казалось, что он не то куда-то летит, не то лезет на стенку. Он едва сумел лечь на кровать, впился пальцами в ее прутья, изо всех сил пытаясь удержаться от окончательного провала в ирреальность.
Соседи-агенты только этого и ждали. С радостным смехом схватили они свои кружки и ложки, стали стучать ими, приговаривая: «Погнал на Днипро!» Лишь позже Гайдук понял смысл этих слов, но в тот момент ему было не до этого. Каждый звук падал на его голову, как удар молота, пронзал мозг нестерпимой болью. Агенты хорошо знали, что делали… Что же спасло этого человека? Только его необычайная физическая и духовная сила. Он будто выкован из цельного куска железа. Наутро Гайдук с огромным трудом вспомнил, как его зовут. Он сосредоточил все свои силы, чтобы противостоять безумию. Те граммы сахара, которые ему выдавала тюрьма, тоже оказались с «примесью». После них Гайдук, закрывая глаза, видел яркозеленую полосу с неровными краями… Он решился не есть больше ничего, кроме хлеба и воды из крана. Один из агентов со злобой шептал другому: «Надо посадить его в камеру без крана…» Гайдук слышал, но делал вид, что ничего не понимает. На прогулке агенты держались кучкой. Один из них тихо наставлял других: «У следствия нет достаточного материала для суда, поэтомунадо сплавить его на Днепро».
Гайдук понял, что речь идет о страшной Днепропетровской психбольнице… Все – камерные агенты, тюремное начальство, КГБ – активно давили на него, чтобы он ел все, что ему приносят. Гайдук предложил агентам съесть его передачу. Те со смехом отказались. «Ешь сам», – сказали они. В перерывах между допросами чекисты давали ему жирный обед, от которого исходил едва заметный запах аптеки… Гайдук тайно выливал его в парашу.
– Ну как, понравился борщ? – настороженно задавал следователь первый вопрос.
– Да, очень!
– Ну, теперь дело пойдет! – обрадовался Андрусив.[216]
В конце допроса он обескураженно качал головой: «Вы тяжелый человек…» Его расспрашивали об именах и адресах родственников, их биографических данных. Все это было прекрасно известно – просто проверяли степень разрушения памяти. Гайдук, напрягаясь, вспоминал все. В тюремных коридорах, во дворе, у входа за ним наблюдали одетые в гражданское психиатры, различными выходками проверяя его реакцию на внезапные раздражители. Камерные агенты тоже были подключены к проверкам. Недюжинное природное психическое здоровье Гайдука победило. Его признали нормальным – только благодаря стойкому отказу от «обработанной» пищи. Было и другое давление – смирительной рубашкой. В конце следствия новая «наседка» стал затевать скандалы. Как ни уклонялся от них Гайдук, прибежали менты, скрутили его, потащили в подвал и одели в спецрубашку, ткань которой при обливании водой туго, до обморока, стягивает грудь человека, останавливает дыхание. И все-таки он выстоял.
– Ну что, лопнула моя шкура? – спросил Гайдук у следователя Андрусива.
Тот опустил голову и промолчал.
Свои пять лет срока Гайдук воспринял как победу, больше того, как спасение. Он прошел через все издевательские концлагеря № 36, был отправлен во Владимирский Централ за переход на статус политзаключенного явочным порядком (отказ от подневольного труда и выполнения унизительных требований). Но все это он считал пустяком по сравнению с тем психоцидом, который чудом выдержал под следствием. И невольно возникает вопрос: а сколькие н е выдержали и потому остались безвестными? Сколько в советских психбольницах людей с искусственно разрушенной психикой?
О политзаключенном Приходько мне известно очень мало. Знаю, что он офицер. Из уральских концлагерей за активное участие в сопротивлении был отправлен во Владимир. В моей камере было получено сообщение от него о его пребывании в спецпсихбольнице им. Сербского. Приходько сообщил, что с осени 1973 г. в этой психбольнице практикуется подсыпание в пищу специального вещества. В результате Приходько заметил, что перестает что-либо понимать в тех книгах, которые читает. Кроме того, появилась необычная вялость, сонливость и – чисто физиологический симптом – пропали поллюции, несмотря на улучшенное питание.[217]
Приходько решил бороться с этим состоянием. Он специально выбрал самую трудную книгу – Гегеля – и стал, напрягая всю свою волю, вникать в смысл каждого предложения. Постепенно он начал понимать читаемое, но ценой жестоких головных болей, которые время от времени испытывает и поныне. Я поразился сходству описываемых симптомов с тем, что мне довелось испытать самому осенью 1972 года во внутренней тюрьме концлагеря № 36.
В камере нас было трое: я, Березин и Григорьев. Нас постоянно смущали выдаваемые на обед щи: было в них что-то не то – неприятный привкус, обесцвеченность. Капуста была какая-то склизкая, разъеденная чем-то химическим. Все трое одновременно стали наблюдать за собой одни и те же симптомы, описанные Приходько. В конце концов решились сказать об этом друг другу, поразились тождественности и поняли, что в щи нам что-то подсыпают. Я уже до этого, несмотря на голод, перестал их есть – не мог. Мы подняли шум, сообщили в лагерь. Большевики перепугались, наши жалобы никуда не отправили, щи мигом заменили чем-то съедобным. По их панической реакции было ясно, что рыльце в пушку. Если бы их дело увенчалось успехом, я мог бы появиться в зоне с бессмысленной физиономией, и даже друзья ничего бы не заподозрили: в камере, мол, тихо помешался.
Здоровый однажды был вызван в кабинет внутренней тюрьмы 36-го лагеря для обследования. Вошел лекарь Петров (как позже выяснилось, резидент КГБ) и вдруг взгляд его упал на тумбочку, где стоял стакан с розоватой жидкостью. «Почему здесь стакан?!» – с истерической нервозностью вскрикнул Петров. Два особо доверенных мента – прапорщики Махнутин и Ротенко – совсем растерялись. Петров бросился к стакану, заслоняя его своим телом, и вынес из кабинета… Здоровый понял, что это и есть подливаемый в пищу раствор.
Официальное требование Валентина Мороза во время его длительной владимирской голодовки состояло в том, что нам не место в этой тюрьме. Он требовал отправить его в лагерь. Мороз не мог официально поднять вопрос о психоциде, иначе его бы немедленно отправили в психбольницу. Тюремный психиатр Рогов и так все время копал под него. Но нам Мороз сообщил, что отказался от тюремной пищи в первую очередь из-за подсыпаемых средств, направленных на разрушение психики.
– Я бы пырнул тебе кое-что в вену, чтобы вывести из этого состояния, – сердобольно говорил Рогов.[218] Мороз предпочел голодовку. Он сидел один, с огромным трудом избавившись от общества полуненормальных полузавербованных уголовников, способных на все. Но именно одиночное заключение облегчало психоцид через пищу.
Владимир Балахонов, дипломат-невозвращенец, под следствием в психбольницах испытал на себе все ужасы психоцида. Еще долгое время в лагере он боялся что-либо есть.
Иосиф Бирнбаум, сионист, в начале 1975 года был вызван для допроса в Черновицкое КГБ, где его напоили кефиром… После этого Иосифа нашли на улице. Он был в эпилепсии. Никогда ничего подобного за ним не наблюдалось. Долго не мог оправиться. Ныне живет в Израиле.
Владимир Красняк стал объектом тюремных экспериментов. Его объявили невменяемым. Гена Бутов (сын нашей Эльзы Кох) бил связанного Красняка деревянным молотком по пяткам, требуя его согласия на очередные инъекции. От одних уколов Красняк впадал в прострацию, от других – лез на стены и грыз решетки.
55. ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТРАЛ 0—0
Иногда поражаешься, как многие не замечают вопиющих противоречий советской пропаганды. На Западе – сплошные бедствия, безработица, а в Советском Союзе – процветание и… нехватка рабочей силы. Так почему бы не помочь «братьям по классу», не пригласить их куда-нибудь на строительство БАМа? И государству польза, и западные безработные наглядно убедятся в преимуществах социализма! Но в том-то и дело, что после этих реальных, а не газетных «преимуществ» гастарбайтеры вернутся на Запад такими антикоммунистами, каких там давно не видывали. И Кремль при всей своей демагогии прекрасно это понимает.
Московская империя – царство такой невероятной патологии, что это просто в голову не может уложиться нормальному западному человеку. Как рассказать людям благополучного мира про реальность, подобную бреду? И Москва довольно удачно прикрывает невероятную [219] правду неправдоподобно наглой ложью.
Даже нашествие саранчи на Центральную Европу далеко не всем открыло глаза. Мне достаточно много рассказывали о том, что творили «освободители» на берегу Эльбы. Не знаю, остался ли там хоть один неограбленный и хоть одна неизнасилованная. Был случай, что даже дочь видного немецкого коммуниста была схвачена в собственном садике и изнасилована танковым экипажем. Захваченные города отдавались на поток и разграбление. Целые эшелоны награбленного добра официально вывозились на Восток. В гардеробах бывших фронтовиков до сих пор висят немецкие тряпки, а на советских заводах все еще встречаются выносливые старые немецкие станки.
Участники пира победителей рассказывали, что затерроризированные немки, едва услышав русскую речь, уже предупредительно начинали раздеваться, даже если пришедший солдат имел в виду совсем другое.
Особенно гордились те, кому досталась волнующая миссия «освобождать» какой-нибудь женский монастырь. Уж они торопились избавить монахинь от всех предрассудков. Одного нынешнего зека-уголовника монахини за это чуть было не кастрировали. Но даже после всего находились на Западе коммунисты-фанатики, желающие переселиться в советский рай. Одного из них – француза – Буковский повстречал в психушке. Тот, видите ли, с первой же получки громко заговорил о забастовке… В психушке он бодро выпрашивал добавку:
– Каша, каша! Люблю каша!
О другом мне рассказывали литовцы. Тот, получив зарплату, пошел по магазинам. Весь день он записывал цены и делал в блокноте какие-то подсчеты. Потом вернулся домой и втихомолку повесился.
Таких историй масса, и потому лучшее средство излечиться от коммунистической идеологии – попробовать эту жизнь на правах советского гражданина, а не почетного гостя. Прежде, чем предлагать свое блюдо другим, повар обязан продегустировать его сам.
Отчаявшиеся, гибнущие мотыльки с Запада откушали только самый легкий хлеб «общего режима». Они не прошли через более глубокие круги ада. Никто не знает, где его последний круг, но рассказ зека-уголовника по имени Рахман проливает слабый свет на краешек этой бездны.
Дело было в первой половине пятидесятых годов. Рахман сидел в Казанской тюрьме, затем – в уголовных лагерях.[220] Переполненные камеры, ужасные условия, слухи и ожидания. Потом – страшная лагерная эксплуатация, отсутствие медицинской помощи, произвол и зверства режима. Но ужаснее всего был голод. Рахман начал заводить с надежными ребятами разговоры о забастовке. И она вскоре вспыхнула – на удивление дружно. Менты растерялись. Приехал прокурор. В столовой появилась нормальная пища. Многих взяли в санчасть. Казалось, полная победа. Потом вдруг вырвали на этап всех активистов.
– Куда нас? Наверное, на суд? – недоумевали они.
Воронок повез их на какой-то аэродром. Зеков погрузили в самолет. Это еще что? Никто ничего не понимал. Под крылом проплывали пустынные районы Татарии.
Самолет пошел на посадку. Какая-то Богом забытая посадочная площадка. Опять воронок, все в наручниках. Остановка. Лязг железа. Воронок куда-то въезжает. Судя по эху, закрытое помещение. Опять лязг; акустика, как в каком-то гараже. Рахмана выводят. Действительно, странное закрытое помещение. Подводят к люку в полу. На нем белой краской «0—0». (Обсуждая рассказ в своей камере, мы сделали вывод, что «0—0» – это в советских условных обозначениях переводится как «совершенно секретно».) Люк, обитый мягким материалом, беззвучно открывается. Менты в синих халатах и мягких туфлях ведут его вниз по лестнице. Коридор, искусственное освещение. По обе стороны – ряды закрытых люков с теми же таинственными двумя нулями. Все абсолютно беззвучно. Куда дальше? Опять люк в полу. Опять лестница. Еще один этаж вниз. Точно такой же коридор, такие же беззвучно расхаживающие фигуры в синих халатах и мягких туфлях. Еще один этаж – опять вниз. Сколько этих одинаковых безликих подземных этажей? Как глубоко он уже под землей? Наконец, перед ним беззвучно открывается один из стенных люков очередного коридора. Он входит. Люк беззвучно захлопывается за его спиной. Узкая камера, длиной чуть больше человеческого роста. Посредине – узкий невысокий выступ, крытый деревом. Лежанка, значит. Сбоку – неглубокая ложбинка в бетоне. Для оправки? Но нет никакого стока… Больше в камере нет ничего. Карцер, что ли? Пришлось помочиться в открытую выемку в бетоне. Больше некуда. Стал стучать в круглую дверцу люка, но звука почти не было. Кричал во весь голос. Устал. Неожиданно дверца люка оказалась открытой.
– В чем дело? – спросила фигура в синем халате.
– Мне надо помыться… Я голоден… [221]
– У нас не моются! – и люк беззвучно закрылся.
Снова один. Рахман лег на узкий помост, рядом с собственной мочой. Стены были сделаны из какого-то особого материала, гладкого, скользкого, твердого. Их нельзя было ни поцарапать, ни как-то взобраться повыше. Он не знал, что это за вещество. Один и тот же слабый искусственный свет с потолка и оттуда же, через отдушину, в камеру поступает непрерывный поток воздуха: то холодного, то горячего – попеременно, с неумолимой последовательностью. Рахман был в ужасе. Когда-то он краем уха слышал от верующих зеков (сектантов) о жутком подземном Чистопольском централе «два нуля», но это звучало, как сказка. Никто оттуда не возвращается… Что теперь будет с ним? Будут пробовать на нем бактеориологическое оружие? Испытывать боевые химические вещества? Что означают эти страшные белые нули на круглых бордовых люках? Почему тут все беззвучно? Ответа не было. Утомление погрузило его в сон. Он не знал, сколько времени прошло, утро уже или вечер. Очнувшись, увидел синюю фигуру в открытом люке. Встал. Пожилой человек в синем с глубоко запавшими глазами и щеками держался начальственно. По бокам двое, видимо, рядовых надзирателей.
– Какие будут вопросы? – строго и резко спросил центральный.
– За что меня посадили в этот карцер? Где я нахожусь? Мне никто не объявлял о наказании! В чем я виновен?
Недоумение сменилось на лице пожилого слабой улыбкой понимающего сожаления.
– Ты сидишь здесь за то, что тебя сюда привезли! Раз в день получаешь еду. Раз в день можешь попросить воду. Для этого надо подойти к люку и подать голос. Оправляться – вон туда (указал на ложбинку). Раз в день принесут сосуд и черпак – должен вычерпать. Это все. Через пятнадцать или тридцать дней – в зависимости от поведения – можешь быть переведен в более благоприятные условия. Учти, это в твоих интересах. Ты сидишь здесь за то, что тебя сюда привезли. Пойми это, – завершил он подчеркнуто. Люк закрылся.
Принесли ломоть черного хлеба. Это на весь день. Голодный Рахман тут же съел его и не насытился. Лег на свое место. Вытянувшись, он занимал почти всю камеру и в длину, и в ширину. Сверху все так же дул ветерок, то горячий, то холодный.
Рахман твердо решил не сдаваться, не покоряться страшной судьбе. Впервые в жизни он объявил голодовку с твердым намерением лучше [222] умереть от этого, чем стать жертвой каких-то тайных экспериментов или сойти с ума в этом молчаливом одиночестве. Несколько суток он лежал неподвижно, ни на что не обращая внимания, не принимая пищу. Дни он различал только по открывающемуся и тут же вновь беззвучно закрывающемуся люку. Недели через две пришел врач в белом халате. Его начали кормить искусственно.
– Все равно ничего не поможет. Это бессмысленно, – равнодушно бросил врач. Рахман продолжал голодовку. Однажды, как сон, над ним склонилось лицо седого надзирателя в синем халате.
– Послушай меня, – раздался старческий голос, – я тут уже десятки лет служу, поседел на этой работе, но никто еще на моей памяти не вышел отсюда живым. Ты когда-нибудь слышал про Чистопольский централ «два нуля»?!
И опять закрытый люк; только последняя таинственная, грозная фраза будто все еще висит в воздухе.
Изредка его на специальной тележке вывозили в баню. Немые рабы – видимо, тоже зеки – молча переворачивали его под душем. Потом тележка возвращалась к тому же люку. Рахмана клали на его место, люк захлопывался без звука. Около ста восьмидесяти дней продолжалась голодовка. И Рахман победил. Его, полумертвого, увезли из подземной тюрьмы в Казанскую психушку. Начался новый круг ада: скитания по психушкам. Через годы и годы вернулся Рахман «на круги своя», в «обычные» места заключения. Срок у него, по сути, бесконечный. На этапах, в камерах подозрительные личности (из продавшихся зеков) то и дело нападают на него, пытаются убить. Но всякий раз его спасает какое-то чудо. На этапе во Владимир ему удалось выбить нож у напавшего врага и всадить в его тело. Срок наматывают снова и снова, здесь, в камерах, ему создают такую же обстановку. Часто бросают в карцеры. Он тяжело болен и знает, что долго не проживет.
Он не хотел уносить правду в могилу, и потому при случае пересказал о подземной тюрьме встретившемуся политическому.[223]
56. БОЖЕСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Если смотреть только на сплошные ужасы, которые мне довелось пережить или слышать, то жизнь утрачивает смысл.
Однако я выжил, прошел через все и осуществил свою мечту соединения с Родиной.
Выдержать помогла мне в первую очередь религия. Для меня она – вопрос даже не веры, а знания. В бездне открылись мне небеса, и я узнал их не умом, а всем существом своим. Религия веры и ума, к которой я пришел еще до ареста, сменилась религией знания, которую невозможно отобрать, как нельзя переубедить в пережитом. Мысль можно опровергнуть другой мыслью. Пережитое неопровержимо. Я узнал абсолютное и бесконечное, изначальное добро Бога, которое пронизывает даже ад. Но откуда ад? Откуда зло? Откуда боль, смрад, немощи? Для чего вообще совершенному существу создавать что-то, кроме Единого?
Тот, кто близко знаком с процессом творчества, знает, что это своеобразная болезнь, которая терзает человека, пока не выплеснется наружу.
Творение – это воплощение Божественной болезни. Материализация сотворенного – это отделение больного куска от здоровой целостности. Начала здоровья и болезни духовны. Только их смесь материальна. Это горячечный сгусток борьбы переплетенных начал. Борьба имеет протяженность во времени, она прерывиста и конечна. Все, что уходит из материального мира, уходит в виде уже отделенных друг от друга начал. Трепетом этой борьбы объят каждый атом, но эпицентр ее – человек. Именно он, подобие Божье, – величайшее вместилище Божественной болезни.
В конце концов здоровая субстанция выделяется и возвращается к Божеству. Она оформляется и отдаляется от «к л и п о т» – сухой и бесплодной шелухи бытия, от мертвой занозы, постепенно исторгаемой из живого выздоравливающего тела.
Я знаю, как хорошо ТАМ, но ведаю также, что самовольный уход туда – дезертирство. Самая наполненная жизнь та, которая воплощает наибольшую тягу к здоровью, преодолевающую тяжелейший груз болезни. Этот мир – боевая страда, где почти нет передышки. Победа – [224] только ТАМ. Надо трудиться всю неделю жизни своей, чтобы ТАМ вкусить блаженную Субботу святого и заслуженного отдыха, насладиться покоем Победы.
Земная Суббота – символ и предвкушение. Слова «Бог святой» из ежедневной молитвы в субботу трансформируются в «Царь святой». ТАМ, где нас ждет вечная Суббота, Он будет нашим реальным, близким Царем, а не далеким и недоступным Богом.
Моему народу дано было понести на своих плечах всю несправедливость мира, впитывать и перебарывать в себе все мировые болезни. В этом его избранность. Он – полюс жизни и памяти. Он – стержень мировой истории, свидетель всех сменяющих друг друга цивилизаций, вер, культур, обычаев и языков. В зыбком и переменчивом океане он один по сути своей неизменен, как Избравший его. Он вечно умирает, и вечно переживает своих убийц. Это эпицентр мотивации, без которой жизнь пуста.
Этот народ больше всех имеет основания для ненависти, но наименее склонен к ней. Из навязанных Израилю кровавых войн его солдаты возвращаются не лютыми тиграми, а… вегетарианцами! Если бы у других была такая же реакция на кровь, войнам пришел бы конец. И мессианская идея евреев в ее материальном аспекте означает именно прекращение войн. Отдельный выродок рода человеческого, убивающий неповинного брата своего, всегда будет встречаться, но когда целые народы организованно убивают друг друга – это позор человечества, который надлежит преодолеть. Каждый народ должен иметь свое место под солнцем. Каждому народу достаточно одной страны. Если же он претендует на большее, то пусть полагается только на голую силу и не берет себе в союзники право или мораль. Прав будет тот, кто выгонит захватчика туда, откуда он пришел.
Нет за тобой ни единого права, которого ты не признаешь за мной. По законам Торы лжесвидетелю положено то самое наказание, под которое он хотел подвести обвиняемого.
Всю историю нашим главным врагом оказывались мировые империи, претендовавшие на мировое господство. Власть силы неизбежно сталкивалась с Властью Правды. Как ни старались отдельные евреи приспособить свои дела и взгляды к имперскому началу, народ по глубинной своей сути оставался началом противоположным, и империи в конце концов ощущали это и начинали с ним борьбу не на живот, а на смерть.[225]
Империи еще не дошли до духовного предела. Когда-то плотоядные арийские общины, обосновавшиеся в Индии, породили идею общины – Брахмана, общины-бога, которому все вокруг приносится в жертву. Позже, с распадом общин, Брахман поднялся на абстрактно-философскую высоту. Новые духовные веяния говорят о том, что он может снова вернуться и воплотиться – на этот раз в виде Империи-Брахмана.
Как бы коммунизм не оказался лишь переходным этапом, мостом к этой новой, еще более страшной цивилизации, цивилизации всеядного забвения.
Мы – единственный в истории народ, который возвратился на свою историческую землю. Небывалое чудо нашей истории – полное рассеяние между всеми народами и последующее возвращение в свою землю – четко и недвусмысленно предсказано в древней Торе. Предсказано с такими яркими подробностями, что и сейчас, постфактум, не опишешь лучше.
Чудо нашей истории вершилось не втайне, не считанные люди видели его, не с чьих-то сомнительных пересказов о нем известно. Оно тысячелетиями разворачивается перед глазами человечества, открыто являя миру руку Господню.
57. СКИФИЯ – РУСЬ – УКРАИНА
Как-то в Киеве Анатолий Здоровый увидел на стене надпись от руки по-русски: «Бей жидов, хохлов и русинов – спасай Россию!» (Русины – более древнее название украинцев, все еще распространенное на Западной Украине.)
Большевикам импонирует мрачная, едкая и разрушительная сила Байрона. Они не запрещают его поэзию.
Только одна поэма в таком загоне, что в СССР даже литературоведы не знают о ее существовании. Это поэма Байрона «Мазепа». Большевики полностью унаследовали от царизма оценку этого исторического деятеля, хотя даже у придворного забияки и шовиниста Пушкина хватило объективности вложить в уста Мазепы слова:
«Но независимой державой
Украине быть уже пора,
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра!»
[226]
Деспот и палач, царь Петр I оказался русским революционерам ближе и дороже, чем повстанец Мазепа. Это лучшая иллюстрация к вопросу о форме и содержании современного государства Московского. Нерусский патриотизм в СССР под запретом. Все обязаны любить только Россию, свою же землю – лишь как приложение к России. Необычно высокий процент украинцев – даже ассимилированных – среди политзеков объясняется также и их природным свободомыслием. Издревле существовал великий раскол на восточный и западный пути развития. На Западе в центре внимания и борьбы была личность, на Востоке – обезличенная общность. Символом истории Запада стал рыцарь, символом Востока – чиновник, раб и деспот в одном лице, в зависимости от ранга человека, с которым он сталкивается. Запад развивал индивидуума, Восток – всепоглощающую власть.
Восточная граница рыцарства проходила через днепровские пороги и сакли Кавказа.
Дальше начинался мир Чингис-Хана, который теперь силой продвинулся до самой Эльбы…
Теория «колыбели трех братских народов» была изобретена и внедрена во времена Екатерины II, чтобы идеологически обосновать аннексию и закрепощение Украины, а заодно «отыскать» свой несуществующий корень. На самом деле русские – не славянский, а славянизированный угро-финский народ, некогда колонизованный немногочисленными пришельцами с Украины-Руси. Об этом говорит даже само имя народа, которое всегда отвечает на вопрос «кто?» – (англичанин, немец, поляк), и лишь в одном исключительном случае – на вопрос «чей?» – (русский). Украинцы, кстати, еще и поныне называют себя «русины» (опять-таки «кто?»). Об этом же говорит и ситуация с народным языком. Для русского мужика обычное дело произнести фразу наподобие этой:
«Клади полотенец под голова». Он выражается на своем языке, как плохо ассимилированный иностранец. В отличие от литературного, бытовой язык русских народных масс ущербен, безграмотен и беден до чрезвычайности, а нехватка лексикона компенсируется всеобъясняющим матом, причем смысл произнесенной матерщинной тарабарщины зависит исключительно от тона. Но если вам посчастливится попасть в незатронутое русификацией украинское село, то любой малограмотный крестьянин удивит вас не скудостью, а богатством и красотой [227] своей речи. На Украине писатель в затруднительном случае может с большим успехом проконсультироваться с сельским дядькой, чем с томами словарей. Мицкевич, не будучи украинцем, признал украинский самым красивым и мелодичным из славянских языков, хотя и неразработанным как язык литературы. Разрабатывать этот кладезь до сих пор не дают… А какой там чарующий фольклор! Это, конечно, не вульгарные частушки. Самая умная из частушек такова: «Сидит Ленин на лугу, жует конскую ногу. Ах, какая гадина – красная говядина!» Чаще всего они похабные, с матерком.
Состояние народной речи – это отражение народного быта, неряшливого, голого и грязного в одном случае; прибранного, вышитого и расцвеченного в другом. Это два способа видения мира. Взгляд умелого и рачительного хозяина с одной стороны, и подход босяка, не знающего, кто он, что он и чего хочет, – с другой.
Есть еще одна тщательно заглушённая историческая тема: Скифия. Если не считать Геродота, о ней почти нет сведений. В СССР стоянки неандертальцев раскапывают и популяризуют с гораздо большим энтузиазмом, чем великую и славную цивилизацию скифов… Более того, ее всячески стараются приуменьшить, сузить ареал ее распространения до одного только северного Причерноморья, а самих скифов объявить полудикими кочевниками.
Но достаточно заглянуть в Геродота, чтобы убедиться в обратном. Скифы-кочевники действительно жили на юге Украины, но не они были ядром народа. Скифы-земледельцы, «царские скифы», цивилизованная и главенствующая часть нации жила гораздо севернее, вверх по течению Днепра. Геродотово описание указывает где-то на район Киева, если считать дни пути вверх по реке. Границы Скифии простирались от Дуная до Дона. Еще одно странное совпадение… Все великие реки украинской равнины носят имена, проистекающие от одного и того же корня: Дунай, Днестр, Днепр, Дон… Опять случайность?
Курганы… Их насыпали скифы над могилами своих великих и славных. На той же территории в точности то же самое делали украинские казаки спустя две тысячи лет, даже больше. Не есть ли это след древнейшего обычая? Ведь именно по типу захоронений различают разные исторические культуры, так как в подвижном море национальной жизни похоронные обычаи – самые консервативные.
Мне рассказывали о каменных скифских бабах с типичными украинскими орнаментами, а также о том, что такие находки неведомо куда [228] исчезают. И вообще странно: сколько существовала греко-римская цивилизация, столько времени Украина была Скифией со сплошным скифским населением.
Как только исчезает Рим, на Украине вдруг оказывается сплошная славянская цивилизация от края до края. Скифы – это ведь не иголка. Это был громадный и мощный народ с древней и славной историей, народ, разгромивший непобедимого Дария. Куда он вдруг делся? На наших глазах украинцев искореняют с этой же земли уже целых семьсот лет, но успех только частичный… А скифы на их месте вдруг ни с того ни с сего бесследно «испарились», будто вся нация от Дуная до Дона и от Черного моря до дебрей сразу скопом улетела на Луну…
Вывод напрашивается сам собой: это тот же народ. Иностранное и местное название одного и того же народа очень часто не совпадает. (За примерами далеко ходить не надо: немцы, китайцы, армяне – на своих языках называют себя совершенно иначе.) За такими бурями, как мировая смена религий и многовековая руинизация края, немудрено было принять разные названия за разные народы, особенно если делалось это небескорыстно.
Сейчас мы видим второй этап того же процесса: большинство украинцев на своей родине уже не знают, что Киевская Русь и Украина – понятия тождественные. Фальсификаторы истории, промыватели мозгов, искоренители книг, мыслей, реликвий, душ и тел потрудились изрядно. Если семисотлетняя давность почти забыта, то о троекратно более седой древности и говорить не приходится. Это «великий льох», запечатанный погреб, откуда боятся выпускать джина славы и гордости народной. Захочет ли ассимилироваться, отречься от своего народа человек, сознающий себя прямым потомком воинов, разгромивших Дария?
Изменит ли он своему корню, своему языку, своим обычаям, памяти дедов, своей государственной независимости? Отобрать у народа прошлое – значит лишить его будущего.
Кстати, исследования скелетов из захоронений подтвердили, что центральноукраинский генотип за тысячи лет совершенно не изменился.
Скифы, кровно привязанные к отчим могилам, никуда не ушли с Украины. Хотя Скифия «исчезла» в исторические времена, нигде нет упоминания о передвижении неисчислимых скифских орд, которые могли бы опустошить целые континенты, как опустошали они Азию [229] во время своей вылазки, описанной Геродотом. На самом деле исчезла не Скифия, а та средиземноморская цивилизация, которая называла Украину этим именем.
Как ни стараются присвоить себе другие второе имя Украины (Русь), их разоблачают даже записанные с уст русских же мужиков древние былины, где фигурирует знаменательное уточнение: «…по всей Руси, по всей Украине». Здесь, пожалуй, кроется разгадка смысла последнего, общепринятого теперь названия страны: Украина. Его синоним – Вкраина (предлоги и приставки «у» и «в» в украинском взаимозаменяемы) . «Вкраина» – это буквально означает «внутренняя часть страны». («Краина» – страна, «в» – внутри, в середине.) Такое выделение потребовалось в связи с появившейся диаспорой русинских поселений за пределами края.
Соответственно «украинец» или «вкраинец» – житель собственного края, а не его филиалов за пределами национальных земель.
Название народа в течение тысячелетий вообще может меняться в зависимости от тех или иных событий.
«Евреи», «израильтяне», «иудеи» – сегодня это звучит почти как синонимы.
В период гражданской войны было не до тонких обоснований экспансии. Колонии отделились, провозгласили независимость. Хлеб, уголь, руда, хлопок перестали поступать в метрополию. Заводы остановились, рабочие индустриального центра голодали. Большевистский агитатор, выступая перед озверевшей бунтующей толпой, размахивал белой булкой, как знаменем. Толпа замерла, как зачарованная.
– Я только что с Украины! Хлеб есть! Вот! Украинцы готовы поделиться с братьями по классу! Надо только спасти их!
И тут же начиналась массовая запись в рабочие отряды, и голодные орды чужеземцев шли спасать Украину от белых булок, от угля, от руды и от самих украинцев впридачу.
А чтобы украинцы, подобно полякам, не получили оружие с Запада для своей защиты, была направлена делегация в Америку с тучным обещанием отдать всю Восточную Сибирь американцам в концессию. Те ошалели. Речь шла о таких многомиллиардных прибьшях, что Украина тут же выветрилась из головы. Громадная богатейшая территория оказалась бы фактически в руках американцев. Аляска казалась жалким черствым ломтиком рядом с новыми жирными предложениями. Пока шли уточняющие переговоры и стороны обговаривали детали, Украина [230] пала. После этого большевики махнули хвостом и были таковы. Никаких концессий! Кстати, делегация пробивалась в Америку через всю империю, через фронты гражданской войны. Она была снабжена и красными и белыми мандатами и пропусками: ведь те и другие различаются только по форме демагогического оформления имперской идеи. Правительство Эстонии или Финляндии могло бы свергнуть Ленина с его шаткого петербургского престола, если бы белые не отвергли открыто идею признания завоеванной народами независимости.
Один украинец-коммунист каким-то чудом получил допуск к советским газетам тех лет. И вдруг у него, свято верившего официальным догмам, раскрылись глаза на тот период истории своего края.
«Ленин – это же палач!», – воскликнул потрясенный украинец. Однако это был не первый палач Украины и, увы, не последний.
Село Марьяновка на Кировоградщине. Вторая мировая война. Входят немцы. В тот же день они открывают за селом ров, прикрытый хворостом. Ведут туда жителей.
Во рву, в извести по горло – полуразложившиеся трупы. Они высовывают позеленевшие, искаженные лица. Многие явно были брошены сюда еще живыми.
Районный город Чорткив. Первый день немецкой оккупации. Как только распахнулись ворота тюрьмы, глазам жителей предстало страшное зрелище. Двор полон изуродованных трупов, в числе которых женщины, скрученные за груди колючей проволокой. Тела носили следы нечеловеческих пыток. Большевики перед уходом расправлялись с украинской интеллигенцией… Что же творилось во Львове, в Тернополе?..
Эти два чудовища, Сталин и Гитлер, использовали зверства друг друга для оправдания собственных.
Как это жутко, когда выбор есть только между двумя разбойниками!
До сих пор большевики стараются селить отставных чекистов с семьями в украинских районах. Это целые привилегированные колонии отборных головорезов. Мне рассказывали об одном отставном чекисте – сексуальном маньяке. Во времена Сталина он вызывал жен арестованных и говорил этим женщинам, что от их благосклонности к нему зависит освобождение мужа. Разумеется, ему главное было добиться своего, а судьбы мужей от этого никак не менялись. Кто станет жаловаться на всесильного чекиста! Через его сети прошли СОТНИ жертв. После [231] Сталина его за это подвергли крайне суровому наказанию: отстранили от должности и назначили директором детдома. Там расстреливать было уже некого, но представители женского пола водились, хотя и недостаточно созревшие. Это его не смущало, и он круто взялся за своих воспитанниц. После скандальной беременности одной из них его прогнали и оттуда, после чего… назначили директором техникума. Как же иначе, номенклатурный работник, заслуженный! Там он уламывал своих учениц, действуя и плеткой (угрозой отчисления), и пряником (стипендия, общежитие – для бедной сельской девочки это целое сокровище) . Таких в КГБ полно. Особенно свирепствовали они на Западной Украине и в Прибалтике, где обладали, по сути, всей полнотой власти над жизнью и смертью каждого жителя.
Пожалуй, и над природой нигде так не издеваются, как на Украине. Днепр, славившийся своей чистотой и прозрачностью, теперь до того испоганен, что в нем то и дело запрещают купаться: опасно! Как-то я зачерпнул рукой днепровскую воду – и сквозь черную жижу не увидел ладони! Раньше и дно было видно, как сквозь стекло. «'Днепр, как и республика в целом, стал ареной самых циничных экспериментов», – сказал один из друзей.
В России полно угля – но в первую очередь стараются вычерпать до дна украинские недра. Знаменитые украинские и кубанские черноземы подверглись такой эрозии, что начались пылевые бури, как в Сахаре.
Всесторонняя руинизапия и янычаризация нации усугубляется тем, что трудно питать какие-то надежды на помощь с Запада. В 1956 году львовский вокзал был забит оккупантами, которые вместе с семьями и награбленным добром спешили смыться с Западной Украины. Однако Венгерское восстание было раздавлено прежде, чем его пламя продвинулось на восток. Никто на Западе и пальцем не пошевелил. Что же делать украинцам? Подниматься с охотничьими ружьями против бомбардировщиков?
Теперь, после Даманского, украинский крестьянин многозначительно сказал в автобусе:
– И на вэлыкого е вэлыкий…
Главная сила Китая – его решимость, которой даже большевики боятся. Раньше война шла на западном фронте. Прежде чем докатиться до России, пожар неминуемо сжигал Украину, которая оказывалась перетираемой между двумя жерновами. Но геополитическая ситуация изменилась.[232]
Теперь, впервые – все наоборот. Если украинцы и китайцы найдут общий язык (по принципу «враг моего врага – мой друг»), то третья сверхдержава сделает все для открытия второго (партизанского) фронта на Карпатах. Даст деньги, оружие, инструкторов, средства транспорта, политическую поддержку. Оттянет основные силы оккупантов за десятки тысяч километров от Украины. Массированной национальной пропагандой помешает использовать украинскую молодежь в качестве главного пушечного мяса на сопках Муньчжурии. И тогда поражение империи в Дальневосточной войне станет трамплином украинской независимости, и не только украинской.
Лозунг «бей жидов и хохлов» подтвердился еще раз, когда после еврейских бород палачи принялись за украинские усы. Заплечных дел мастер Киселев выкручивал руки А. Здоровому так, что хрустели суставы, приказывая в это время подручным силой срезать «крамольные» усы. То же самое вытворяли с Федоренко прямо во время голодовки (за это его и бросили в карцер). Усы срезали, заковав человека в наручники.
Один и тот же враг срывал шестиконечную звезду с шеи Давида Черноглаза и крест – с шеи Валентина Мороза. Если бы «в большой зоне» между угнетенными народами установилась такая же степень взаимопонимания, как в лагерях, – дело империи было бы проиграно.
Гонения за усы начались накануне столетия Эмского указа о запрете «малороссийского наречия». Примерно в это же время мы узнали, что менты написали рапорт о злостном нарушении режима со стороны Мороза: «преступник» осмелился на свидании заговорить с собственным сыном на родном языке! Таких запретов украинский язык не знал и при царизме.
Столетие Эмского акта узники разных наций отметили голодовкой солидарности с украинцами.
58. ТЮРЕМНЫЕ ИСТОРИИ
Нашу тюрьму курировал в основном прокурор Образцов – образцовый демагог.
Мы-то еще умеем сдерживать себя, но один уголовник не выдержал. Во время беседы с глазу на глаз в тюремном кабинетике он, отчаявшись, подбежал к перепуганному прокурору, вскочил к нему на спину и с криком «Но-о-о, мразь!» – выехал из кабинета верхом.[233]
* * *
Был у нас Гарри Суперфин, которого за Библию бросили в карцер. Этот интеллектуал умудрился заставить даже советский суд признать его право иметь с собой в заключении этот экземпляр советского издания, которое нигде невозможно достать, так как оно не поступало в открытую продажу. Однако во Владимирской тюрьме никакие суды не действовали. Суперфин прямо в карцере объявил голодовку и держал ее больше месяца, пока не выяснилось, что на воле об этом уже известно.
Во время голодовки он весил 41 кг. Библию не вернули.
* * *
Только однажды довелось мне встретиться с Володей Буковским. Меня привели в камеру, его должны были скоро увести. Мы познакомились. Передо мной был очень милый, симпатичный человек, измученный, затравленный, но не сломленный. Он со всеми умел находить общий язык, оставаясь принципиальным и твердым. Он не командовал, а подавал личный пример. Володя Афанасьев рассказывал, как они в камере вместе строили спичечные замки, как Буковский мечтал после этого ада поселиться где-нибудь в тихой Исландии. Они коротали время, изобретая все новую замковую архитектуру, фантастическую, в стиле Чюрлениса.
* * *
Потом был европейский новый год и «елка» из обрезков тетрадных обложек. Камерный «интернационал» решил украсить «елку» флагами, каждый своим. Маленькие национальные флажки разных стран уже мирно соседствовали, украшая «елку», и только русские никак не могли решить, на каком же флаге им остановиться. Красный отпадал сразу. Царский? В камере не было монархистов. Февральская демократия была такой мимолетной, что цвет флага Временного правительства никому не был известен. Тогда, за неимением лучше, вывесили Андреевский флажок.[234]
* * *
В России за последние годы сложилось тайное крыло Демократического Движения (ДД), которое действует, как партия, а не аморфая масса. Оно проявляет огромную активность в идейной борьбе, издает массу литературы, ведет внутреннюю и внешнюю полемику. Пожалуй, главное достижение – живучесть и идейная зрелость. Последовательная демократия и безоговорочное отделение «союзных республик» – основа его мировоззрения. Среди основателей – ветеран УПА, который под псевдонимом Мазепа-Бакаивский публикует вещи типа «Русский колониализм и права наций». Формируются Демократические Движения разных народов, которые кооперируются между собой. В лагере я встретил Мятика, лидера арестованной группы из Демократического Движения Эстонии. В их программе – безоговорочное отделение Эстонии, выезд колонизаторского элемента, за исключением участников движения, восстановление демократии в стране. Эстонцы оставляют за собой выбор средств борьбы. В последнее время, как новое веяние, в лагерях появилось несколько русских – последовательных демократов из ДД. Они довольно стойкие и активные. Чекисты реагируют по-своему. Егор Давыдов, арестованный за распространение литературы ДД, рассказывал о случае в ленинградской следственной тюрьме КГБ. С ним в одной камере оказался уголовник, непонятно за что привезенный сюда из лагеря. В разгар следствия он стал угрожать Егору, что ночью выколет ему глаза, расписывая в подробностях, как он это сделает. Это чтобы человек даже спать боялся; расстроить, расшатать нервную систему и под конец сломать. Егор не поддался террору, хотя ситуация была невеселая.
* * *
Обычно психиатр Рогов сам навязывался зекам, но я проявил инициативу, и перед отъездом с огромным трудом добился аудиенции. Пресловутый скорпион предстал передо мной в обличьи улыбчивого, по-кошачьи вкрадчивого молодого человека с блестящими и цепкими карими глазами. Суть его концепции состояла в том, что мы все, простые смертные, по психиатрическому своему невежеству не имеем ни малейшего права вмешиваться в деяния всезнающих и всесильных жрецов психиатрии, которые одни только вправе решать, кого из смертных оставлять на свободе, а кого – в вечном заключении сумасшедшего дома.[235]
– Все окружающие могут считать человека абсолютно нормальным, но мы, специалисты, с первого взгляда видим, что он ненормален! – твердил Рогов.
Как просто! Ни следствия не надо, ни суда, ни приговора. Достаточно святой и непогрешимой психиатрической инквизиции, которая никому (кроме КГБ) не дает отчета в своих действиях. Именем Науки!
Я поинтересовался, признает ли Рогов взаимосвязь между физическим и психическим состоянием пациента.
– Зачем вы задаете мне студенческие вопросы? – обиделся Рогов.
– А затем, что из всего множества истощенных зеков, над «диагнозами» которых вы работали, ни один не получил от вас подкрепляющую диету, которую дает иногда терапевт! Ни одному вы не дали даже витаминов, без которых разрушается и организм, и психика! Или вы практикуете только голодную профилактику?
– Вы не специалист, не специалист, не специалист! – истерически выкрикивал Рогов. Его будто заклинило на этом заклинании.
– А не объясните ли вы мне, по какой психиатрической закономерности политзеки «заболевают» только в конце тюремного срока, а не в начале или в середине? В психиатрии тоже есть «неотвратимость наказания»?
– Неправда, вот Яцишин! – нервно встрепенулся Рогов.
– Яцишина вы н е признали сумасшедшим. Это м ы его вам навязали силой! Назовите хоть одного политзека, которого в ы по собственной инициативе отправляли на лечение не в конце, а в начале или в середине срока!
И я перечислил ему добрый десяток фамилий, осчастливленных «диагнозом» при мне исключительно по концу владимирского срока. Так, вместо долгожданного освобождения, человека ждет новое, бессрочное психиатрическое заключение…
Рогову ничего не оставалось как заявить, что вот на уголовников эта «закономерность» не распространяется…

Особенно возбуждался и трясся психиатр, когда я заводил разговор о Морозе, Лукьяненко и голодающем Федоренко, над отправкой которых в психушку Рогов усиленно трудился. Он наотрез отказался поведать мне что-нибудь об этих людях и их «диагнозах». Особенно показательна история Лукьяненко, который отсидел 15 лет (а был приговорен к расстрелу) за одну лишь высказанную идею об отделении Украины. Лукьяненко – из Чернигова, который вот уже несколько сот лет [236] «благоденствует» под московским ярмом. Он дважды оказывался во Владимирской тюрьме. Во время первого пребывания там он чуть не умер от отравления. Большевики что-то добавили в пищу. Вся отравившаяся камера написала жалобы об этом. Но только через несколько лет, когда Лукьяненко за лагерное сопротивление попал в тюрьму вторично, а срок его заканчивался, Рогов на основании той старой жалобы отправил Лукьяненко в психушку, где ему приписали «ипохондрию» и дали вторую группу инвалидности как «психически больному». Это позволяло после «освобождения» в любой момент арестовать человека под тем предлогом, что больной «возбудился». Лукьяненко решил использовать висящий над ним дамоклов меч и в родном Чернигове потребовал пенсию «по инвалидности». Оказалось, что роговская «инвалидность» для пенсии не годится! Она может действовать только в негативном направлении, как основание для ареста, но не для пенсии.
Под конец моего пребывания во Владимире на поверхность выплыло новое лицо: оперуполномоченный Угодин. Опера бросили «на подкрепление» в связи со скандальным выходом информации о тюремных ужасах. После моего отъезда опер стал начальником тюрьмы.
Отличился он тем, что решил не выпускать из тюрьмы абсолютно никаких бумажек, даже подцензурных. Начиная с XXV съезда КПСС практически была полностью блокирована переписка политзеков. Все письма подряд автоматически конфисковывались без объяснения причин. Съезд окончился, но положение не изменилось. То же самое произошло с жалобами. Все формальные законы были отменены. В лучшем случае Угодин лично отвечал (устно) на жалобы в любую инстанцию:
– Вот вы пишите, что я совершаю беззаконие. На самом деле я прав. Понятно?
Не было никакой реакции даже на жалобу с вещественным доказательством – выловленной в баланде жирной личинкой мухи. Никто не обратил внимания ни на заявление, ни на приложенного к нему червяка.
* * *
В этот период мне довелось услышать рассказ участника войны Судного дня, которого я не могу назвать по имени из соображений его безопасности. Целая советская армия (около 50 000 чел.) была тайно переброшена в Сирию накануне войны. Делал это советский «мирный» флот, [237] который выполняет не только шпионские задания…
Солдат погрузили в трюм траулера и в кромешном мраке, в духоте, повезли, как скот, не предупредив даже, куда. Подниматься на палубу запрещали. Возбужденное пушечное мясо в своем трюме нервозно обсуждало вопрос о том, куда же их везут: на Кубу? во Вьетнам?
Вблизи неведомого берега бойцам объявили:
«Евреи воюют с арабами. Мы будем на стороне арабов!»
Потом на военных машинах их в каких-то нейтральных униформах повезли через столицу к фронту. Арабы узнавали «старших братьев» и, вместо приветствия, запускали в них каменьями. Всюду висели карикатуры на дядю Ваню, который одной рукой дает арабу оружие, а другой – вытаскивает последнее у него из кармана.
Сначала их ракетный комплекс размещался за Голанскими высотами, в пустыне. Солдаты плакали, заслышав канонаду. Они не понимали, зачем их привезли сюда умирать.
Потом их направили на подвозку боеприпасов передовым частям. Израильтяне тайно прилетели на вертолете и устроили засаду в придорожных холмах. Первыми же внезапными выстрелами они подожгли головной и замыкающий бронетранспортер. Солдаты заметались в ловушке под огнем крупнокалиберного пулемета. Кто-то кричал «мама!», кто-то бился в истерике. Один офицер вытащил пистолет и с криком: «Вперед, за родину!» бросился навстречу опасности. Его тут же прошило пулями. На глазах выжившего парня очередь скосила его земляка, который погиб, не зная зачем, ради интересов московских угнетателей. В этом был особый ужас ситуации: насильно мобилизованные и согнанные в кучу юноши из порабощенных народов помогали порабощать очередную страну и гибли под ее пулями. Самым страшным, что запомнилось очевидцу, был мозг его несчастного земляка, который вытекал из простреленной головы мертвеца…
Когда-то советские люди пели: «…не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Теперь эти слова заменены более абстрактными: «…не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна». Потому что уже наступает очередь турецкого берега и Африки.
Москва рвется к Иерусалиму, перекрестку трех континентов. Иерусалим лежит на пути к нефтяному Персидскому заливу, на берегу которого – ключ к мировому господству.
Многие верующие в лагерях толковали Иезекииля, объявляя Москву таинственным Гогом, а Израиль – твердыней, у подножия которой он найдет свою могилу.[238]
59. БАНДИТЫ В ПОГОНАХ
И вот кончается мой тюремный срок. Внезапно меня досрочно дергают из камеры.
– За вашу и нашу свободу! – напутствуют друзья.
Однако вместо этапа меня бросили на несколько дней в камеру… Кронида Любарского! Зачем? Мы терялись в догадках. Между тем поспешно обменивались новостями. Опер Угодий, оказывается, хотел параллельно нажиться. С одной стороны, он с момента присвоения Крониду премии Швейцарского комитета защиты прав человека полностью прекратил его переписку; с другой, – подсылал к нему людишек, предлагавших «с гарантией» доставлять его письма нелегально по 30 рублей за штуку.
Ларчик невероятной встречи с Кронидом открывался просто: чекисты уже готовили акцию и надеялись изъять у меня при отъезде массу Кронидовских материалов…
Первым делом при переводе в этапную камеру в конце марта 1976 года у меня якобы «на проверку» забрали все бумажки: старые письма, полученные через тюремную цензуру – целые пачки; открытки, семейные фотографии, купленные в ларьке конверты, бумагу, почтовые марки. Забирали книги, журналы, газеты до последнего клочка. Вскоре стало ясно, что возвращать менты ничего не собираются. Я объявил голодовку-бойкот. Не обращая на это внимания, менты вскоре приволокли меня, как сноп, вместе с вещами в кабинет на шмон. Отбирали последние клочки бумаги, потом принялись за одежду. Куда-то унесли мой бушлат, взамен бросили чью-то грязную засаленную фуфайку. Денежную квитанцию отобрали тоже.
Позже, в лагере, я вел целую «бумажную войну», требуя возвращения награбленного. Тюрьма слала самые разнообразные ответы: то оказывалось, что у меня вообще ничего не брали; то вдруг сообщали, что все взятое конфисковано в качестве антисоветского материала (в том числе врученные мне цензурой письма, семейные фотографии, советские почтовые марки и пр.); то признавали, что действительно отобрали у меня приговор, обещали вернуть его. Ни один официальный орган не желал заняться этим грабительским хаосом. Только в «большой зоне» я вырвал у них свой приговор.[239] Деньги, книги, семейные фотографии, бушлат, почтовые принадлежности, письма и пр. и пр. – так и остались в зубах подполковника Угодина. Владимирская мафия оказалась несокрушимой. Она жила на правах независимой крепости, куда даже верха не желали вмешиваться. Угодин – бесцветный, аморфный дурачок с вечно удивленными водянистыми глазками и нечленораздельной речью. От столба скорее добьешься толкового ответа, чем от него.
Я продолжал голодать, лежа в этапной камере. Еще во время шмона новый инструктор приговаривал:
– У евреев есть праздник Пурим. Так вот, когда Вудку увезут отсюда, у меня будет свой Пурим!
Этап наступил, а я продолжал лежать в голодовке, так как мне ничего не собирались не только возвращать, но даже объяснять происходящее.
И тогда настал час майора Киселева, квадратного, рубленого мордоворота. По его приказу конвой набросился на меня и поволок в воронок, избивая на ходу. Сам Киселев в это время изо всех сил выламывал мне руки. Избитого, меня швырнули внутрь, и я грохнулся о чьи-то колени. Это был уголовник-рецидивист из соседней этапной камеры.
– Вот она, начальничек, ваша е… гуманность! – проворчал он из воронка, помогая мне устроиться рядом с собой и придерживая за плечи, чтобы я не свалился от тряски. Это был украинец с Кубани. Пожалуй, благодаря ему я без всяких приключений находился в обществе рецидивистов до самого Кирова. У чекистов была совсем другая цель, но, к счастью, не все уголовники одинаковы. Один из попутчиков зачитывал соседям целый философский трактат о своем жизненном пути, копию которого он отправил Суслову в надежде на помилование. В перерывах между чтением он рассказывал похабно-пикантные истории из своей жизни или влюбленным взором мерил с головы до пят молодого конвоира, вышагивающего вдоль клетки.
Сосед-кубанец между тем рассказывал мне об отчаянной жизни уголовного Владимира. Многие вообще не живут без штырей. Врываются в камеру озверевшие менты – зеки тут же оружие на изготовку. Те ретируются. С прогулки выгоняют через полчаса вместо часа – опять достают штыри: «рано еще, никуда не уйдем». Закон джунглей. Из Владимирской следственной тюрьмы № 1 к нам в воронок попал Костя Стогов, который дальше ехал с нами. Он наряжен в полосатую робу рецидивиста, но совершенно не похож на преступника.[240] Смуглый, черноволосый, он пылкими, но грустными глазами и оттопыренными губами напоминал Пастернака. Этот простой молодой паренек, несмотря на тюрьму и лагерь, совершенно не матерился, был скромным, доброжелательным. Сидел он за какую-то любовную историю. Юный Ромео вступился за любимую девушку, которую кто-то собирался изнасиловать, и попал за это в лагерь под Ковровом. В лагере было совершено убийство. Опер не сумел найти виновного и решил использовать тихого Костю в качестве козла отпущения. С помощью лагерных лжесвидетелей и грубых фальсификаций следователя невиновного парня приговорили к многолетнему сроку. Теперь он «рецидивист».
Несправедливый приговор № 1/430 вынесен Косте Стогову в декабре 1975 года. Он чувствует, что жизнь его перечеркнута крест-накрест.
Позже, в кировском воронке, я разговорился с другим молодым парнем, которого везли из Архангельской области в «крытую» Балашовскую тюрьму.
Он рассказывал о полном возрождении сталинизма в Архангельских концлагерях, зашифрованных литерами «УГ». Так, молодого парнишку, осужденного за какую-то мелкую провинность, капитан Пойта накануне освобождения сбил с ног ударом сапога в живот и оставил лежать на снегу. Мать приехала встречать сына, а ей сообщили, что тот недавно умер в тюремной больнице: разрыв печени. Убийца не был наказан. Калеками становятся сотни недавно еще здоровых молодых людей. – Это вредительство! – шепчет белый, круглолицый, голубоглазый сосед.
Атмосфера в Архангельских концлагерях такова, что начальник управления прямо перед зековским строем бьет по морде нерасторопного офицера. Бесправные зеки в таких ситуациях уподобляются траве, которую вообще можно топтать как угодно. Общая атмосфера Архипелага ГУЛАГ не может не отражаться на политическом контингенте. Так, Абанькин во время голодовки был брошен в карцер. На четвертые сутки он воспротивился закрытию нар: уже положено лежать. За это корпусной вывел его в коридор и избил ключами по ребрам. Врач зафиксировал побои. Тем не менее мент остался безнаказанным, а голодающего Абанькина так и держали в камере при закрытых нарах, даже продлили срок. Более того, карцер побелили, не выводя узника, и он после этого задыхался в затхлой промозглой сырости.
Тяга к сталинизму ощущается во всех слоях имперского общества. Своеобразная ностальгия по большому кнуту.[241] В Ленинграде большевики несколько лет назад демонстрировали фильм, где фигурировал Сталин. Публика встала и бурно зааплодировала. Какая-то старушка плакала от умиления, вытирая уголками платочка глаза. Их бог возвращается!
60. ОПЯТЬ УРАЛ
Назад меня везли уже без крайних мер предосторожности. Оставались считанные месяцы лагерного срока, и большевики не опасались побега. Беспокоило их другое: по запарке они не рассчитали время моей владимирской трехлетки, и теперь я возвращался в лагерь на короткую ознакомительную экскурсию. Им не хотелось оказывать мне гостеприимство. Думать и предпринимать что-то умное им было лень. Оставалось тривиальное решение. И большевики опять радушно распахнули передо мной двери карцера. Меня держали в одиночном заключении, в самой далекой и изолированной камере внутренней тюрьмы.
Начались усиленные провокации Ротенко и Федорова. Они не знали, что еще запретить. Шмонали со «стриптизом» четырежды в день. Запрещали иметь в кармане бумагу, спички или карандаш. Запрещали оставлять хлеб или соль от завтрака до обеда. Найденную в промежутках соль злобно высыпали в мусорник, а хлеб грозили отобрать. Осталось только разработать правило, сколько раз в течение обеда я обязан подносить ложку ко рту. Запрещалось садиться на нары. Запрещалось подходить к двери или к окну. Запрещалось, запрещалось… Меня уже тошнило и трясло от липких, грязных, наглых рук, то и дело шарящих по моему телу, хотя и младенцу было ясно: искать в наглухо закрытой камере нечего.
Суть была в том, чтобы изобрести предлог для перевода меня с «карантина», на котором я формально содержался после тюрьмы, на карцерный режим до конца срока. Изоляция нужна была, чтобы я не вынес на волю лагерные новости.
Однако мы нашли способ общения. Вместо параши в камерах была теперь примитивная канализация без сифонного устройства. Она была источником вони; оттуда выпархивали рои противных маленьких мушек, но зато через эти трубы можно было переговариваться между разными камерами, как по телефону.
Так я познакомился с Ашотом Навасардяном, членом Национальной партии Армении. Наиболее известный член этой группы – Айрикян. Оба [242] уже второй раз были арестованы за это. Суть их идеи состояла в словах, которые возникали на стенах ереванских домов:
«Долой русских! Да здравствует независимая Армения!» После ареста они объявили голодовку протеста в Ереванской тюрьме КГБ. Чекисты под предлогом искусственного кормления начали применять пытки: сдавливали язык специальными щипцами до невыносимой боли. Язык после этого распухал, заполнял весь рот. Человек долго не мог говорить. После суда, на котором подсудимые открыто, не таясь, требовали независимости, Навасардяна в октябре 1974 года повезли в уральский концлагерь. В столыпинском вагоне прямо на Ереванском вокзале разыгралась жуткая сцена. Все вещи Навасардяна первым делом выбросили в окошко. Потом в клетку вошел Рузвельт Сагатян, начальник конвоя и единственный армянин в нем. Без малейшего предлога он ударил Ашота и затем приказал взяться за дело своим подчиненным. Все вместе они били Навасардяна долго, зверски, кулаками, ногами. На вопрос: «За что?» – отвечали: «Чтобы знал, что такое советский конвой!» Избиения продолжались и при выводе в туалет. Долгие месяцы везли его из Армении на Урал этапами совместно с уголовниками. За это время успели сойти страшные синяки на всем теле. Вначале боль была такая, что Ашот предполагал переломы ребер. Условия этапов невозможно описать. По Ашоту ползали вши…
В лагере он объявил забастовку, требуя провести в Армении референдум. Теперь за это не вылезал из карцера. Позже я познакомился с ним лицом к лицу. Это был высокий и тонкий узколицый брюнет, смугло-бледный, с большими огненными глазами. По натуре это был святой. Он прекрасно понимал, что шансов сейчас никаких, и, тем не менее, сознательно приносил себя в жертву. Нужно поддержать собственной плотью вечный огонь национальной идеи, и потому он добровольно всходит на жертвенный костер. Он хочет жить и умереть, как подобает армянину. Армении, древнейшей из захваченных империей стран, есть чем гордиться. Это их родоначальник одолел библейского Нимрода, первого тирана земли. Армения и сегодня – самый стойкий форпост национального сопротивления.
В Ашоте было много общего с Валентином Морозом, который сказал: «Нам нужны апостолы и мученики!» Сказал – и сделал.
Ашот познакомил меня, переговариваясь по трубе, со своим новым соседом по карцеру Сергеем Таратухиным. Тот в феврале 1976 объявил заключенным, что с мая предыдущего года состоял сексотом.[243]
Первым делом проводился обряд подписания следующей бумаги:
«Я, Таратухин Сергей Михайлович, согласен сотрудничать с советским Комитетом Государственной Безопасности. Государственные секреты, ставшие мне известными в ходе такого сотрудничества, обязуюсь хранить в тайне. В целях конспирации буду пользоваться кличкой «Андрей».
Дата Таратухин Сергей Михайлович
(Андрей)»
По словам Сергея, он пошел на это в разведывательных целях. Таратухин сделал важные разоблачения. Оказывается, работа обыкновенного доносчика – только низшая ступенька в стукаческой иерархии. Более привилегированным считается участие в чекистских операциях по формированию духовной атмосферы лагеря, по воздействию на общественное мнение. (За пределами лагеря – то же самое.)
– Нужно всячески сеять национальную рознь, в первую очередь – антисемитизм, – поучал Таратухина майор КГБ Черняк. – Нужно заводить и поддерживать антисемитские разговоры при всяком удобном случае. Нужно, чтобы евреям в зоне жилось как можно хуже!
Такова официальная линия КГБ, а не личная придурь Черняка. (Сам он, впрочем, тоже махровый черносотенец.) Особенно неистовствовал Черняк в связи с тем, что не может никого «внедрить» в еврейскую группу, и потому ничего не знает о ее настроениях и намерениях.
Другим заданием было порочить лучших политзаключенных зоны. В число избранных чекистами попала вся тогдашняя еврейская община 36-го лагеря (Дымшиц, Менделевич, Зеэв Залмансон), а также Сверстюк, Гринькив, Навасардян, Ковалев. Против этой духовной элиты применялись такие методы.
– Навасардян должен получить бандероль, – говорил Таратухину Черняк, – так вот, вручать ее буду лично я! А ты потрудись обратить на это внимание зоны: не зря, мол, у Навасардяна шашни с чекистом!
Но самым интересным было то, что оба лагерных врача – старый хромой наркоман Петров с вечно трясущимися руками и новый молодой Титов – оказались всего-навсего штатными резидентами КГБ.
Кто бы подумал такое о задрипанном испитом хромце, который раз в кои-то веки выдавал мне немного негодных уже витаминов, непременно рассыпая их трясущейся рукой по полу.[244]
Оказывается, он и его напарник принимали донесения стукачей, давали им задания и наградные, чтобы частые вызовы непосредственно к чекисту не бросались в глаза. Таратухин получал восемь плиток шоколада в месяц, дополнительные посылки через санчасть, освобождение от работы или койку в больничке по желанию.
Сам майор Черняк вызывал только в особо важных случаях и торопился побыстрее закончить разговор.
Конечно, здоровых стукачей конспирации ради приходилось для вида разбавлять обычными больными, особенно если на Западе уж очень сильно протестуют из-за отсутствия лечения.
По-видимому, резиденты в белых халатах – это общелагерная норма.
После освобождения Таратухина собирались «направить» в МГУ.
Пока я сидел в карцере, прибыл новый украинец – Михайло Слободян. Он, будучи милиционером, создал подпольную организацию, которая вывешивала национальные флаги и провозглашала идею независимости. На суде он сказал:
«Вы можете убить меня в своих лагерях, но вы никогда не убьете нарастающую борьбу украинского народа за независимость. Я ненавижу и всегда буду ненавидеть вас за вашу подлость и мстительность». Ему дали 11 лет лагерей плюс три года ссылки. Между прочим, лживо обвинили во взяточничестве. Лжесвидетелей, якобы дававших ему взятки, ни к какой ответственности не привлекли, хотя по советским законам дающий взятку – такой же преступник, как и берущий.
Появился и еще один незнакомец: Ладыженский. Этот возвращался после суда над Твердохлебовым, куда его возили из лагеря в качестве свидетеля нашей счастливой лагерной жизни.
Он был единственным политзеком среди группы перепуганных и готовых на все полицаев, и он сыграл в деле Твердохлебова достаточно позорную роль. Зеки за это подвергли его бойкоту. Статья в «Известиях» о его «подвигах» доконала Ладыженского, и он в тот же день тяжело заболел. Однако эта тряпичная натура в конце концов набралась мужества и в присутствии Ковалева, Навасардяна и Сверстюка официально уполномочила меня сделать от его имени следующее заявление для Запада:
«Я, Ладыженский, заявляю, что статья в «Известиях» грубо искажает факты. Мне в лагере с самого начала были созданы особо льготные условия. Меня, в отличие от других, ни разу не наказывали, наоборот, всячески поощряли. Делалось это в провокационных целях, и теперь [245]
«Известия» истолковывают мое особое положение в лагере как якобы общее для всех заключенных. Это грубая ложь».
Признание Ладыженского я услышал намного позже, а пока что Ладыженский беспрепятственно проследовал в зону, я же куковал в изоляторе.
61. ПРОРЫВ БЛОКАДЫ
Так бы и досидел я в карцере до победного конца, если бы не Марш Свободы, организованный в начале мая 1976 года в Америке при активном участии Симаса Кудирки.
Чекисты очень опасались синхронной акции в лагере, а тут еще такой горячий материал, как мой бесконечный изолятор. Готовилась массовая голодовка политзеков, многие уже бросили заявления об этом.
И тогда – через месяц после моего прибытия – чекисты начали переговоры с политзаключенными. Они обещали выпустить меня из изолятора в обмен на отмену голодовки. И выпустили как раз в день Марша Свободы.
Прямо у ворот изолятора меня ждали наши ребята. Горячие объятия. Потом меня знакомят с остальными участниками моего вызволения. В основном новые незнакомые лица, почти сплошь – украинцы.
После начала организованного сопротивления чекисты изменили отношение к политлагерям.
Раньше эти заведения выполняли свое прямое назначение: перемалывали людей, затирали их навеки. Эти прокаженные, если и не ломались, то заглушались за мертвой стеной анонимности, отчуждения, молчания. Достигалась главная цель: предать человека забвению. Теперь все переменилось: именно благодаря политлагерям многие безвестные стали известными. Политлагеря заговорили, зазвучали, их голос вышел на мировую арену.
И теперь личности не пропадали, а формировались и утверждались. Поэтому ЧК перестало направлять в наши лагеря беглых солдат и всяческих случайных людей. Они попадают в какие-то другие места. Даже явно и безусловно политических стараются распылить по бесчисленным островам уголовного ГУЛАГа, по безвестным ссылкам, «командировкам» и психушкам, не допуская «опасной» концентрации политических в одном месте.
Из новых узников самой яркой фигурой был, пожалуй, Сверстюк, [246] заброшенный сюда очередной волной террора, выкорчевывающей цвет украинской нации.
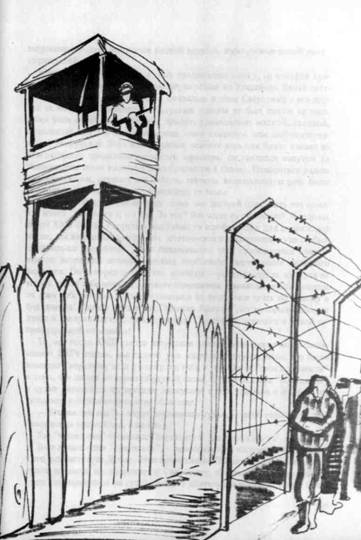
Когда он приехал в лагерь, ему предложили койку, на которой красовалась моя фамилия. Сам я накануне отбыл во Владимир. Целая литература – смелая, талантливая – оказалась в лице Сверстюка и его друзей за колючей проволокой. Сверстюк совсем не был похож на зека. Даже робе своей он умудрялся придать удивительно мягкий, светлый, цивильный вид. Он выглядел среди этого кошмара, как любопытствующий экскурсант. Этот необычайный человек весь как будто изваян из благородного средиземноморского мрамора, он светился изнутри (в Навасардяне такое качество тоже бросалось в глаза). Находиться рядом со Сверстюком, слушать его умытую, тонкую, великолепную речь было сплошным удовольствием, независимо от темы.
Получил он предельный срок: семь лет лагерей плюс пять лет ссылки, итого двенадцать. За что? Вот одно из обвинений. Когда-то, после ХХШ съезда, Сверстюк выступил на конференции для директоров школ, посвященной проблемам эстетического воспитания, куда он был официально приглашен. Даже большинство этих правоверных коммунистов встретили аплодисментами необычное выступление молодого человека. Он говорил о том, что эстетика – роскошь души, которая не может найти себе место в грязном помещении. Давайте сначала очистим от лжи собственные души! Откажемся от привычки лгать по поводу и без повода! Сказал он и о тех «замках Броуди», из которых выходят люди в наглухо застегнутых сталинках. Какая уж эстетика в такой непроветренной компании!
То, что после ХХШ съезда наградили аплодисментами, в свете следующего XXIVсъезда, выглядело уже настолько неуместным, что было вменено Сверстюку в преступление без учета «срока давности» и того, что закон не имеет обратной силы. В ходе разбора «обвинения» у судьи завязалась интересная дискуссия с подсудимым о формах отчуждения в социалистическом обществе.
– Что же это мы? – вдруг опомнился судья, – да об этом же можно говорить за чашкой чая, а не здесь!
Эта «чашка чая» обошлась Сверстюку в двенадцать лет…
Был и еще один «свидетель» – преподаватель математики Камянецкого пединститута Дудар. Этот провокатор КГБ приехал в Киев, напросился ночевать на квартиру к Сверстюку, составил черновик доноса (как сам признался на суде), и через длительное время обвинил Сверстюка в том,[247] что тот говорил об арестах на Украине, о русификации, о пользе религиозного воспитания, о том, что Библия – Книга Книг… Обвинение даже пыталось приписать Сверстюку авторство крамольного стихотворения Шевченко: «Якби то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув».
Когда на очной ставке Сверстюк разоблачил провокатора, заявив, что никогда не стал бы всерьез общаться с такой швалью, Дудар начал отказываться от своих слов. И тогда страж закона, прокурор Погорелый, продиктовал следователю показания вместо «свидетеля»! Делалось это нагло, прямо при Сверстюке. Фамилии палачей тоже были характерные. Следователь – Чорный. Прокурор – Погорелый. Судья – Дышло.
Расправа свершилась. Главное, чего добивалось КГБ, это – выяснение вопроса: как же это мы в свое время упустили, дали расцвести, недоглядели, недодушили, недорезали?! Седая девяностолетняя крестьянка – мать Сверстюка – утратила уже шестерых сыновей. Их пожрал имперский Молох. Седьмой, последний – наполовину утрачен.
Основное, что поражало Сверстюка на следствии, – это атмосфера демонтажа личности. К нему, живому человеку, все относились уже, как к списанному оборудованию.
До сих пор от него требуют «раскаяния» как условия для немедленного освобождения.
Приезжают «авторитетные» делегации из Львова, приглашают на кабацком смешанном языке поговорить «по душам». Сверстюк отказывается отвечать по-русски. Бандитская морда собеседника выражает приятное удивление.
– О, по-русски?!
– Да, с конвоем я привык разговаривать только по-русски! – отрезал Сверстюк.
– Ну почему же с конвоем? Я, правда, действительно сотрудник КГБ, но в нашей делегации есть и кандидаты философских наук…
– Значит, конвоиры с философским уклоном! И хватает же у людей стыда приезжать в концлагерь для бесед о сущности свободы!
Еще на следствии Сверстюку дали понять, что стоит ему «всего лишь» перейти в своем творчестве на русский язык – и судьба его начнет складываться совершенно иначе. Это одно из проявлений культурного империализма. Внутри страны это выглядит как перекачивание национальных талантов в имперскую науку, экономику, культуру, [248] которые в решающей степени сформированы за счет ассимилированных инородцев. Вовне – это массированное наступление на умы и сердца, своеобразная психологическая артподготовка, предшествующая броску танковых армад. С одной стороны, миру предлагается коммунистическая идея всеобщего братства, с другой, – русская культура, подкрепляемая кровью невольных доноров. Хоть на что-нибудь да клюнут! Не на то, так на другое! И будут потом громко протестовать, когда кто-то где-то попытается остановить русскую экспансию. Не могут они сделать ничего плохого! Ведь они такие милые, добрые, приятные! И против кого мы вообще вооружаемся? Они ведь только и поют, что о мире! Красиво поют, как Сирены. Завлекательно. Просто глаза закрыть хочется и в томительном упоении пешком двигаться по направлению к ГУЛАГу…
Под звуки гармошки, под мельканье пуантов… А там, глядишь, ГУЛАГу какое-нибудь иное имечко дадут, покрасивше, позавлекательнее, да флаг над ним другой повесят, симпатичный такой, как новенькая юбка модницы: чего же еще?
В отношении антисемитизма Сверстюк высказал свое мнение, что его наличие – результат «нечищенности». «В Охотном Ряду с основания России не чищено. Одной благонадежности сколько накопилось!» – цитировал он Салтыкова-Щедрина, которого очень ценил. Так вот, во многих душах тоже от века не чищено, и душевная леность мешает выскрести из себя слежавшиеся пласты скверны. Все известные украинские политзеки – противники юдофобии. Двум народам-мученикам пора уже совместно подвести черту под страшным прошлым и вернуться к тем первоначальным отношениям, которые складывались в Скифополе во времена Маккавеев.
Сверстюка арестовали не за деяния. И следствие над мыслью не окончилось. В лагерь он прибыл с чекистской характеристикой: «идеолог шестидесятников». Майоры знают, как на это реагировать. Кроме обычного подслушивания и доносов, Сверстюка травят бесчисленными, как комариные укусы, мелочными придирками и издевками. Ежедневные вызовы «на ковер», глумящиеся рожи капитанов и майоров, некоторые из которых специально приезжают из управления лагерей.
– У вас почему это газеты и журналы на тумбочке лежат? Непорядок!
– А где же им быть?
– Как где? В каптерке.
– Но они же только сегодня пришли, я еще не успел их прочесть.[249]
– Вот и брали бы из каптерки по одной для чтения, а потом – опять в каптерку.
– Склад работает в очень короткий и неудобный отрезок времени.
– Это нас не касается! Ишь чего захотел!
– Вы посмотрите, товарищ майор, он еще препирается! Пора, пора наказать!
И так изо дня в день. Майор Федоров врывался в бараки, устраивал там настоящий погром, особенно против ненавистных ему книг.
– Уберите эту х-ню! – кричал он, швыряя на пол «Программу КПСС» с тумбочки одного молодого коммуниста.
А пока чрево Левиафана безжалостно переваривает очередную жертву, Париж восторженно аплодирует треньканью балалайки.
– Ох, хочется мне, чтобы они там промаршировали! – говорил один озлобившийся зек.
«Мы всю Америку оденем в галифе!
Закроем все к е… матери кафе!
И наш солдат на Статуе Свободы
Напишет: «Мир, освобожденные народы!»
Есть в России и такой фольклор, который пока не привозят в Париж…
* * *
Когда наши герои освободили заложников Энтеббе, когда советская пресса заливалась проклятиями, лагерь, ахая от удивления, измерял на карте расстояние от Израиля до Уганды.
– Сюда не намного дальше! Как ваши, не собираются? – в шутку спрашивал молодой литовец Пятрас Плумпа, арестованный за издание «Хроники католической церкви Литвы». Он, в частности, рассказывал, что отношения между евреями и литовцами в Литве заметно улучшились, эти народы научились понимать друг друга. Плумпу везли из Литвы этапами вместе с натравленными уголовниками, которые грабили его, избивали, душили. В пересыльных тюрьмах он сообщал об этом начальству, но ничто не помогало: на следующем этапе его опять соединяли с теми же бандитами. Дело явно было подстроено. От единственной женщины, которую судили вместе с Плумпой, он получил известие, что она за время аналогичного этапа в Мордовию пережила больше, чем [250] за всю свою жизнь. Другого подельника, отправленного в уголовный лагерь, там изувечили во время молитвы, и он навсегда остался с перекошенным лицом.
В лагере Плумпа боролся за вручение ему украденных чекистами открыток к религиозным праздникам. За это его под ничтожнейшим предлогом затащили в кабинет, раздели догола, били головой о дверь, заковали в наручники и, сдирая кожу с рук, окровавленного, поволокли в карцер. Дело было в начале июня 1976 года. Лагерь заволновался. Литовцы рассказывали гнуснейшую историю, как однажды под предлогом «обыска» менты вертели в заднем проходе у зека палец в специальной перчатке, стараясь вызвать гомосексуальную реакцию. В лагерных условиях это хуже убийства. Протесты привели к тому, что Плумпе выдали одну из уворованных открыток и даже выпустили его в зону.
Познакомился я и с харьковчанином Юрием Дзюбой, который добивался выезда в Америку по идеологическим мотивам и был за это арестован, хотя действовал абсолютно легально, через ОВИР.
Юрий Дзюба – верующий, одно время даже работал в официальной церкви, из которой был изгнан после того, как отказался взять к себе в любовницы харьковского епископа-гомосексуалиста.
Националистов стараются не выпускать, чтобы мир не узнал об имперском характере государства.
62. НЕЛЕГКИЙ ИСХОД
По ту сторону забора тоже было весело. День и ночь мы слышали лай немецких овчарок и звуки автоматной стрельбы. Тренируются. Снова и снова топот муштровки, разухабисто-казенные строевые песни, «гав-гав-гав-гав!» хорового приветствия. Муштруются. Готовятся. Скоро ли очередной бросок? Куда? В Африку? В Европу? В Южную Америку? В Израиль?
Доходили до нас и другие сведения, свинцовая грязь их быта. Пьянки, хулиганство, разврат, поножовщина. Одного мента зарезали на танцульках. Подрались капитан Рак и прапорщик Титов.
Майор КГБ Черняк у всего поселка одалживает деньги и никому не возвращает. Попробуй, вытребуй у всесильного чекиста! Или попробуй откажи! Черняк даже девушек не стеснялся обирать.[251] У племянницы Рака безвозвратно выудил сорок рублей. Зарабатывает же он, разумеется, в несколько раз больше ее. Таковы понятия о чести у наших благородных перевоспитателей.
* * *
Внезапно мы открыли, что красные кровопийцы испытывают чувство классовой солидарности по отношению к… комарам!
Эти маленькие крылатые коммунисты кишели в болотных испарениях, плотными тучами садились и жалили каждый участок непокрытой кожи. Полицаи ходили закутанные в накомарники. Издалека они напоминали бедуинов. Но стоило только нам прикрыть шеи носовыми платками, как мент Белов, чернявый, гримасничающий, завопил на нас истошным голосом, написал рапорт. Долго таскали нас по кабинетам, мурыжили и мытарили за это чудовищное преступление. Какова наглость евреев! От комаров шеи вздумали прикрывать! Не положено!! Наказать!!! В этом состояла тактика чекистов: не давать вздохнуть, изводить бесчисленными, как укусы уральского гнуса, мелочными придирками, запретами и домогательствами. Их изобретательности не было конца. В лагере это обозначается сочным термином: «б е с п р е д е л».
* * *
Комплекс психических и физических издевательств подорвал здоровье ребят.
Менделевичу на моих глазах стало плохо в тот момент, когда хлынул ливень. Сильная гипертония. Тяжело переносить перепады воздушного давления. У него кровоточили десны. Лицо осунулось, проступили скулы.
Организм военного летчика Дымшица превратился в живой барометр, болезненно предчувствующий малейшее изменение погоды. Отложение солей в суставах пальцев. Боли в желудке, сердце, во всем теле. Дымшиц сам лечил себя ромашкой, которую собирал у болота. Очень ослабел и Зеэв Залмансон. Я рвал для ребят траву, заставлял их есть это терпкое блюдо, чтобы подкрепить хоть немного…
В лагерном туалете нередко можно было видеть кровь: результат хронического геморроя, самой массовой болезни зеков, которую в [252] лагерях никто не лечит.
Страдал этим и демократ Ковалев, едва ли не единственный русский в лагере в тот период. У него было также выпадение прямой кишки. Лечить отказывались. Теперь есть сведения, что дело дошло до рака…
Ковалев рассказывал об интересном эпизоде, связанном с его следствием. Некий неизвестный позвонил его жене, сказал, что сидел вместе с мужем, что того «избили менты», что он «голодает». Просил достать для себя самиздат, хотел оставить у нее какой-то таинственный пакет. Цель была достаточно прозрачна: спровоцировать жену и других демократов, включая академика Сахарова, на явно «клеветнические» заявления о положении Ковалева, инкриминировать его жене подброшенный сверток, а потом ее же дальнейшей судьбой шантажировать мужа, выжимая из него нужные показания. КГБ не брезгует ничем.
* * *
Познакомился я и с умирающим старичком по фамилии Панютин.
Мировое Зло и этого безграмотного мужика не оставило в покое.
Первый раз тот сел еще при Сталине. В ранней юности он, познавший голод воспитанник детдома, был направлен на работу в магазин и раздавал оттуда хлеб голодающим, спасая их от смерти. За это и упекли. Сейчас Панютин стал «политическим». Ветеран Второй мировой войны косноязычным письмом высказал правительству свои заветные мысли: дескать, когда мы воевали, вы обещали дать народу после войны счастливую жизнь, а теперь вместо этого помогаете всяким «братьям», а о своем народе и своих обещаниях забыли… Теперь Панютин тяжко страдает желудком. Целыми днями сидит скрючившись от боли, почти ничего не ест. Едва передвигается. Истощенное скорченное тельце, пергаментная кожа. Его не лечат и не актируют. Скорее всего он выйдет из лагеря на носилках ногами вперед, чтобы стать хозяином небольшого безымянного участка земли, о которой поется в песне про Ленина:
«Вы землю просили – я землю вам дал, а волю на небе найдете». Эту-то вожделенную «землю» обретали в России с величайшей легкостью все подряд – от темного мужика до выдающегося революционера Бела Куна, организатора «советской республики» в Венгрии в 1917 году. На глазах моего знакомого зека, калмыка Адучиева, Бела Кун умер в бараке концлагеря Анадыр в далекой чукотской тундре. От голода [253] там перемерло после войны больше половины зеков, в том числе Бела Кун. Был он, по словам Адучиева, очень общительным, отвечал на любые вопросы. Перед смертью Бела Кун предсказал, что объятия Москвы с новорожденным Красным Китаем недолговечны…
Нам с Иосифом Менделевичем пришлось вести изощренную борьбу за соблюдение субботы. Мы делали субботнюю норму выработки в другие дни, выходили в рабочую зону, садились к станку, но к работе не приступали. Детали были уже готовы заранее.
– Мы с тобой последние из маранов! – шутил по этому поводу Иосик.
Но и хитрая тактика не помогла. Нас начали наказывать. Еще при мне Иосифа лишили свидания за соблюдение субботы. Много лет он не видел родных. Иосиф направлял заявления на имя руководителя советской делегации на совещании по европейской безопасности. Он спрашивал, как увязать обязательство соблюдения религиозных прав с полным запретом религиозной практики. Заявление попало в прокуратуру РСФСР. Оттуда его переслали в лагерное управление с рекомендацией наказать автора. Но вместо наказания последовал аргументированный письменный ответ. Иосику сообщали, что «заключительный акт» Европейского совещания – документ декларативного характера, а не закон, и соблюдать его не обязательно.
Молитва вслух запрещена в местах заключения еще майским Декретом Совнаркома от 1918 года как «религиозная пропаганда». Ответ заканчивался угрожающим предостережением не поднимать больше эту запретную тему.
* * *
Одним из самых симпатичных узников был миниатюрный зеленоглазый мальчик – Степан Сапеляк. Он родился в селе Росохач Чорткивского района на Тернополыцине, учился в Чорткиве. Он любил свой народ просто и естественно, как листок любит свое дерево. С детства слышал песни про героическую борьбу УПА. Официальных советских песен народ не признавал. В селе был исторический курган с похороненными там еще во времена средневековья казаками, павшими в боях за самостоятельность края. Позже в нем хоронили героев борьбы за независимость последующих эпох. Все власти – австрийская, царская, польская, немецкая – пытались разрушить курган, но народ насыпал его снова.[254]
Только советы довели дело до конца. Как ни старались крестьяне восстанавливать разрушенное, большевики взрывами и бульдозерами не оставили от кургана и следа, разбросав кости воронам.
В отместку молодые хлопцы взорвали памятник оккупанту, который грозил сельскому люду своим каменным автоматом. В Чорткиве в 55-ю годовщину провозглашения УНР они вывесили национальные флаги и листовки, посрывав предварительно отовсюду кровавые полотнища. Население с большим подъемом встретило эту перемену. На листовках народ от руки дорисовывал тризубцы, дописывал: «Москалi, забирайтесь геть!»
Несколько летчиков из местной военной школы попросили перевести их назад в Россию, так как «бандеровцы им угрожают». Одного старика-сторожа допрашивали, как это возле охраняемой им бани на высокой и тонкой стальной мачте вместо красного флага оказался желто-голубой.
– Я, пане, вечером посмотрел – вижу ваш флаг. Ну я и пошел себе спать. А утром просыпаюсь, смотрю – уже наш флаг!
За одно это простодушное «наш», «ваш» – старика чуть было не посадили.
– Ой, чоловiче! – захлебывался зеленоглазый мальчик, по-детски припадая от смеха к моему плечу.
Этому удивительно чистому парню с прирожденной внутренней культурой в лагере довелось немало испытать.
Его избил офицер Мелентяй, из-за этого вспыхнула забастовка. Шовинисты пытались ее сорвать, называя сопротивление «хохлацко-жидовскими происками».
Позже Сапеляка возили на Украину, где «перевоспитывали» в КГБ, прополаскивали мозги, угрожали избить черными дубинками, «пустить по волнам». Содержали в ужасных условиях. Требовали, чтобы он «признался» перед туристкой-украинкой из-за границы, что он никакой не политический, а «хулиган», что никакого избиения не было, и забастовки не было, и самого лагеря тоже не было.
– А уж мы отблагодарим, – подло подмигивали чекисты.
Возили на пляж, подзывали девушек, предлагали ему вот сейчас идти в свое село, а назавтра написать раскаяние и больше не возвращаться в лагерь.
Сапеляк отказался выходить из машины.
– А, так ты и с лавочниками имел дело! – гремел на него кагебешник.[255]
– С какими лавочниками? – не понял Степан.
– Да с евреями, с этими изменниками! – и лицо чекиста исказилось от ненависти.
От промывания мозгов у Степана страшно поднялось давление крови, но «врачи» лечить отказывались, только смотрели на него молча совиными глазами.
Нежелание «раскаяться» повлекло за собой новые гонения: ежемесячно паренька бросали в карцер, а теперь отправили во Владимир.
В карцере он поворачивался спиной к входящему чекисту Черняку, и тот озверело выкривал:
– Высушу так, что камни будешь в карманы класть, чтобы ветром тебя не унесло!
По три-четыре раза в день Сапеляка в карцере раздевали догола, рылись в его белье. Бдительность!
– А вы не боитесь, что я в это время убегу? – как-то спросил голый Степан у мента, с головой ушедшего в его кальсоны.
– Нет, я же сквозь ширинку за тобой наблюдаю, – серьезно ответил ментовский голос из кальсон.
* * *
В начале июля 1976 года меня внезапно прямо с работы сняли на этап. Едва успел попрощаться на ходу с друзьями. На вахте оказался вместе с Ашотом Навасардяном.
Гадаем, куда это нас. Может быть, в Пермскую тюрьму? После сверхусиленного обыска всю мою одежду заменяют на новую, со склада. Боятся выхода информации. Если б могли, то и тело выдали бы новое, и душу. Все бумажное до последнего клочка забирают на проверку.
В воронке – слой пыли в палец толщиной. Жара, пылища лезет в нос. Последний раз трясусь по ухабам.
После ночевки в Пермской тюрьме нас разлучают. Тайно удалось проведать, что его везут в Ереван, а я еду на Украину. Из Перми меня почему-то отправляют в Казанскую тюрьму. Глухая треугольная камера без окон и отдушин. Менты открывают кормушку, чтобы хоть из коридора проникал спертый воздух. Параша. Нет умывальника. Вода – на вес золота. Удушливый жар, хожу по пятачку полуголый. Тюрьма переполнена. Некоторые надзиратели распрашивают о политических, [256] с пониманием слушают о борьбе за национальное освобождение. Сказывается татарский колорит.
Еще в 36-ом лагере политзаключенные так повлияли на одного надзирателя-татарина, что тот начал тайно передавать в карцер еду и демонстративно перестал ходить на ментовские политзанятия.
Из Казани везут в Харьков. Все мои вещи отбирают на склад. Ведут в баню, но не дают полотенца.
– И так обойдешься! Потом выдадим!
Благо, что сейчас лето…
Этническая граница Украины из вагона видна отчетливо.
Сначала между покосившихся, почерневших бревенчатых изб начинают попадаться беленькие хатки. Потом их становится все больше, кругом зеленеют садики, палисадники, ухоженные, обильные огородики, аккуратные красивые клумбы, цветники. Вместе с мягким «г» в говорке за окном чувствуется какой-то иной дух, придавленный, но не убитый.
При отъезде из Харьковской тюрьмы конвой обнаруживает в моем чемодане еврейский календарь, выпущенный официально, с разрешения властей, Московской синагогой.
Я поднимаю скандал. После некоторых колебаний календарь мне возвращают. Но победу я торжествовал рано. В вагоне другой конвой. Белобрысый охранник подозрительно смотрит в мою клетку.
– Ты что, политический?
– Да.
Он кивает своим:
– Обыскать! Хорошо обыскать! Календарь отбирают.
– А, евреи, всех их надо вешать! – с ненавистью орет конвоир.
– Хельсинская Декларация гарантирует религиозные права! Брежнев подписывался под ней! Верните мой календарь. Он выпущен в СССР с разрешения соответствующего министерства, это напечатано на обложке.
– А мне плевать на все на это! У меня есть инструкция, где напечатано черным по белому: «Изъятию подлежат ножи, деньги и литература религиозного характера!» Вот, свеженькая! Я подчиняюсь инструкции, а не декларациям! Понял?
Чего же тут не понять. Декларация – для легковерного Запада, а инструкции противоположного содержания – для ментов, чекистов и [257] и конвойных. Каждому свое. Ведь ни один из бесчисленных верующих не был освобожден из лагерей после Хельсинки. Даже баптисты, единоверцы Картера, так по-настоящему и не легализованы. По дороге в Днепропетровск от грязи и лежанья на голой трясущейся деревянной полке у меня на голове вспухает какая-то мягкая гуля. Она не проходит. К врачу обращаться боюсь – уж лучше дождусь освобождения. После выхода из тюрьмы выяснилось, что это атерома, пришлось делать операцию, вырезать. Случай был запущенный, начиналось нагноение.
В Днепропетровской тюрьме меня бросили в одну камеру с уголовником, где день-деньской орало невыключаемое радио. Голова раскалывалась. Письмо с предупреждением родителям, чтобы не ехали встречать меня на далекий Урал, взять отказались. Я объявил голодовку. На третий день голодовки не встал перед ментом, и он ударил меня за это сапогом. Хотя след от удара сохранялся долго, мента не наказали, жалобу о побоях никуда не отправили. Это норма.
Лишь на четвертый день меня перевели в одиночную камеру с поломанной радиоточкой, и я избавился от оглушительного промывания мозгов от подъема до отбоя. Письмо тоже взяли. Вынос из тюрьмы на носилках был нежелателен…
Однако равно нежелательным оказался и мой выезд. Враги понимали, что я видел и пережил слишком много. После выхода из тюрьмы мне назначили надзор. Это почти равносильно домашнему аресту, который можно без суда продлевать до бесконечности. С вечера до утра запрещено выходить из дому. Запрещено посещать кафе или рестораны. Запрещено выезжать из города. Каждые десять дней – отмечаться в милиции. Такая «свобода» ждала меня после лагеря.
– Никто вас отсюда не выпустит, выбросьте это из головы, – внушал мне начальник Павлоградской милиции Петренко.
Мне грозили судом за «тунеядство» и одновременно звонили на предприятия (обычные, гражданские, без секретности), предписывая не принимать меня на работу. Потребовалось колоссальное давление извне и собственная решимость, вплоть до бессрочной голодовки, чтобы стена дала трещину. О том, сколько крови стоил каждый шаг на пути к Израилю, можно написать отдельную книгу. Сначала даже документы на выезд принимать отказывались, не желали рассматривать вопрос.[258]

* * *
Мне удалось познакомиться с поднадзорным Виталием Калиниченко, бывшим политзеком, первым статусником. Калиниченко впервые явочным порядком перешел на статус политзаключенного, отказавшись от рабского труда и выполнения унизительных требований режима. За это он прошел все круги ада: от бесконечного карцера до психушек с пыточными серными уколами, причиняющими невыносимую боль. Сейчас он живет под надзором по адресу: Днепропетровская область, с. Васильковка, ул. Щорса 2. Он хочет эмигрировать, но не имеет даже вызова. Его преследуют, не дают вздохнуть, не хотят выпускать как украинца.
В ужасном положении литовский партизан-двадцатипятилетник Пятрас Ковалюкас. Он живет в г. Даугавпилс (Латвия). Его не отпускают к родителям в Польшу, родителей не пускают к нему даже в гости. Ему запрещают также поселиться в родной Литве. Это тянется уже много лет. Двадцатипятилетнего срока палачам мало.
* * *
Ко мне в гости приезжала Ида Нудель, «мама» узников Сиона. Она во многом помогла мне уехать. Ида – отказница.
– Чекисты делают из нас известных людей, деятелей. Если бы меня не держали здесь насильно столько лет, то ни одна газета до самой моей смерти обо мне и строчки не написала бы.
Ида права. Нередко теперь чекистский молот не крошит, а выковывает героев.
Когда стало ясно, что удержать меня не удастся, чекисты подослали ко мне своего человека, одного старого знакомого. Его целью было запугать меня, чтобы я и по ту сторону железного занавеса сидел тихо, не рыпался. Он угрожал не только «длинной рукой», но и расправой над родственниками, остающимися в империи.
Это пытались сделать с моей женой еще в период следствия. Ее тогда [259] чуть не задавила чекистская автомашина; головорезы нападали прямо на улице. Я же считаю, что гласность, а не молчание – лучшее оружие против них.
Их человек показал мне кусочек пергамента с еврейскими письменами. Он коллекционер, подобрал это в сапожной мастерской, где из такого материала делали подметки. Я сразу признал в сапожном обрезке частицу свитка Святой Торы, которую мы целуем в синагогах, а пришедшие в негодность или ветхость экземпляры хороним в генизах, как людей… На обрезке, в самом центре, красовалось непроизносимое Имя Божье…
– За такие дела погиб Вавилон, – сказал я ему.
Наконец, после всех мытарств, после ада Чопского вокзала, после двух пересадок на словацких перронах я пересек границу имперских владений.
Что за страну я покинул?
Ее олицетворение, олицетворение дряхлости и твердолобости режима – гниющий заживо, безграмотный (судя по его речи), сумрачный Брежнев, бывший бригадир на «Днепрогесе», прославившийся как горький пьяница, матерщинник и взяточник. Его дочь – известная в Москве гулящая девка.
Движущий потенциал русского коммунизма исчерпан, в него больше не верит никто, кроме дураков и детей.
И чтобы сплотить разваливающееся хотя бы негативной идеей ненависти, империя разжигает антисемитизм.
Ее устроила бы связь круговой порукой совместно пролитой еврейской крови…
Но уже ничто не может гальванизировать брежневский живой труп.
Всесторонний кризис подточил корни режима, а смена флага в тоталитарной России связана с великими катаклизмами.
Понять их пружины, их глубинные движущие силы поможет эта книга, бросающая свет в темные бездны сегодняшних концлагерей.
Мир обязан понять, что перед ним самый настоящий двойник нацизма, поставивший себе целью захват мирового господства, искоренение других народов, удушение всего человеческого в человеке. Только это четкое осознание даст человечеству шанс выстоять и победить.[260]