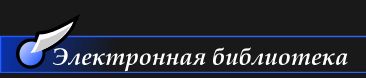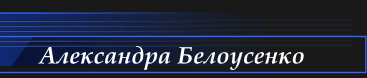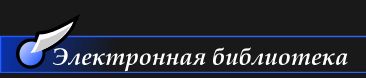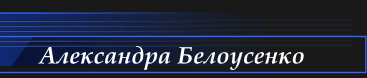Сборник прозы "Прощание с Марией" (1989, пер. с польск.) (html 1,4 mb; pdf 8,5 mb) – cентябрь 2007, август 2020
(издание любезно предоставил Александр Пинскер (Washington, DC);
OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США))
Талантливый польский писатель Т. Боровский (1922-1951) – бывший узник фашистского концлагеря в Освенциме. Главная трагедия концлагерей, к которой привела преступная логика их создателей, – это, по убеждению писателя, выраженному им в рассказах, истребление всего человеческого в жертве, принуждение под страхом смерти к покорности, расчётливое натравливание человека на человека.
(Аннотация издательства)
Содержание:

Тадеуш Древновский. Предисловие. Перевод Ю. Живовой
ПРОЩАНИЕ С МАРИЕЙ
Прощание с Марией. Перевод Е. Гессен
Мальчик с Библией. Перевод В. Бурича
У нас в Аушвице... Перевод Е. Лысенко
Люди шли и шли... Перевод Н. Подольской
День в Гармензе. Перевод К. Старосельской
Пожалуйте в газовую камеру. Перевод Т. Лурье
Смерть повстанца. Перевод Е. Лысенко
Битва под Грюнвальдом. Перевод Е. Лысенко
Родина. Перевод В. Климовского
Январское наступление. Перевод Е. Гессен
Концерт в Герценбурге. Перевод В. Климовского
КАМЕННЫЙ МИР
Краткое предисловие. Перевод К. Старосельской
Каменный мир. Перевод Г. Языковой
Случай из собственной жизни. Перевод Г. Языковой
Смерть Шиллингера. Перевод К. Старосельской
Человек с коробкой. Перевод К. Старосельской
Ужин. Перевод К. Старосельской
Молчание. Перевод К. Старосельской
Встреча с ребенком. Перевод К. Старосельской
Конец войны. Перевод К. Старосельской
Independence Day. Перевод К. Старосельской
Путешествие в пульмане. Перевод К. Старосельской
Комната. Перевод К. Старосельской
Лето в городишке. Перевод К. Старосельской
Девушка из сгоревшего дома. Перевод Г. Языковой
Повышение. Перевод К. Старосельской
Жарким днем. Перевод К. Старосельской
Путевой дневник. Перевод К. Старосельской
Мещанский вечер. Перевод К. Старосельской
Встречи. Перевод Г. Языковой
ВОСПОМИНАНИЯ. Перевод О. Смирновой
От автора
Дорога через лес
Затравленные зверята
Экзамен на аттестат зрелости
Преподаватели и студенты
Портрет друга
Фрагменты из книги:
Обман – наша работа, во время которой нельзя разговаривать, сидеть, отдыхать. Обман – каждая неполная лопата земли, которую мы выбрасываем из рва.
Внимательно приглядывайся ко всему этому и не трать сил, если тебе плохо.
Ведь возможно, что об этом лагере, об этом времени обманов, мы еще должны будем дать отчет живым и встать на защиту погибших.
Когда-то мы ходили в лагерь командами. В такт шагающим шеренгам играл оркестр.
Подошли люди из ДАВ и десятки других команд и остановились у ворот: десять тысяч мужчин. И тогда подъехали из ФКЛ грузовики с голыми женщинами. Женщины протягивали руки и кричали:
– Спасите! Нас везут в «газ»! Спасите нас!
И они проехали мимо нас, мимо стоявших в глубоком молчании десяти тысяч мужчин. Ни один человек не пошевельнулся, ни одна рука не поднялась.
Потому что живые всегда правы перед мертвыми.
* * *
В том, что я говорил, было много наивности, незрелости и жажды комфорта. Но думаю, что мы все же не тратили время попусту. Вопреки ужасам войны мы жили в другом мире. Возможно, ради того мира, который настанет. Если это слишком смело сказано – извини. А то, что теперь мы здесь, – это, пожалуй, тоже ради того мира. Ведь если бы не надежда, что тот, другой мир настанет, что человеку вновь вернут его права, неужели ты думаешь, что мы прожили бы в лагере хоть один день? Именно она, надежда, велит людям апатично идти в газовую камеру, велит не рисковать, не пытаться бунтовать, погружает в оцепенение. Именно надежда рвет узы семьи, велит матерям отрекаться от детей, женам – продавать себя за хлеб и мужьям – убивать людей. Именно надежда велит им бороться за каждый день жизни, потому что, может быть, как раз этот день принесет освобождение. Ах, и это даже не надежда на другой, лучший мир, а просто на жизнь, в которой будет покой и отдых. Никогда еще в истории человечества надежда не была так сильна в человеке, но никогда она не причиняла и столько зла, как в этой войне, как в этом лагере. Нас не научили отказываться от надежды, и потому мы гибнем от газа.
Смотри, в каком оригинальном мире мы живем: как мало сыщется в Европе людей, которые бы не убили человека! И как мало людей, которых другие люди не жаждут убить!
А мы-то мечтаем о мире, где есть любовь другого человека, где можно уединиться от людей и отдохнуть от инстинктов. Таков, видимо, закон любви и молодости.
* * *
– Евреи, они, знаете какие, эти евреи! – вырвался вперед Сташек. – Увидите, они здесь, в своем же лагере, еще гешефт сделают! Они и в крематории, и в гетто – родную мать продадут за миску брюквы! Стоим мы как-то утром в рабочей команде, возле нас крематорная команда, парни что быки, жизнью довольны, еще бы нет! Рядом со мною мой друг Мойше, тот самый, кочегар. Он из Млавы, и я из Млавы, сами понимаете, земляки, значит, друзья и компаньоны, надежность и доверие. «Что с тобой, Мойше? Чего ты такой скучный?» – «Да вот, получил фотографию своей семьи». – «Чего ж ты огорчаешься, это же хорошо». – «Чтоб тебе подавиться таким «хорошо», я отца в печь отправил!» – «Не может быть!» – «Вот и может, отправил. Приехал он в эшелоне, увидел меня возле камеры, я туда людей загонял, он кинулся мне на шею, давай целовать и спрашивать, что тут будет, говорит, голодный, два дня ехали не евши. А тут начальник команды кричит, чтобы не задерживаться, работать надо! Что было делать! «Иди, говорю, отец, помойся в бане, а потом поговорим, видишь, теперь мне некогда». И отец пошел в камеру. А фотографию я потом вынул из его одежды. Вот и скажи, что тут хорошего, что я заимел фотографию?"
* * *
Если бы вдруг рухнули стены бараков, тогда тысячи избитых, сгрудившихся на нарах людей повисли бы в воздухе. Зрелище было бы поужасней средневековых картин Страшного суда. Нет ничего более потрясающего, чем вид другого человека, спящего на своем кусочке нар, на том месте, которое он вынужден занимать, ибо у него есть тело. А уж тело-то использовали на все лады: вытатуировали на нем номер, чтобы сэкономить кандалы, дали столько часов сна ночью, чтобы человек мог работать, и столько времени днем, чтобы мог поесть. А еды ровно столько, чтобы не издох, пока может трудиться. Место для жительства лишь одно: кусочек нар, все остальное принадлежит лагерю, государству. Но этот кусочек места, и рубаха, и лопата – не твои. Заболеешь – все отберут: одежду, шапку, недозволенное кашне, носовой платок. Умрешь – вырвут у тебя золотые зубы, заранее записанные в лагерной книге. Сожгут, пеплом посыплют поля или будут осушать пруды. Правда, при сжигании переводят столько жира, столько костей, столько мяса, столько тепла! Но в других местах делают из людей мыло, из человеческой кожи – абажуры, из костей – украшения. Кто знает, может, все это на экспорт для негров, которых они когда-нибудь завоюют?
Мы работаем под землей и на земле, под крышей и на дожде, у вагонеток, с лопатой, киркой и ломом. Мы таскаем мешки с цементом, кладем кирпич, укладываем рельсы, огораживаем участки, утаптываем землю... Мы закладываем основы какой-то новой, чудовищной цивилизации. Лишь теперь я понял, чего стоят создания древности. Какое чудовищное преступление все эти египетские пирамиды, храмы, греческие статуи! Сколько крови оросило римские дороги, пограничные валы и городские здания! Этот древний мир был гигантским концентрационным лагерем, где рабу выжигали на лбу тавро владельца и распинали на кресте за побег! Этот древний мир был великим заговором свободных людей против рабов!
Помнишь, как я любил Платона? Теперь я знаю, что он лгал. Ибо в земных вещах вовсе не отражается идеал, в них заложен тяжкий, кровавый труд человека. Это мы строили пирамиды, ломали мрамор для храмов и камень для имперских дорог, это мы гребли на галерах и волочили соху, а они писали диалоги и драмы, оправдывали свои интриги благом отечества, воевали за границы и за демократию. Мы были грязны и умирали всерьез. У них был эстетический вид, и они спорили для вида.
Я говорю «нет» красоте, если в ней таится издевательство над человеком. Нет – истине, которая об этом издевательстве умалчивает. Нет – добру, которое его дозволяет.
* * *
Поразительна история здешней фирмы «Ленц». Фирма эта построила нам лагерь, бараки, цеха, склады, карцеры, печи. Лагерь ссужал ей заключенных, а СС поставляло материалы. При подведении итогов выявились настолько фантастические, миллионные прибыли, что за голову схватился не только Аушвиц, но сам Берлин. Господа, сказали там, это невозможно, вы слишком много заработали, столько-то и столько-то миллионов! Однако, возразила фирма, извольте, вот счета. Пусть так, сказал Берлин, но мы не можем этого допустить. Тогда пополам, предложила патриотическая фирма. Тридцать процентов, еще поторговался Берлин, на том и сошлись. С тех пор все прибыли фирмы «Ленц» соответственно срезаются. Впрочем «Ленц» не огорчается: как все немецкие фирмы, она умножает основной капитал. На Освенциме она нажила громадные прибыли и спокойно ждет конца войны. Точно так же «Вагнер» и водопроводная фирма «Континенталь», фирма «Рихтер» по артезианским скважинам, «Сименс» – освещение и электрическое оборудование, поставщики кирпича, цемента, железа и леса, производители барачных секций и полосатой одежды. Равно как крупнейшая автомобильная фирма «Унион» и заведения ДАВа, занимающиеся сортировкой металлолома. Равно как владельцы шахт в Мысловицах, Гливицах, Янине, Явожне. Тот из нас, кто выживет, должен когда-нибудь потребовать эквивалент этого труда. Не деньги, не товары, но тяжкий, беспощадный труд.
* * *

Вот тогда я ближе познакомился с жизнью этого необычного лагеря. Мы приходили утром к лагерным воротам, толкая перед собой тачку с толем и смолой. На вахте стояли эсэсовки – толстозадые блондинки в высоких сапогах. Они обыскивали нас и впускали внутрь. Потом сами являлись в бараки и устраивали шмон. Кое у кого из них, среди плотников и каменщиков, были любовники. И они отдавались им в недостроенных умывальнях, в каморках старост.
* * *
Известно, что в Биркенау и Освенциме становилось со временем лучше, чем было вначале. Раньше избиение и убийство на работах было делом обычным, теперь это случалось реже. Раньше спали на полу и поворачивались на бок по команде, потом на нарах, кому как вздумается, и даже – на койках поодиночке. Первое время на поверке стояли по два дня, потом – только до второго свистка: до девяти часов. Вначале присылать посылки не разрешалось, потом разрешили – по пятьсот граммов, а потом – сколько угодно. Вначале в Биркенау запрещалось иметь карманы, потом позволили всем. Спустя три-четыре года в лагере становилось «все лучше»! Не верилось, что раньше так было, и люди, пережившие это, гордились собой. Чем хуже у немцев дела на фронте, тем лучше в лагере. А поскольку на фронте дела у них все хуже...
* * *
С крыши хорошо было видно пламя костров и дымящие крематории. Люди входили в помещение, раздевались, эсэсовцы быстро закрывали и наглухо задраивали окна. Через несколько минут – их едва хватало на то, чтобы промазать смолой кусок толя, – открывали окна, боковые двери: проветривали помещение. Являлась зондеркоманда и сбрасывала трупы в огонь. И так каждый день с утра до вечера.
Бывало, пропустят эшелон через газовую камеру, а тут привезут с опозданием больных и тех, кто их сопровождает. Травить их газом не окупалось: слишком дорого. И обершарфюрер Моль расстреливал из карабина голых людей или живьем сталкивал в полыхающий огнем ров.
Как-то привезли на машине молодую женщину, – она не захотела расставаться с матерью. Они разделись, и первой увели мать. Приставленный к дочери мужчина, пораженный красотой ее тела, от удивления остановился и почесал затылок. Этот простецкий, но такой по-человечески естественный жест вывел ее из оцепенения. Покраснев, она схватила его за руку.
– Скажи, что со мной сделают?
– Наберись смелости, – сказал мужчина, не отнимая руки.
– Я смелая! Видишь, не стыжусь тебя! Скажи!
– Главное, наберись смелости. Идем! Я пойду с тобой. Только не смотри.
Он взял ее за руку и повел, заслонив ей ладонью глаза. Треск и чадный запах горящего жира, полыхнувший откуда-то снизу жар испугали ее, и она стала вырываться. Мужчина мягким движением пригнул ей голову, открывая затылок. И в ту же минуту обершарфюрер Моль выстрелил, почти не целясь. А мужчина столкнул ее в ров, в бушующее пламя. И, когда она падала, услышал душераздирающий, прерывистый крик.
* * *
Лязгнули запоры – вагоны открыли. Волна свежего воздуха ворвалась внутрь и ошеломила людей как угар. Скученные, придавленные чудовищным количеством багажа, чемоданов, чемоданчиков, рюкзаков, всякого рода узлов (ведь они везли с собой все, что составляло их прежнюю жизнь и должно было положить начало будущей) люди ютились в страшной тесноте, теряли сознание от зноя, задыхались и душили других. Теперь они толпились у открытых дверей, дыша, как выброшенные на песок рыбы.
– Внимание. Выходить с вещами. Забирать все. Весь свой скарб складывать в кучу около вагона. Пальто отдавать. Теперь лето. Идти налево. Понятно?
– Пане, что с нами будет? – Взволнованные, встревоженные, они уже соскакивали на гравий.
– Откуда вы?
– Сосковец, Бендзин. Скажите, что будет? – упрямо повторяют они вопрос, жадно вглядываясь в чужие усталые глаза.
– Не знаю, не понимаю по-польски.
Таков закон лагеря: людей, идущих на смерть, обманывают до последней минуты. Это единственно допустимый вид жалости.
* * *
Западная Германия кишела тогда табунами людей – голодных, отупевших, смертельно перепуганных, опасающихся всего на свете, не знающих, где, на сколько и зачем они задержатся, людей, перегоняемых из городка в городок, из лагеря в лагерь, из казармы в казарму и столь же отупевшими и перепуганными тем, что они увидели в Европе, молодыми американскими парнями, которые прибыли сюда в роли апостолов, чтобы завоевать и обратить в свою веру материк, и, обосновавшись в своей зоне оккупации Германии, принялись усиленно обучать недоверчивых и неподатливых немецких бюргеров демократической игре – бейсболу и основам взаимного обогащения, обменивая сигареты, жевательную резинку, презервативы, печенье и шоколад на фотоаппараты, золотые зубы, часы и девушек.
Воспитанные в поклонении успеху, который зависит только от смекалки и решительности, верящие в равные возможности каждого человека, привыкшие определять цену мужчины суммой его доходов, эти сильные, спортивные, жизнерадостные, полные радужных надежд на уготованную судьбой удачу, прямые и искренние парни с мыслями чистыми, свежими и такими же гладко отутюженными, как их мундиры, рациональными, как их занятия, и честными, как их простой и ясный мир, – эти парни питали инстинктивное и слепое презрение к людям, которые не сумели сберечь свое добро, лишились предприятий, должностей и работы и скатились на самое дно; в то же время они вполне дружелюбно, с пониманием и восхищением относились к вежливым и тактичным немцам, которые уберегли от фашизма свою культуру, а также к красивым, крепким, веселым и общительным немецким девушкам, добрым и ласковым, как сестры. Политикой они не интересовались (это делали за них американская разведка и немецкая пресса), полагали, что свое они сделали, и стремились вернуться домой, отчасти от скуки, отчасти от ностальгии, а отчасти опасаясь за свои должности и карьеру.
* * *
«Красивый город! – подумал он. – Древние, мудрые камни! Они переживут всех нас, и им не понадобятся наши свидетельства!»
Как тебе известно – не пережили. 13 февраля 1945 года Дрезден был уничтожен американскими самолетами. Это был налет, так сказать, политический. Советская Армия стояла в нескольких километрах от пригорода. Русские хотели взять город целым, воспользоваться мостами и дорогами. Фашисты знали, что им не удержать город, к тому же в нем размещался миллион беженцев со всей Германии. Но оставалась третья возможность, и ею воспользовались американцы. За час бомбежки город превратился в пепелище, а беженцы – в груды дымящегося мяса. Кто сидел в убежище – спекся живым. Кто убегал на берег реки или в городские парки, тех косили самолеты, пролетая над самыми верхушками деревьев. После налета отряды СС обливали штабеля трупов бензином и сжигали; взрывали заводы и мосты. Враги поладили друг с другом: обе стороны знали, что по Ялтинскому соглашению Дрезден отходит к советской зоне оккупации.
* * *
Весной, когда немецкие войска ударили на Данию и Норвегию, а потом сразу же, как нож в тело, врезались во Францию, в Варшаве начались первые облавы. Огромные немецкие фургоны, крытые брезентом грузовики стаями въезжали в город. Жандармы и гестаповцы окружали улицу, загоняли всех прохожих в машины и везли в Германию на работы, а обычно ближе – в Освенцим, Майданек, Ораниенбург, – пресловутые концентрационные лагеря. Сколько людей выжило из двухтысячного эшелона, который в августе 1940 года прибыл в Освенцим? Может быть, пятеро. Сколько выжило из семнадцати тысяч людей, вывезенных с варшавских улиц в январе 1943 года? Двести? Триста? Не больше!
Именно в период этих первых немецких облав, которые казались абсурдом в столице большого государства, внезапно превращенной в джунгли, в период, когда Гитлер фотографировался на Эйфелевой башне, а огромные эшелоны польских узников направлялись в Ораниенбург, именно тогда мы четверо: Анджей, Аркадий, Юлек и я, – мы четверо сдавали на аттестат зрелости.
И не только мы. Не отстала ни одна варшавская гимназия. Всюду, – в гимназии имени Батория, имени Чацкого, Лелевеля, Мицкевича, Сташица, Владислава IV, в женских гимназиях – имени Плятер, Королевы Ядвиги, Конопницкой, Ожешко, во всех частных гимназиях, начиная с лучших из них – таких, как Св. Войцеха и Замойского, – всюду шли экзамены на аттестат зрелости, придирчивые, обстоятельные, такие, как каждый год, как всегда, с тех пор как существует современная польская школа.
Тадеуш Боровский
ПОГИБШИЕ ПОЭТЫ
Вы сожжены, вы расстреляны, вы безмолвны,
мои товарищи юности, я пишу вам.
Текут и текут над вами земные волны,
шумят – зеленым шумом.
В темных земных пучинах полузамерзших
пусто, недвижно, немо в загробном мире –
где же такая боль, чтобы губы мертвых
заговорили?
Ночь, над стволами, из вас растущими, высясь,
вихрем шумит, будто все же еще зачем-то
ваши уста, на которых земля да известь,
слов ищут тщетно –
Поздно уже, слишком поздно связанным крепко
руки заламывать в бурях неугомонных.
Тщетно живых вы зовете в выкриках ветра,
в горестных стонах.
Тщетно, все уже тщетно. Вихрь клубится заблудший,
зовет травяная глубь, лугов замогильных зелья,
дальше иду, под землю, глубже и глубже,
к вам в подземелья.
Поздно уже, слишком поздно. И я умолкну,
мину, кану в забвенье. В мертвых зеницах
деревья колышутся, с иволгами, а волны
ослепших земных потоков будут струиться –
И мы, привыкнув к папоротниковым корневищам,
к корням берез, к гущине малины дичайшей,
плывем, умолкнув, куда? и чего мы ищем?
дальше, дальше – –
Перевёл Владимир Британишский
Страничка создана 21 сентября 2007.
Последнее обновление 18 августа 2020.