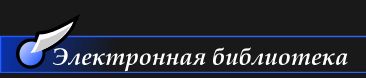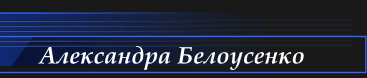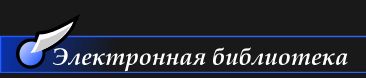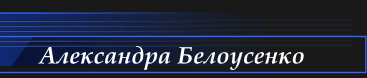|
|

Виктор Платонович НЕКРАСОВ
(1911-1987)
НЕКРАСОВ Виктор Платонович [4(17).6.1911, Киев – 3.9.1987, Париж] – прозаик.
В последней, написанной в эмиграции, за полтора года до смерти автобиографии рассказывал о себе: «Отец – Платон Федосеевич Некрасов – банковский служащий (1878-1917). Мать – Зинаида Николаевна Некрасова (до брака Мотовилова) – врач (1879-1970). Детство провел в Лозанне (мать окончила медицинский факультет Лозаннского университета) и в Париже (мать работала в военном госпитале). В 1915 году вернулись в Россию и обосновались в Киеве. После окончания школы учился в железнодорожно-строительной профшколе, в Киевском строительном институте (закончил архитектурный факультет в 1936 г.) и в театральной студии при киевском Театре русской драмы (закончил в 1937 г.). До начала войны некоторое время работал архитектором, потом актером и театральным художником в театрах Киева, Владивостока, Кирова (бывш. Вятка) и Ростова-на-Дону. С августа 1941 года – в армии. Воевал в Сталинграде, на Украине, в Польше. После второго ранения в 1944 г. демобилизовался в звании капитана. Награды – медаль "За отвагу" и орден Красной Звезды. С 1945 по 1947 работал журналистом в киевской газете "Советское искусство"».
В 1946, сообщает далее Н., он опубл. в ж. «Знамя» (№ 8-10) пов. «В окопах Сталинграда». В 1947 она была удостоена Сталинской (Гос.) премии; в последующие годы переиздана большинством сов. издательств общим тиражом в неск. миллионов экземпляров, переведена на 36 языков, в т. ч. на французский. Основные произв. последующих лет: повести «В родном городе» и «Кира Георгиевна», сборник военных рассказов «Вася Конаков» (все три изданы во Франции). Кроме того, очерки о путешествиях: «Первое знакомство», «Месяц во Франции», «По обе стороны океана». Последняя книга была раскритикована Н. С. Хрущевым (1963), что привело в конце концов к исключению Н. из КПСС (вступил в 1943 в Сталинграде) и из СП СССР.
В 1974 писатель эмигрировал во Францию, гражданином которой стал в 1983. Во Франции написаны книги: «Записки зеваки», «Взгляд и нечто» (опубл. франц. изд-ва), «По обе стороны стены...», «Из дальних странствий возвратясь...», «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы...», «Маленькая печальная повесть» (опубл. рус. эмигрантские изд-ва). Вел регулярные передачи на радиостанции «Свобода». В 1957 по повести «В окопах Сталинграда» на Ленинградской киностудии был поставлен фильм «Солдаты» (во франц. кинопрокате «Четверо из Сталинграда»). Был членом франц. Пен-клуба, Баварской Академии искусств.
Нек-рые жизненные коллизии, лаконично изложенные в автобиографии Н., требуют более подробного освещения – прежде всего история его долголетней травли, которая началась с жестокой критики его очерка «По обе стороны океана» Хрущевым, заявившим, что автору не место в КПСС (Хрущев Н. С. Речь на Пленуме ЦК КПСС 21 июня 1963 // "Правда", 1963, 29 июня). Последовали «оргмеры»: Н. перестали печатать, стали клеймить позором на собраниях, в газетах, по партийной линии ему вынесли строгий выговор. После падения Хрущева писателя на время оставили в покое. Но в 1969, после того как Н. подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и выступил в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яре, на него было заведено новое персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором. В 1972 «...за то, что позволил себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии», как было сказано в решении,.Н. исключили из КПСС. Его снова перестали печатать, были остановлены съемки к/ф по его сценарию, отменена публикация статей, посв. его творчеству. После продолжавшегося почти двое суток обыска и серии многочасовых допросов в КГБ Н. пришлось эмигрировать. Его книги были изъяты из библиотек, имя запрещено упоминать в печати, оно вычеркивалось даже в библиогр. справочниках; писатель был лишен сов. гражданства. И даже в годы «перестройки» после его кончины в «Лит. газ.» был снят написанный В. Быковым некролог.
Н. не был, однако, случайной жертвой режима. С самого начала все, что он писал, никак не вписывалось в рамки одобряемой сов. властями лит-ры. Его первую пов. «В окопах Сталинграда» от запланированного руководством СП разгрома спас необъяснимый каприз И. Сталина, внесшего имя Н. в список лауреатов Сталинской (Гос.) премии. Однако эта «охранная грамота» на дальнейшее его творчество не распространялась. Написанное позже, как правило, подвергалось инспирированной руководящими идеологическими службами резкой уничтожающей критике. Так было с пов. «В родном городе» (1954), рассказывающей о драматической судьбе фронтовиков, столкнувшихся по возвращении в мирную жизнь с непробиваемым партийно-бюрократическим бездушием. Так было и с повестью «Кира Георгиевна» (1961), в которой причины конформизма, душевной опустошенности, нравств. недугов интеллигенции автор видит в разлагающей общество нехватке воздуха свободы (книга пролагала путь т.н. «городской» прозе). Официозная критика встречала в штыки не только худож. произв. Н. Громили и его заметки об иск-ве: «Слова "великие" и простые» (Иск-во кино. 1959. № 5), в которых автор выступал против напыщенной героической риторики, котурнов, велеречивой патетики; «О прошлом, настоящем и чуть-чуть о будущем: Заметки об архитектуре» (Лит. газ. 1960. 20 февр.), посв. безвкусной монументальности и убогому однообразию тогдашнего сов. градостроительства. Его эстетические взгляды квалифицировались как идейно порочные, а потому подлежащие решительному искоренению.

Главной книгой Н. стало его первое произв. – пов. «В окопах Сталинграда». Она оказалась самым высоким его достижением. Он написал потом неск. очень сильных рассказов о войне: «Судак» (1958), «Вторая ночь» (1960) и др.; их можно поставить рядом с этой книгой, но не над ней. Это было первое произв. не о войне, а изнутри войны, рассказ не наблюдателя, а участника, находившегося на переднем крае. Н. стал признанным лидером столь заметно заявившей о себе на рубеже 50-60-х гг. и игравшей затем очень большую роль в нашей духовной жизни «лейтенантской литературы» (хотя среди ее авторов были и солдаты). Перефразируя известную формулу прошлого века, можно так определить роль повести Н.: «Все мы вышли из некрасовских окопов». А. Твардовский писал об этой повести: «Первое очевидное достоинство книги – то, что, лишенная внешне сюжетных, фабульных приманок, она заставляет прочесть себя одним духом. Большая достоверность свидетельства о тяжелых и величественных днях борьбы накануне "великого перелома", простота и отчетливость повествования, драгоценнейшие детали окопного быта и т. п. – все это качества, предваряющие несомненный успех книги у читателя. О ее существенном содержании можно сказать примерно так. Это правдивый рассказ о великой победе, складывавшейся из тысяч маленьких, неприметных приобретений боевого опыта и морально-политического превосходства наших воинов задолго до того, как она, победа, прозвучала на весь мир. И рассказ этот – литературно полноценный, своеобычный, художнически убедительный...» (внутренняя рецензия от 8 нояб. 1946 // Вопросы лит-ры. 1988. №10. С. 216).
Твардовский проницательно определил существенные особенности содержания и поэтики повести Н., которые официозной критикой рассматривались как опасные, губительные пороки,– ею были пущены в ход устрашающие ярлыки: «окопная правда», «дегероизация», «очернительство», «абстрактный гуманизм». Н. рассказал о том, что видел своими глазами его герой – один из защитников Сталинграда, воссоздал в точных, неповторимых подробностях – психологических, бытовых, батальных – невиданно ожесточенные бои. Эти детали сливаются, прорастают друг в друга, создавая общую панораму фронтовой действительности,– такова поэтика Н. С. Эйзенштейн посвятил лекцию во ВГИКе разбору одного эпизода повести. Режиссер показал, как при абсолютной естественности, неподстроенности весома и многозначна в исповедуемой Н. эстетике каждая деталь. Из всех этих ненамеренных, невыпяченных, непедалированных подробностей как бы сама собой, без дидактики, складывается не лежащая на поверхности главная идея произв.: битва за Сталинград была выиграна благодаря самоотверженности, патриотическому воодушевлению множества обыкновенных, рядовых защитников города, не отдававших себе отчета в своей доблести, не склонных видеть в себе богатырей, героев. Повесть написана от первого лица и во многом носит автобиогр. характер. Это придает ей интимную достоверность и резко приближает к читателю изображаемые события. Книга Н. действительно, как заметил Твардовский, лишена «внешне сюжетных, фабульных приманок» (Там же), читателя увлекает напряженный лирич. сюжет, органически включающий, однако, то и дело возникающие отступления – воспоминания героя, его размышления, его рефлексии. Автобиографичность и лиризм, свободное повествование, организуемое внутренним сюжетом, были особенностями не только этой повести, а свойством творческой личности и худож. манеры Н., отчетливо проступающим и в его поздних, написанных в эмиграции вещах: очерках «Записки зеваки» (1975), «Взгляд и нечто» (1976), «По обе стороны стены...» (1978), «Из дальних странствий возвратясь...» (1979-81), пов. «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы...» (1983), «Маленькая печальная повесть» (1986). При этом чем полнее и ярче эти качества реализовались в прозе Н., тем выше был ее худож. уровень.
Соч.: Вася Конаков: Рассказы. М, 1961; Избр. произв.: Пов., рассказы, путевые заметки. М., 1962; В жизни и в письмах. М., 1971; Из дальних странствий возвратясь... // Время и мы. [Тель-Авив]. 1979. №№48, 49; 1981. №61; Написано карандашом: Пов. Рассказы. Путевые заметки. Киев, 1990; Маленькая печальная повесть: Проза разных лет / Послесл. А.Берзер «Мамаев курган – Париж». М., 1990; В самых адских котлах побывал...: Сб. пов. и рассказов, восп. и писем. М., 1991; По обе стороны океана, Записки зеваки; Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы... М., 1991; Записки зеваки: Ром. Пов. Эссе / Вст. ст. Е. Эткинда. М., 1991.
Лит.: Платонов А. В окопах Сталинграда // Огонек. 1947. №21; Рюриков Б. Окопные будни и их героика // Звезда. 1947. №5; Александров В. Керженцев и его товарищи // Лит. газ. 1947. 7 июня; Эйзенштейн С. Вопросы композиции // Вопросы кинодраматургии. Вып.1. М., 1954; Рюриков Б. Еще о правде жизни: Лит. заметки // Лит газ. 1955. 27 авг.; Виноградов И. На краю земли // Новый мир. 1968. №3; Твардовский А. В. Некрасов: В окопах Сталинграда // Вопросы лит-ры. 1988. №10; О Викторе Некрасове: Восп. Киев, 1992; Есаулов И. Сатанинские звезды и священная война // Новый мир. 1994. №4; Лазарев Л. Былое и небылицы: Полемические заметки // Знамя. 1994. №10.
Л. И. Лазарев.
(Из биографического словаря "Русские писатели XX века")
Произведения:
Повесть "В окопах Сталинграда" (1946) (html 550 kb; pdf 15,5 mb) – сентябрь 2009, апрель 2020
Фрагменты из повести:
Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас – смерть.
* * *
Возвращаются саперы. Вволакивают что-то внутрь – тяжелое и неуклюжее. Гаркуша вытирает лоб, тяжело дышит.
– Бояджиева ранило,– грузно опускается на койку.– Челюсть оторвало.
Бойцы молча, тяжело дыша, усаживают раненого напротив, на другой койке. Он, как неживой, валится на нее, обмякший, с бессильно упавшими на колени руками, с опущенной головой. Она обмотана чем-то красным. Гимнастерка в крови.
– Назад возвращались... Увидел... из минометов начал. Кольцова убило... Следов даже не нашли. А ему вот – челюсть.
Раненый мычит. Мотает головой. У ног его уже небольшая, круглая лужица крови. Маруся снимает повязку. Сквозь ее мелькающие руки видны нос, глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос. А внизу ничего, черное и красное. Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку. И мычит, мычит, мычит...
* * *
Вот они – эти несколько домов. Вот он – Мамаев, плоский, некрасивый. И, точно прыщи, два прыща на макушке – баки... Ох, и измучили они нас. Даже сейчас противно смотреть. А за теми вот красными развалинами,– только стены как решето остались,– начинались позиции Родимцева – полоска в двести метров шириной. Подумать только – двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров! Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров... Хо-хо!
А Чумак спрашивает почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня – почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. "Зачем добро бросать – пригодится". Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его – бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит меня – почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы – почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал, его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленый такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил.
Повесть "По обе стороны Стены" (1978) (html 207 kb; pdf 10,2 mb) – август 2003, апрель 2020
Фрагмент из повести:
"Недалеко от Фридрихштрассе, возле контрольно-пропускного пункта со странным названием Чекпойнт-Чарли, почти прилепившись к стене, – музей, самый интересный из всех, что я когда-либо в жизни видел. Музей берлинской Стены.
Нет, это не точно. Музей – это нечто тихое, спокойное, с анфиладами зал, дремлющими в углу сторожихами, собрание чего-то прекрасного, чем человечество может гордиться. Здесь же наоборот – нечто постыдное, человечество позорящее. На двух этажах тесного помещения, бывшего, очевидно, когда-то магазином, собрано с любовью и ненавистью всё, что связано с событиями 13 августа 1961 года.
Я никогда не думал, что фотографии могут произвести такое впечатление. Честь и хвала тем, кто снимал. Сняты не только факты, мгновения: люди кидаются из окон, выбрасывают детей (внизу, правда, пожарники), спускают вниз каких-то старух – нет, удалось схватить самое важное, самое поразительное – психологию всех этих событий, лица, лица, лица... Особенно ГДРовских пограничников. Удивляешься, откуда столько злобы, ненависти, тупости. Но вот один, совсем молоденький, пожалел малыша, которого разлучили с родителями, и растянул колючую проволоку, чтобы тот мог проскочить. Но застукало начальство и... Вот этот момент и заснят.
Другой парень. Постарше. Пытался перебраться через стену. Подстрелили. Целый час пролежал, обливаясь кровью, пока его вытащили уже мертвым. А в окнах люди, смотрят, молчат, боятся...
Люди в окнах. Это целая история. Скоро эти окна замуруют. Последний взгляд на то, что видел целую жизнь. Улица, дом, газетный киоск".
Рассказы: (html 149 kb) – август 2003
Мраморная крошка
День Победы
Мама
Виктория
Фрагменты рассказа "День Победы":
...Первые дни, месяцы после демобилизации долго еще
снились всякие бомбежки, „Юнкерсы", „Хейнкели", верткие „Мессера", артобстрелы. Потом всё реже и реже. А сейчас? Прошло столько лет, а годы эти, кровавые, страшные, кругом смерть, – вспоминаются ну, не с нежностью, и вовсе не как героические, но вроде как чистые, незапятнанные. В госпиталях было просто отлично, благо, оба раза был ходячим. Врачи, сестрички, ребята по палате – все хорошие. Палата офицерская, двадцать шестая.
Трое лейтенантов, два капитана, ну и один солдат, на побегушках, за выпивкой, базар рядом, в двух кварталах. „Пейте, ребята, – молила завотделением пышнотелая Ася Аркадьевна, – пейте, но, молю вас, только в палате. Не пикируйте, Христа ради, засекут, мне же неприятности будут..." Иной раз и сама забежит, пригубит слегка. Старше майора в камеру не принимали. Политруков тоже, от ворот поворот. „Политработник?" – „Да" – „Вали отсюда. Здесь воевавшие. Попробуй в тридцатую, может примут".
Хорошо в госпитале...
* * *
...Один только случай омрачил праздник. О нем не хотелось вспоминать. Но вспоминалось. В тот самый яркий, солнечный день где-то за Мамаевым курганом Карташов обнаружил в полуразвалившейся халупе человек десять-двенадцать раненых немецких солдат. Жалкие, замерзшие, голодные, они попросили у него курева. Он отдал им всё, что у него было. Через час-другой вернулся, притащил кое-что пожрать. Все они были убиты. Какая-то пьяная сволочь покончила со всеми автоматной очередью... Это был единственный случай жестокости, с которым столкнулся на фронте Карташов...
Повесть "Саперлипопет" (прежнее название повести "Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы" – Overseas Publications Interchange Ltd, 1983) (html 560 kb; pdf 4,4 mb) – июль 2007, апрель 2020
Фрагменты из повести:
Что ж это такое, советский писатель?
Весь мир считает, что скучнее и серее советской литературы ничего нет. Все по заказу.
По заказу, не спорю. И человек, охотно или неохотно выполняющий его, щедро вознаграждается. Но все ли его выполняют, этот заказ? Нет, не все. И именно поэтому русская, советская (уточним, появившаяся на свет после семнадцатого года) литература, безусловно, интереснейшая в мире.
Бежать по утоптанной дорожке куда легче, чем по рытвинам и ухабам. Рекорды, установленные в Мексике, куда выше достигнутых в Мюнхене, Риме или Мельбурне – на высоте 2500 тысяч метров воздух разреженнее. Воздух московских (и прочих советских) издательств – воздух погреба, а дорожка, по которой писатель бежит, усеяна не только рытвинами и ухабами, она заминирована. Добежать до финиша не легче, чем легендарному Джесси Оуэнсу в Берлине под ненавидящим взглядом самого фюрера.
То, что написать хорошую книгу в нашей стране трудно, – это аксиома. Под хорошей подразумевается правдивая, говорящая не о пустяках, а о чем-то существенном, я не говорю уже о самом главном. Впрочем, Василий Семенович Гроссман попытался это сделать, написав «Жизнь и судьбу», вторую часть разруганного в свое время романа «За правое дело». Написал о самом главном и страшном, о тождестве двух вроде бы враждебных систем и – о! как легко было всех нас купить в те годы обманчивой оттепели – отдал не кому-нибудь, а в «Знамя», бездарному и трусливому Вадиму Кожевникову. Результат известен – рукопись арестовали. В сталинские годы та же судьба постигла бы и автора, но шестидесятые годы отличались все же от пятидесятых.
* * *
М-да... Я-то хорошо помню, когда «это» началось. Очень хорошо. В 1946 году еще. Когда Сталин руками и устами спившегося алкаша Жданова нанес первый после войны удар по литературе. Зощенко был назван тогда пошляком и подонком литературы, Ахматова – блудницей и монахиней, у которой блуд смешан с молитвой, и оба они, и он, и она, не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе.
С этого все и началось.
Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», доклад Жданова на эту же тему и покаянная статья редакции «Знамени» напечатаны были в том самом, десятом, номере журнала, где и мои «Окопы», называвшиеся тогда «Сталинградом», вторая их часть.
Вот так, не успел я вылупиться, как сразу же окунули в дерьмо...
Повесть "Записки зеваки" (1975) (html 589 kb; pdf 754 kb) – июль 2008, апрель 2020
Фрагменты из повести:
Нынешняя жизнь сложилась так, что у среднего, нормального гражданина нет времени глазеть и на что-либо засматриваться – он всегда занят. А когда не занят, в лучшем случае читает, ходит в театр, занимается спортом, в худшем – смотрит телевизор, поучает детей, как надо жить, или пьет. Конечно же, быть зевакой, то есть, на его взгляд, быть бездельником, у него нет времени, да и охоты, и поэтому зевак он презирает. Я же не только не презираю, но защищаю и утверждаю, что зевакой быть надо, то есть быть человеком, который, как сказал Гаршин, «не пропустит интересного зрелища». А интересное зрелище вовсе не слон, которого водят по улице (его можно увидеть и в зоопарке, и рассматривание его там почему-то не считается «зевачеством»), – интересное разбросано буквально на каждом шагу, оно у нас под ногами, пред глазами, над головой, но мы его просто не замечаем. Не замечаем потому, видите ли, что мы люди дела, люди занятые и на пустяки терять время не хотим. Поэтому мы не знаем, как выглядит фасад дома, в котором мы живем (Химки – Ховрино и им подобные московские окраины не в счет), что изображено на барельефе над правым входом в МХАТ или стенах Казанского вокзала. А ведь сделано это для вас, серьезные, занятые люди, именно для вас, и именно для вас я, зевака, и написал эти записки.
* * *
Мимо по асфальту проносятся машины, автобусы, троллейбусы. В ста метрах дальше пестрый, прозрачный навес – остановка троллейбуса «Щербаковский универмаг». По другую сторону – новая телевизионная мачта. За асфальтом пустырь, кустарник, вдалеке новые корпуса Сырецкого массива. Если стать спиной к камню, то по правой стороне пустыря можно увидеть нечто вроде уступа, поросшего кустарником постарше. Это верхняя кромка несуществующего сейчас Яра. Здесь стояли пулеметы. И по другую сторону тоже.
Сейчас Яра нет. От замыт. Его пересекает асфальтированная дорога. Тридцать лет назад этой дороги не было. А был глубокий, до пятидесяти метров, Яр, овраг. Постепенно мелея и расширяясь, он тянулся до Подола, до Куреневки. Это была окраина Киева – Сырец. Жилья здесь не было. Ближе к городу за кирпичной оградой было еврейское кладбище. Сейчас его тоже нет.
Тридцать лет назад, в первую же неделю немецкой оккупации, на стенах киевских домов появились объявления о том, что «все жиды города Киева должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбища) с документами, деньгами, ценными вещами, теплой одеждой, бельем и прочим».
Ни заглавия, ни подписи на серых афишках не было.
Развешены они были по всему городу.
Моя мать тоже читала. У нее было много друзей евреев. Она ходила по этим друзьям и упрашивала, умоляла их никуда не ходить. Бежать, скрыться, хотя бы у нее.
Мне непонятна магия этого объявления. Считали почему-то, что евреев сгонят в гетто. Или увезут куда-то. Куда? Не важно, куда-то...
Никто из маминых знакомых не послушался ее. Пошли. Мама их провожала. Лизу Александрову, маленькую, большеглазую еврейку и ее родителей, стариков. Где-то у еврейского кладбища маму и других провожающих, а их было много, прогнали. Здоровенные солдаты с засученными рукавами и полицаи в черной форме с серыми обшлагами. Где-то дальше, впереди, слышна была стрельба, но мать тогда ничего не поняла...
Трагедия Бабьего Яра известна. Хочу только подчеркнуть – это было первое столь массовое и в столь сжатый срок сознательное уничтожение людьми себе подобных. Сто тысяч за три дня! Разве что Варфоломеевская ночь может сравниться – там было убито до тридцати тысяч гугенотов. Хиросима и Нагасаки уже потом.
Бабий Яр – это старики, женщины, дети. Это беспомощные. Люди покрепче, помоложе, и не только евреи, нашли здесь свой удел уже позже – немцам понравился этот Яр.
Потом немцы ушли. Пытались скрыть следы своих преступлений. Но разве скроешь... Заставляли военнопленных сжигать трупы. Складывать в штабеля и сжигать. Но всего не сожжешь.
Потом овраг замыли.
В 1961 году произошла катастрофа. Прорвало дамбу, сдерживавшую намытую часть Бабьего Яра. Миллионы тонн так называемой пульпы устремились на Куреневку. Десятиметровый вал жидкого песка и глины затопил трамвайный парк, снес на своем пути прилепившиеся к откосам оврага домишки, усадьбы. Было много жертв.
Следов разрушения давно уже не видно. Дамбы восстановлены, укреплены, на месте прорыва – широкая автомобильная дорога; где был трамвайный парк, нынче многоэтажные здания.
Ничто уже не напоминает того, что здесь было. А у гранитного камня всегда цветы. И летом, и зимой. Мы тоже положим свой букетик. Каждый год 29 сентября сюда приходят люди с венками и цветами.
* * *
Но есть люди, друзья, о которых мало сказать скучаю. Им просто плохо. И кое-кому опять-таки из-за дружбы со мной. («И ты, Некрасов, знай – будем твоих друзей сажать!») Славику Глузману впаяли семь лет (чтение, мол, и распространение Самиздата!). За спиной у него уже два года, и такой, казалось, тихий, доброжелательный, мухи не обидит, он в лагере сейчас первый борец против бесправия и тупой жестокости. А Леня Плющ в психушке – слишком уж разносторонние были у него интересы и книги не те читал. Плевать, что по убеждениям марксист, не нужны нам такие марксисты. Вот и колют его всякими якобы лекарствами, называется лечат, а жена с двумя детьми без работы, бьется как рыба об лед, а ей с улыбочкой: «Вот вылечим мужа, тогда можете куда угодно ехать...» И Саша Фельдман тоже пусть посидит, нечего крутиться возле синагоги, смуту сеять и венки свои с непонятными там надписями на Бабий Яр волочить. Посидишь, потаскаешь камни, поймешь наконец, как у нас хулиганить. Саша получил три года за то, что оскорбил, вырвал из рук торт, девушку и избил (!) двух здоровенных парней, которые, как потом оказалось, были просто-напросто двумя переодетыми милиционерами... А Марику Райгородецкому два года за то, что Замятина в портфеле носил, значит, читал и распространял...
Вот по ком я скучаю, вот кого мне недостает.
Эссе "Взгляд и нечто" (1976) (html 1,1 mb) – апрель 2009
Фрагменты из эссе:
Явилась, значит, Олена Хобта, передовая из передовых колхозниц, вся грудь в орденах, как у маршала Жукова, поднялась на трибуну и стала говорить собравшимся артистам и режиссёрам, чего от них ждёт народ и как и что им надо играть, чтоб удовлетворить чаяния этого народа.
Михаил Михайлович Яншин, худрук театра, один из лучших и старейших актёров МХАТа, слушал, слушал, потом встал и сказал:
– Нам всем, здесь присутствующим, очень интересно и полезно было выслушать все замечания и пожелания, особенно в области режиссуры, высказанные здесь знатной нашей гостьей, Героем Социалистического Труда товарищем Хобтой. Все мы, отдавшие свои силы театру и проработавшие кто тридцать, кто сорок, а кто, как я, например, и все пятьдесят лет, попытаемся в дальнейшей нашей работе выполнить все изложенные с этой трибуны с великим знанием дела весьма ценные указания, но, со своей стороны, хочется спросить нашу дорогую гостью. – И тут и без того высокий, пискливый голос Яншина дошёл до своего верхнего предела: – А почему на базаре морковки нет? Простой морковки...
* * *
И с понятной тревогой уже здесь, через тридцать лет после войны, взял я в руки «кирпич» Лёвы Копелева «Хранить вечно» (до этого я без всякого восторга, с трудом прочёл солженицынские «Прусские ночи»). Я не одолел всего «кирпича» (хотя он этого заслуживает) и прочёл только военные страницы. И должен признаться, читал взахлёб. Я не думал уже о том, можно или нельзя, передо мной проходила жизнь, та самая жизнь, от которой никуда не денешься. Страшная, как сама война. Думаю, нет в мировой литературе книги, которая так ярко и безжалостно нарисовала бы нам образ советского политработника во весь его рост, тупого, лицемерного, жестокого и жадного. На фоне этого трусливого, надутого, как индюк, солдафона-алкоголика бледнеют все жестокости дорвавшегося до бабы, сующего в свой вещмешок часы и тряпки костромского или рязанского пацана, впервые увидевшего Европу.
* * *
Первую зиму я провёл командиром взвода запасного сапёрного батальона в крохотной деревушке Пигуча на берегу Волги севернее Сталинграда. Туда мы пришли пешком из-под Ростова и остались на всю зиму. Учили солдат тому, чего и сами не знали. Настоящий тол и взрыватель я впервые увидел уже в Сталинграде, через год. На весь батальон (а в нём было около тысячи человек) была одна боевая винтовка. На стрельбах (за всю зиму) каждому бойцу полагалось по одному патрону. Окопы (предмет этот у нас назывался «Укрепления и фортификация») в насквозь промерзшем грунте копали деревенскими лопатами. Из восьми учебных часов четыре, а то и шесть, полагалось проводить на воздухе – взвод в наступлении, в разведке, в охранении, эти самые фортификации. Морозы были сорокаградусные, а так как белья у солдат не было, я забирал у хозяйки (она была почтальоном) все газеты, и бойцы заворачивали в них свои чресла.
К весне весь рядовой состав был отправлен на Крымский полуостров (по секрету сообщил мне адъютант старший) и там полёг костьми. Мы же, офицеры, отправлены в боевые части полковыми инженерами (все виды мин и других заграждений я видел только на картинках).
В апреле 42-го года наш полк выступил из станицы Серафимович, где формировался, на фронт. Мы продефилировали по главной улице с развёрнутым знаменем. Направо и налево от знаменосца шагали два так называемых ассистента с учебными (дырки в стволах) винтовками на плечах. Дальше «С места песню!», строевым шагом весь полк... хотите верьте, хотите нет, с палками вместо винтовок. Вот так, с палками на плечах. Станичные бабы ревели: «И вот так вот вы на немцев? С палками?» А полковая артиллерия – бревна на колесах от подвод, которые тащили четыре полковые клячи. Кто мог это придумать – один Аллах ведает.
Оружие, настоящее оружие (офицеры пистолеты ТТ – тоже первый раз в жизни, бойцы – винтовки образца 1891 года) получили за неделю до начала боевых действий под Терновой, возле Харькова. Учебных стрельб, само собой, не было. Собрать и разобрать винтовку умели только командиры рот, из кадровиков, попавшие к нам из госпиталей.
Так началось знаменитое тимошенковское наступление на Харьков в мае 1942 года. Чем оно кончилось, известно.
Сборник "Три встречи" (html 119 kb; pdf 1,3 mb) – апрель 2009, январь 2025
– OCR: Евсей Зельдин и библиотека "ImWerden"
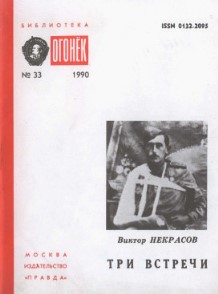
Содержание:
Владимир Потресов. Виктор Некрасов
Рядовой Лютиков
Переправа
Посвящается Хемингуэю
Три встречи
Письма
Сборник рассказов "Случай на Мамаевом Кургане": (html 370 kb) – сентябрь 2009
Содержание:
Случай на Мамаевом Кургане
Через сорок лет…
Мамаев Курган на бульваре Сен-Жермен
Кому это нужно?
Как я печатался в последний раз
Фрагменты из сборника:
У проходной обычная история – кто, да что, да по какому делу. Вахтер полон подозрения, но все-таки кому-то звонит.
В прошлый мой приезд нечто подобное произошло у меня на ТЭЦ Тракторного завода. Требовался отдельный пропуск, долго куда-то звонили, я тряс документами, и только после не менее чем полуторачасовой процедуры меня туда пустили. Самое смешное во всей этой истории было то, что в сорок втором году, когда немцы рвались к Тракторному, судьба ТЭЦ была буквально в моих руках – рубильник от проводов, которые шли к взрывчатке, разложенной под всеми агрегатами ТЭЦ, находился у моего изголовья, – от одного моего движения зависела жизнь и смерть электростанции.
* * *
Итак, я спустился по лестнице и двинулся по длинному коридору с трубами. Как ни странно, но здесь был сравнительно больший порядок, чем там, наверху, вернее, меньший беспорядок. В одном месте у стены стояло десятка два ящиков, очень похожих на патронные. В свое время они назывались цинками. Я раскрыл один из них и, к великому своему изумлению, обнаружил, что он полон патронов. Поразительнее всего было то, что у них был совершенно свежий вид, точно их только что принесли. Даже масло не просохло. Подумать только, за все эти годы никто не удосужился сюда спуститься. Я мысленно представил себе, как торопились хозяева этого подвала, покидая насиженное место, и практичный старшина, взглянув на ящики, махнул рукой: «А ну их, таскаться еще... На новом месте дадут новые». Так и пролежали они здесь двадцать три года...
* * *
О правде. Вся ли она? В основном вся. На девяносто девять процентов. Кое о чем умолчал – один процент.
Ваня Фищенко, разведчик – в книге он Чумак, – бывало, лихо отправляясь на задание, так же лихо возвращался, мирно провалявшись у артиллеристов в землянке. Однажды я обнаружил его там храпящим и крепко отчитал. Тогда даже поссорились. Помирились и подружились потом уже, в госпитале. После войны жил у меня, учился, стал горным техником. Где сейчас – не знаю. Тоскую по нем.
Был у него и еще один грех. Ребята его довольно ловко очищали дивизионные склады – у него всегда водилась водка, шоколад, апельсины. Все это знали, но не разоблачали, напротив, лебезили: авось что-нибудь перепадет. Я, пиша книгу, об этом умолчал – из любви.
Умолчал я и о том, как Лисагор – настоящей фамилии не скажу – гордо похвалялся трофеями, потряхивая на ладони золотыми коронками. Был за это мною наказан. Но обнародовать в книге этот недостойный поступок счел неуместным, да и было это уже в мирные сталинградские дни.
Утаил я и собственные, виноват, керженцевские не очень достойные поступки. Приказал мне как-то дивизионный инженер покрасить все противопехотные и противотанковые мины белой краской, чтоб не выделялись на снегу. «Приказ выполнен!» – доложил я, не выходя из своей землянки, – сходи-ка на передовую, проверь, там стреляют.
Врали мы и в донесениях, особенно о количестве сбитых вражеских самолетов. Каждый батальон приписывал очередной сбитый «Мессершмитт» меткому ружейно-пулеметному огню своего подразделения. Судя по этим донесениям, немецкая авиация давно перестала бы существовать...
Андрей Синявский, Мария Розанова. "Два некролога" (1987) (html 16 kb) – апрель 2009
В. П. Некрасову
Чего ты снишься каждый день,
Зачем ты душу мне тревожишь?
Мой самый близкий из людей,
Обнять которого не можешь.
Зачем приходишь по ночам,
Распахнутый, с веселой челкой,
Чтоб просыпался и кричал,
Как будто виноват я в чем-то.
И без тебя повалит снег,
А мне всё Киев будет сниться.
Ты приходи, хотя б во сне,
Через границы, заграницы.
Геннадий Шпаликов
29 октября 1974
(через три дня поэт трагически ушёл из жизни)
Страничка создана 30 августа 2003.
Последнее обновление 9 января 2025.
|