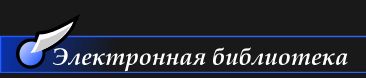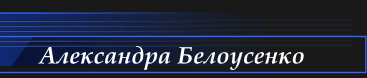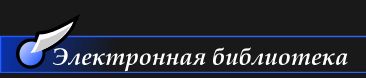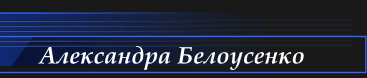Произведения:
Сборник "Зрелость пришла: Повести, рассказы, роман" (1976, 608 стр.) (pdf 22,5 mb) – апрель 2025
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
В книгу Владимира Померанцева "Зрелость пришла" входят наиболее значительные произведения писателя; роман "Дочь букиниста" (о послевоенной Германии, о людях, ещё только вступающих на новый путь мира и демократии), повесть "Зрелость пришла" (о деятельности районной прокуратуры), рассказы "Сложный больной", "Мишкин возраст" и др.
Произведения, включённые в сборник, отличаются остротой сюжета, разнообразием тематики, глубиной разрабатываемых писателем нравственных проблем.
(Аннотация издательства)
Содержание:
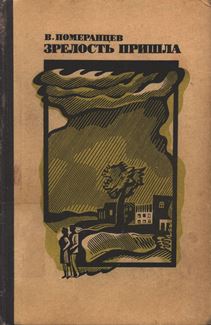
ПОВЕСТИ
Зрелость пришла ... 6
Оборотень ... 221
РАССКАЗЫ О РАЗНОМ
Загробная жизнь ... 252
Шкатулка ... 263
Встреча со сменщиком ... 285
Сложный больной ... 312
Валя ... 345
Мишкин возраст ... 355
ДОЧЬ БУКИНИСТА. Роман ... 365
Фрагменты из книги:
"Возвратившись на базу, Козлов брался за флягу и с аппетитом закусывал. Я разделял его трапезу, о которой трудно было сказать, завтрак она или ужин. К нам подсаживались другие свободные лётчики, появлялись новые фляги, они начинали ходить вкруговую, из вещевых мешков извлекались сало, консервы... Мне нравилась жизнь этих людей, совсем непохожая на жизнь в других войсках. Никакого общего распорядка здесь не было, моторы ревели всю ночь, кто-то шёл на задание, кто-то возвращался с задания, кто-то спал, положив подушку на голову, кто-то к кому-то обращался по проводу... Это была эскадрилья при штабе, её люди летали и к партизанам, и на другие фронты, и в немецкие тылы, и в Москву. Каждый руководился здесь только своим расписанием, только приказом, который сам получил. Выполнил его – и делай что хочешь, пока не получишь новый приказ... Впрочем, я знал, что это заманчиво только по видимости. Жизнь лётчиков находилась в постоянной опасности. За три года войны тут уцелело лишь четверо. Козлов был одним из таких могикан... Зато лётчики не знали траншейной тоски. У них было вволю спирта, еды, новостей. Попадая к ним ненадолго ночами, мне не хотелось покидать этот клуб...
Люди здесь подобрались молодые, но повидавшие виды. Они не были прославленными героями воздуха, о которых писалось в газетах, но каждому не раз и не два приходилось проделывать нечто такое, что давало им право посмеиваться над рекламой героики. Один из этих парней, преследуемый двумя «мессершмиттами», пролетел под железнодорожным мостом. Другой выбросился без парашюта и упал в снежный сугроб. Третий сел с подбитым шасси. А о Козлове и говорить не приходится. В свои тридцать два года он считался здесь стариком, и на счету его были дела, о которых слагались легенды. Он летал на изрешечённых машинах, садился на воду, среди стада овец. Примечательным в его лётной жизни был также случай, когда он взял в плен немецкого лётчика. Произошло это в начале войны. Козлов был тогда истребителем. Увидев, что немец потерял управление, завилял и пошёл на снижение, Козлов тоже сел и забрал раненого в свой самолёт. Говорят, это был тогда первый случай, что лётчик захватил «языка»."
* * *
"Однажды его самолёт подбили над занятой немцами Брянщиной. Он посадил машину, выбрался из неё и бросился к лесу. Таился целую ночь, не встретив ни немцев, ни партизан, а к утру наткнулся на домик... Но сначала он увидел не домик, а верёвку, протянутую между деревьями. На ней мирно сушились сорочки с бретельками...
– Представляешь себе!.. Голубенькие, трикотажные, шёлковые! – рассказывал он с тоской и восторгом.
Эти сорочки ошеломили его. А оглядевшись, он увидел избу лесника и женщину на пороге избы... Молодую, в сарафане, живую! Довоенную женщину!..
Он провёл здесь два дня. Провёл в ярости, в нежности...
Эти два дня стали сладчайшим событием его жизни в войну. И он делал свои особые выводы:
– Ты думаешь, самое страшное – это шестиствольные, «фердинанды» и «юнкерсы»? Нет, брат, они каждый день... А ужас войны ты почувствуешь, когда увидишь вдруг то, что забыл... Голубенькие, трикотажные, шелковые...
Он был, другими словами, обычным человеком во плоти, но только считал, что его плоть на войне охраняется неведомой силой. И время от времени распознавал её руку..."
* * *
"Есть много разных способов казней. Но я не слышал о том виде расправы, с которым столкнулся в 1930 году в Сохатовке. Здесь клали вора на спину оленя, крепко привязывали и отпускали зверя в тайгу. Избавляясь от докучливой ноши, олень катался с ней по земле, бил её о суки, рвал о деревья...
– Кто вязал? – спрашивал я мужиков.
– Все вязали, – отвечали они.
– Кто придумал?
Они молчали, не зная ответа.
– Разве такое придумаешь, – нашёлся наконец человек, который решил объяснить мне нелепость вопроса. – Это закон у нас. Мы по закону...
Положение моё было нелёгким. Приехав в эту оторванную от мира деревню расследовать дело о самосудах, я должен был вместо изучения фактов заняться изучением нравов. А нравы оказались такими диковинными, что самосудом здесь посчитали бы привлечение к ответу за самосуд.
Вязали действительно многие. Но мне довелось приглядеться к одному из убийц – самому виноватому и самому несчастному в этой необыкновенной деревне. И встреча стала для нас роковой..."
* * *
"Относительно букиниста Фельдмайера можно было, однако, не колеблясь, сказать, что непрестанное чтение было прямым союзником его болезни. Он имел бездонную память, и из прочитанного откладывалось в ней главным образом то, что не могло не углублять на лице горьких складок.
– «Что есть человек? – торжествующе цитировал он собеседникам строки из Томаса Вольфа. – Это тот, кто крадёт у своего друга жену, кто оставляет своих поэтов подыхать. Человеком называет себя тот, кто клянётся, что жизнь его посвящена прекрасному, а на деле приспосабливает свои убеждения к каждой новой моде. Да, таков человек! Невозможно сказать о нём самое плохое, ибо всегда найдётся что-нибудь худшее. Нет меры его порочности и нечистоплотности, злобе и предательству».
Он как будто злорадствовал, читая людям эти строки, и явно жалел, что мала у него аудитория, что не слышат его населяющие землю два миллиарда двести миллионов существ.
– Вы полагаете, – спрашивал он, – моя жизнь в этой лавке хуже, чем у того, кто в конторах и на фабриках день за днём, год за годом соседствует с такими же ничтожествами, как он сам? Разница между мной и ими лишь та, что они прозябают, самообманываясь, а я иду к концу, не теша себя иллюзиями и зная цену всему. Да, да, человек прозябает. Жизнь его только мнимо осмыслена. Из чего она складывается? Человеческий день – это миллион нелепых повторений. Уходит Шмидт из дому и снова приходит домой, потеет и мёрзнет, всегда чего-то хочет, вечно боится за близких и за себя самого, тщетно пытается поддерживать непрестанно разрушающееся тело... Сколько было у каждого в жизни по-настоящему золотых часов? О скольких хороших минутах может он вспомнить? Многие ли знают самозабвенную радость? И не будет такой, скажу я вам, никогда не будет. Один американец высчитал, что из ста шестидесяти восьми часов недели он жил сорок, а остальные только существовал. Но и это ложная арифметика. И уж, во всяком случае, одна из благоприятнейших. Он, видите ли, относит к активу, к жизни свои вкусные обеды, но у многих ли они вкусны?"
* * *
"Но честолюбие покинуло с годами твоего отца и по другой причине. Он познал, как меняется вместе с календарём человеческое восприятие мира. Верное для одного времени будет отвергнуто другим, и отцу редко удаётся передать сыну вместе со скарбом и собственную правду. Надолго ли, следовательно, могли бы пережить меня мои писания? А если вспомнить при этом, что обнародование рукописи ещё при жизни восстанавливает против тебя ревнивцев и глупцов, то мне становилось очевидным, что бессмысленно тратить годы на преодоление их враждебности.
Да, я всё это осознал и давно внутренне успокоился. И если Шопенгауэра волновало не то, что черви будут поедать его останки, но препарирование, которому станут подвергать его книги досужие профессора, то я себя избавил и от этого беспокойства.
Но есть, девочка, всё же Нечто, оставляющее во мне перед уходом грустное и смутное сожаление по поводу бесследности пережитого. Оно не поддаётся определению и является только чувством, проистекающим, вероятно, из того, что как бы я ни сознавал недостатки мира, всё-таки очень к нему привязан... И точно так же, как сожалею я о невозможности оставить тебе и брату сто тысяч марок, скорблю я, что не поведал вам и другим «Историю моих заблуждений».
Шиллеровский Карлос огорчался тем, что в двадцать три года ещё ничего не сделал для бессмертия. Во мне страсти давно улеглись, и я объяснил тебе, что не принадлежу к суетным старикам, которые не справились с волнением молодости. Я осознал ненужность славы, и мысль о ней мне чужда. Но историю моих исканий и заблуждений мне следовало оставить потому, что я жил среди людей...
В итоге долгих и беспокойных своих дум я пришёл к окончательному выводу, что смысла жизни нет. Тебе и брату – моим наибольшим привязанностям в Оставляемом – я и решил это сказать. Тысячи определений жизни вычитал я у философов и поэтов и, вопреки им, понял для себя, что определение ей никогда не может быть дано, ибо жизнь есть только борьба со смертью."
Сборник "На войне и после неё: Роман, фронтовые записи" (1987, 432 стр.) (pdf 10,7 mb) – июль 2024
– копия из библиотеки "Maxima Library"
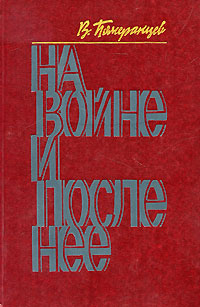
И эту книгу В. М. Померанцева (1907–1071), известного советского писателя и публициста, автора книг «Дочь букиниста», «Зрелость пришла», «Чудодеи» и др., вошли роман «Доктор Эшке» и фронтовые записи о малоизвестной читателю деятельности специальных подразделений по политической работе среди войск противника.
(Аннотация издательства)
Содержание:
ДОКТОР ЭШКЕ. Роман ... 3
«ВНИМАНИЕ! СЛУШАЙТЕ НАС! ЧИТАЙТЕ НАШИ ЛИСТОВКИ!» Фронтовые записи ... 199
Рассказ "Оборотень" (doc-rar 32 kb) – ноябрь 2002
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Статья "Об искренности в литературе" (html 168 kb) – ноябрь 2002
– копия из интернета
В предлагаемых ниже заметках нет исчерпывающего разрешения темы или стройности выводов. Здесь разрозненные, а частью, вероятно, и спорные мысли о некоторых недостатках нашей литературы. Но объединяются они той общей идеей, о которой говорит заголовок.
Искренности – вот чего, на мой взгляд, не хватает иным книгам и пьесам. И невольно задумываешься, как же быть искренним...
(Фрагмент)
Страничка создана 12 ноября 2002.
Последнее обновление 22 апреля 2025.