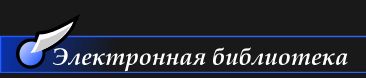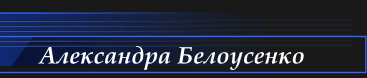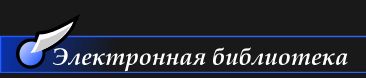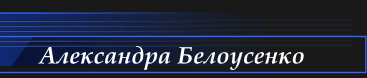Род. в Москве в семье инженера-геодезиста. Зять Н. С. Хрущёва. Окончил экон. ф-т МГУ (1958). Был членом КПСС. Доктор экон. наук (1968), профессор, академик РАН. Работал в аппарате ЦК КПСС, Ин-те экономики АН СССР, в Ин-те экономики мировой соц. системы АН СССР, заведовал отделом в Ин-те США и Канады (1990), был гл. исследователем Ин-та Европы РАН, работал за рубежом: в Стокгольмском ин-те экономики СССР и Восточной Европы (1992). Директор Ин-та Европы РАН (с 1999).
Печататься как прозаик начал в 1961: рассказ "Оловянные солдатики" в ж-ле "Москва". После этого в течение 26 лет прозу не публиковал. Стал публичной знаменитостью после публикации статьи: Авансы и долги. – "НМ", 1987, №6. Публицистические статьи публиковал в ж-лах "Знамя" (1988, №7; 1989, №№1, 12), "НМ" (1988, №4), "ЛО" (1989, №8), "Огонёк" (1990, №37). Прозу печатает в ж-лах: Пашков дом. Повесть. – "Знамя", 1987, №3; Спектакль в честь господина первого министра. Повесть. – "Знамя", 1988, №3; Теория поля. Рассказ. – "Наука и жизнь", 1988, №3; Рассказы. – "Октябрь", 1988, №5; Сильвестр. Роман. – "Знамя", 1991, №№ 6-7; Безумная Грета. Повесть. – "ДН", 1994, №9. Опубликовал мемуары: Curriculum vitae. – "Знамя", 1997, №8; 1998, №8. Выпустил кн. прозы: Последний этаж. Рассказы. М., "Огонёк", 1988; Спектакль в честь господина первого министра. Повести, рассказы. М., "Сов. писатель", 1988; Сильвестр. Роман. М., "Сов. писатель", 1992; Пушкинская площадь. Повести, рассказы. Ашхабад, "Туран – 1", 1993; В пути я занемог. Роман, повести. М., "Голос", 1995; Авансы и долги. Вчера и завтра российских эконом. реформ. М., "Международные отношения", 1996; Ночные голоса. Повести и рассказы. М., "Воскресенье", 1999; Исторические произведения. М., "Российский писатель", 2001; Пашков дом. М., "Интердиалект+", 2001. Произведения Шмелёва изданы в переводе на франц., исп., англ., нем., итал., швед. языки.
Член СП Москвы, Русского ПЕН-центра. Был нар. депутатом СССР от АН СССР, членом ВС СССР (1989-92), членом обществ. совета "ЛГ" (1990-97), редколлегии ж-ла "Русское богатство" (1991-95). Секретарь СП Москвы, член редколлегии газ. "Лит. вести" (с 1995), редсовета "ЛГ" (с 2001). Член Московского Английского клуба.
Премии СП СССР им. М. Шагинян (1988), фонда "Знамя" (1997), "Венец" (1997).
Источник: Словарь "Новая Россия: мир литературы" («Знамя»)
Произведения:
Сборник "Пашков дом: Роман. Рассказы" (1982, 2006, 383 стр.) (html 391 kb; pdf 12 mb) – февраль 2007, август 2023
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
В первую книгу Собрания сочинений выдающегося учёного и писателя, академика Николая Петровича Шмелёва вошли роман «Пашков дом» и сборник «Старая Москва», включающий рассказы разных лет, от ставших хрестоматийными «Ночные голоса» и «Скорбный лист» до относительно недавнего «Особняк на Пречистенке».
Для широкого круга читателей.
(Аннотация издательства)
Содержание:
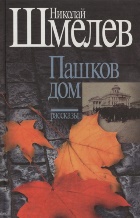
Пашков дом. Роман ... 5
Старая Москва. Рассказы
Старая Москва ... 127
Трамвай из предместья ... 141
Последний этаж ... 149
Азиатский грипп ... 177
«И аз воздам...» ... 194
Дело о шубе ... 215
Ночные голоса ... 238
Визит ... 251
Презумпция невиновности ... 276
Теория поля ... 291
Скорбный лист ... 316
Протокол ... 343
Особняк на Пречистенке ... 370
Фрагменты романа:
"Школа? Образ Онегина, образ Печорина? Положительные черты, отрицательные черты, вызывавшие у него лишь зубную боль и больше ничего? Неприязнь к педагогам и их ответная неприязнь к нему, колючему, резкому, не прощавшему им в своей детской нетерпимости ни убогого языка, ни боязни начальства, ни плохо скрытой радости при мелких подарках и подношениях? Но ведь и здесь, если подумать, тоже не всё было так скверно, как иногда казалось: в сущности, все они были неплохие люди, большинство из них искренне любили и школу, и своих ребят, но и их тоже задавила жизнь – нужда, нищенская зарплата, сорок человек в классе, горы тетрадей по вечерам, какие-то комиссии, методисты, инспектора или кто там тогда они были, неизвестно кто...
Что ещё? Вечный страх в доме? Молчаливая, затаённая тоска, скрываемое, но тем не менее ясное для всех ожидание стука в дверь ночью, разговоры шёпотом, под отключенный телефон? Что ж, и отца, и мать можно было понять. Поднималась новая волна арестов, в их доме несколько семей уже взяли, и отец, каким бы крепким характером он ни обладал, не мог, естественно, чувствовать себя спокойно: он был военный инженер, имел дело с приёмкой оборудования по репарациям, неоднократно выезжал в Австрию, в Германию, а тогда это было уже само по себе если не криминалом, то, по крайней мере, нечто весьма настораживающим, да и фамилия Горт по тем временам была далеко не из лучших... От тюрьмы и от сумы не зарекайся – тоже ведь русская мысль, тысячелетняя мысль, и неспроста она родилась именно у нас..."
* * *
"На повестке дня того собрания осенью 1956 года стоял один вопрос: исключение из партии доцента Н. – доносчика, убийцы, клеветника, погубившего своими доносами множество ни в чем не повинных людей. Мнение было единодушным: исключить, выгнать из университета и мало того – просить соответствующие органы о возбуждении уголовного дела, чтобы впредь этой нечисти и духу не было нигде. Однако, когда стали голосовать, против вдруг поднялась одна рука – это была рука его, Горта. Естественно, его попросили выступить с объяснениями. Что конкретно он тогда нёс – горячо, путанно, сбиваясь и проглатывая слова, – сейчас, конечно, уже не вспомнишь. Но суть была примерно в следующем: Н. – негодяй, в этом нет никаких сомнений, но важен не он, важен принцип – или всех, или никого. Но даже если и всех – мы и тогда ничего не достигнем и не решим тем, что навстречу одному потоку людей, возвращающихся из лагерей назад, направим другой, почти столь же значительный, потому что важна не месть, важны гарантии, что никогда больше ничего подобного не повторится, гарантии же создаются не местью, они создаются по-другому, гарантии – это медленный, упорный, позитивный процесс, и надо не мстить, надо работать над гарантиями, а этот доцент и все другие, подобные ему, – чёрт с ними, пусть живут, копошатся где-нибудь, зарабатывают в меру сил свой кусок хлеба, всего через поколение-два от них само собой не останется и следа.
Надо сказать, что для всех присутствовавших, включая и обвиняемого, съёжившегося, сжавшегося где-то там в углу, за чужими спинами, это его выступление было полнейшей неожиданностью: кто-кто, но он?! Никто, конечно, не внял его призывам – доцента исключили. Ему же потом пришлось не один вечер отбиваться от товарищей, вновь и вновь объясняя им столь очевидное для него самого, а для них непонятное никак, что бы он ни говорил... Но больнее всего всё-таки отреагировали его домашние. Жена, ходившая тогда уже на пятом месяце, как-то сразу сжалась вся, не поднимала на него глаз, вечерами подолгу сидела, забравшись с ногами в кресло, и молчала, отвечая на все его вопросы короткими, иногда почти неслышными «да-нет»... Мать плакала, вздыхала, бродила из комнаты в комнату, не находя себе места: «Господи, что теперь будет, что будет? Что же ты наделал, Саша? Как же ты мог? Ведь у тебя теперь семья... А мы с отцом?..» Отец же, узнав обо всём, рассвирепел, обругал его дураком и целую неделю вообще не разговаривал с ним."
* * *
"– Ни о чём я не жалею, Саша, – как-то вечером, лёжа у него на руке, призналась она. – Ни о чём... Но и простить себе ничего тоже не могу... Понимаешь? Вот так вот: не жалею, но и не прощаю – всё вместе. Думаешь, так не может быть? Может, поверь мне... И как я тогда пошла с рук на руки, и этого подонка, из-за которого мы тогда с тобой расстались, и своего второго мужа, и всех этих своих приятельниц, эту московскую якобы элиту, которая с утра до вечера шныряет по комиссионным... Или сидит в Доме кино... О, Саша, зверьё! Ты не представляешь, какое зверьё... За самую дрянную тряпку, которую моисеевцы или «Берёзка» привезут, – убьют, задушат, продадут кого хочешь, хоть родную сестру... Только чтобы им в руки попало, не другим... А уж про камушки и говорить нечего... Это уж, Саша, Чикаго, Аль Капоне, помешаешь – пощады не жди, могут и действительно убить... На это у них тоже люди есть... Какие в Москве деньги ходят, Саша, если бы ты только знал!.. Какие дела делаются... И все, как черти хвостами, – в один клубок... Смотришь, сидит какой-нибудь писатель, говорят, известный... Или начальник какой-нибудь – важный, солидный, все к нему с почтением, голова откинута, волосы седые... А рядом с ним кто? Вор, да ещё какой вор! Но жена у вора – балерина, ближайший друг – скрипач-лауреат или реставратор икон, дети учатся в английской школе, отдыхать он ездит на Балатон... А на другом конце стола – тоже их человек, тихий, скромный, незаметный, улыбается, ручки дамам целует, но он-то и есть страшнее всех! Он-то и есть последняя инстанция... И всё это, Саша, я прошла. Всё знаю и всех знаю... Слава богу, ноги унесла подобру-поздорову, а могло бы ведь и всякое быть.
– А муж твой – он что, тоже был из таких?.."
Роман "В пути я занемог" (1994, 296 стр.) (pdf 17,4 mb) – май 2020
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)

Три последних поколения в России бились и до сих пор бьются над вопросом: «Кто сумасшедший? Я или мир?» И в то же время все они жили и живут, любят и страдают, на что-то надеясь. Меняются власти, меняются идеологии, а человек как был со своими проблемами и страстями, так с ними и остаётся, независимо от того, какая политическая погода сегодня там, за окном.
В романе Н. Шмелёва делается попытка дать панораму жизни этих поколений: тех, кто по своей воле или по принуждению строил «новый мир», тех, кто понял бессмысленность этой затеи и подготовил её закономерный конец, и тех, кто только встаёт на новый неведомый ещё России путь, который – кто знает? – может быть, приведёт её к лучшей жизни, а может быть, и в преисподнюю.
(Аннотация издательства)
Фрагменты романа:
"Нет, господа! Врёте. Врёте вы всё... Мы жили. И тогда мы жили! И ещё как жили... Жили, жили, Алексей Иваныч, – кто же спорит? Успокойся – жили. Хорошо жили! Только не забывай: пока вы жили, полстраны либо за колючей проволокой сидело, либо без паспортов, в крепостном состоянии, горе мыкало. А перед тем из-за усатого этого дьявола миллионов эдак сорок, а то и больше, ни за что ни про что головы сложили – либо от пули в затылок, либо на лесоповале, либо на войне. Да-да, и на войне! И война тоже, несомненно, его вина. Кабы не он, не тридцать седьмой год – хрен бы Гитлер тогда решился на такую авантюру. Так что и за это ему, усатому, отвечать на Страшном суде... Если он, конечно, будет когда-нибудь, тот Страшный суд...
Ах, Боже, Боже ты мой... Ничего-то я не понимаю! Ничего... Так как же: мы жили тогда или погибали? Да или нет? И как можно примирить в жизни, с одной стороны, герань, а с другой – колючую проволоку? Ведь и то – жизнь и то – тоже жизнь. Моя жизнь! Скажи: герань, и забудь про колючую проволоку – враньё. Скажи про колючую проволоку и забудь про герань – тоже враньё. И разве я один сейчас так – не знаю: проклинать ли мне своё время, проклинать ли свою жизнь или молиться на неё? Минимум три поколения ушло в эту бездонную яму, в пропасть – миллионы людей, живших в страстях своих, и печалях, и радостях от самой колыбели и до гробовой доски... И что же, все они были всего лишь отрицательный исторический эксперимент? Навоз истории? Все они были на земле лишь за тем, чтобы доказать миру, как нехорошо начальству поступать так и как, напротив, хорошо поступать этак? Так? Я вас спрашиваю, господа – так, да?"
* * *
"Ты, сын, как ты знаешь, по происхождению со всех сторон потомственный мельник: и по отцу дед у тебя мельник (а я, не забывай, был хоть и не состоявшийся, но законный наследник его мельницы), и по матери дед у тебя тоже был мельник. Причём в большом, богатом селе под Данковом, на Дону, и мельница-то у него, говорили, была лучшая в том селе: я видел её, вернее, её развалины – уже много лет после войны мать твоя уговорила меня как-то съездить хоть под старость к ней на родину, попрощаться, посмотреть, что осталось от жилья их, от сада, от мельницы, от всего. Ничего, конечно, не осталось, одни лопухи... Господи, какая же это сволочь – большевики! Какая сволочь... Всё развалили, всё разрушили! Всё. Хуже татар Мамаевых, ордынников поганых. Да добро бы хоть толк в этом был какой! Хоть бы смысл был... Шпана, шелупонь несчастная! Только бы развалить, только бы уничтожить, только бы крови напиться – а там хоть трава не расти... Но это я так, я опять отвлёкся. Что толку теперь сокрушаться? Прошло это всё, и назад уже ничего никому не вернуть... А всё-таки не я, сын, был всю жизнь сумасшедший! Нет, не я. Они.
Естественно, и другого деда твоего, Сергея Ефимыча, тоже раскулачили. И, тоже естественно, сослали в Котлас, как и всех, кто хоть немного был непохож на всю эту шпану, что разгулялась-размахнулась тогда по всей Руси. Правда, мать твоя и двое её старших братьев, слава Богу, тогда под эту косу не попали: мать заканчивала в Москве медучилище, а братья после армии домой так и не вернулись, тоже оба осели в Москве."
* * *
"А в войну, Алёша, скажу тебе, что-то похожее уже было не с другими, не с моими близкими – было со мной... Ты не думай, я не собираюсь тебе войну описывать. Ни ополчение наше несчастное московское, что, по моему глубокому убеждению, сознательно погнали на убой: если, дескать, и не будет от них, от ополчения, никакого проку в деле – одна винтовка на двоих, чего от них ждать? – так хоть Москва очистится от всех этих недобитых профессоров и прочей всякой вшивой интеллигенции. Ишь, притаились там, гады, в своём подполье, сидят, зубы точат на советскую власть... Ни боёв, а вернее, бойни этой бессмысленной не буду касаться, где всё оно, ополчение наше, так и полегло, лишь мясом одним своим человечьим даже и не остановив, не задержав, а только слегка помешав немцам в их напоре на Москву – где максимум на день, а где и всего-то на час.
Почему, спросишь, не буду описывать? А потому, сын, что, как я сам убедился, нет и не было до сих пор в мире пишущего человека, кто мог бы написать войну. Не штабную, а именно настоящую, окопную войну. Ни Лев Толстой, ни Ремарк, ни Хемингуэй, ни Виктор Некрасов, ни из других, нынешних, никто из них не мог и не может это написать. И не сможет никогда! Нет у человека слов, чтобы другой человек его понял, чтобы он, другой, почувствовал, содрогнулся так же, как и тот, кто в окопе днями и ночами сидел, или под бомбёжкой, под артобстрелом погибал, или бежал, спотыкаясь и проклиная весь белый свет, в атаку... Не дано человеку от Бога таких слов! А раз так, то и пытаться нечего: всё равно будет одно враньё, всё равно будут лишь жалкие потуги, которые у того, кто сам сидел в окопе, не могут вызвать ничего, одну лишь зубную боль...
Трое нас, живых, оказалось тогда в том лесочке, недалеко от Гжатска, когда роту нашу выбили немцы из окопов и мы-то есть те, кто не остался там, в окопах-то, на веки вечные – разбежались кто куда мог... Трое, все рядовые: один доцент из Бауманского училища – очкастый, нескладный такой недотёпа; наборщик из какой-то московской типографии, парень лет тридцати – угрюмый, злой, сутулый, с длинными ручищами до колен, что твои две клешни; и я самый старый из них, они меня все по отчеству звали, видно, потому, что я уже и тогда наполовину был седой."
* * *
"А началось всё, помнится, с одного его личного открытия, лет тридцать, а то и больше назад. Открытие, которое вдруг стукнуло, оглушило его тогда как обухом по голове... Сколько шуму в те годы было везде обо всех этих великих стройках, о всех этих гигантских плотинах через Волгу, Енисей, Ангару, Днепр! Преобразование природы! Основа могущества страны! Самая дешёвая в мире электроэнергия! И только где-то, в какой-то, сейчас уже забылось, газетке, попался ему однажды ехидный такой вопросик: а вы всё подсчитали, господа хорошие? А сколько стоят те десятки миллионов гектаров чернозёма и другой земли, что эти плотины погубят на веки вечные? Может, не самая дешёвая, а самая дорогая в мире получится тогда электроэнергия, а? А если сюда добавить и рыбу, и протухшую стоячую воду, и погубленные, ушедшие на дно леса, и переселение людей – да мало ли ещё что? В какую копеечку оно тогда всё выйдет? Так, может, и не стоило огород городить?.. Ну, а когда дошло до него всё это, до печёнок, что называется, дошло – бросился и он, молодой тогда журналист Алексей Мамонов, со всем отчаянием и безрассудством молодости, напрямую в бой: разобрать все эти плотины, пока не поздно, к чёртовой матери! Ошибка граждане! Страшная ошибка! Караул!
Разумеется, результат от этого его истошного крика мог быть тогда только один: главному редактору – на вид за ротозейство, а ему, Алексею Мамонову, по молодости лет, на первый случай строгий выговор в личное дело... Да ещё сослали его тогда на год, не меньше, в отдел писем. Чтобы, так сказать, поостыл..."
Повесть "Деяния апостолов" (1985, 65 стр.) (html 464 kb; pdf 4 mb) – август 2002, апрель 2020
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
"И тот, и другой – оба они были молоды и неутомимы, и найти его для них было, конечно, только лишь вопросом времени. Но, правда, при одном, и существенном, условии: если тот, кого им надлежало найти, был еще жив, здоров, а недавно похоронен уже, не дай Бог, где-нибудь на заброшенном кладбище или у большой дороги, без имени и без креста.
Тифлис – огромный город, и человек в нем что иголка в стоге сена. Но даже и иголку, если иметь терпение, можно найти. А уж такого известного в городе человека, как живописец Нико Пиросманашвили, которого знает каждый духанщик, каждый дворник, каждая «барышня» из любого мало-мальски приличного заведения... Им, двум молодым, сообразительным парням с крепкими ногами и полной свободой тратить день, как заблагорассудится, им – и не найти? Главное – решиться найти. А там – от подвала к подвалу, от человека к человеку, по всем местам, где люди знали Нико, видели Нико, где его помнят и любят и где каждый всегда считал за честь поделиться с ним куском хлеба и поднять вместе с ним стакан вина... И, естественно, не отступаться! Ни в коем случае не отступаться и не впадать в отчаяние, если найденный след вдруг оборвется или выведет совсем не туда и не на тех людей, которые могли бы им указать, где же все-таки в эту трудную зиму сурового, тревожного 1916 года скрывается Нико..."
(Фрагмент)
Повесть "Безумная Грета" (1991, 65 стр.) (pdf 1,8 mb) – июнь 2020
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
– Кто-кто?! Питер Брейгель Старший? Фландрия, XVI век? О, Господи! Этот-то ещё тут при чём? Сегодня, сейчас, у нас? – спросит иной мой читатель.
– Причём, дорогой читатель! – отвечу я ему. – Уверяю тебя: очень причём. Может быть, не меньше причём, чем ты и я.
(От автора)
Рассказ "Последний этаж" (html 61 kb) – декабрь 2001
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
"Один мой относительно юный друг – ему сорок, мне семьдесят три – утверждает, что в истории человечества только трое решились публично вывернуть себя наизнанку до конца: блаженный Августин, Руссо и Толстой. Трое или не трое – не знаю, в этом я не специалист, спорить, во всяком случае, не берусь. Следует, однако, сказать, что друг мой – профессиональный философ, человек очень думающий, и, как я уже имел возможность неоднократно убедиться, обычно он знает, о чем говорит.
Года два назад с его легкой руки я прочел все эти знаменитые исповеди. Признаюсь, тягостное было чтение: ничего или почти ничего, кроме разочарования и раздражения, мне оно не принесло. Времени мне осталось немного, если оно вообще осталось, и теперь, на пороге перехода, так сказать, в иную систему координат, мне думается, я могу, не поддаваясь гипнозу столь громких имен и не опасаясь вместе с тем обвинений в какой-то скрытой личной предвзятости, позволить себе высказать некоторые вещи, которые в устах более молодого человека, чем я, могли бы, допускаю, показаться по меньшей мере экстравагантностью, а то и того хуже – прямым святотатством..."
(Фрагмент)
Рассказ "Презумпция невиновности" (1977) (html 74 kb) – август 2002
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
"Родители довольно рано отделили его, и жил он уже тогда один, в уютной однокомнатной квартире, стены которой от пола до потолка были сплошь уставлены книгами, собранными им самим. Книги были такой же его страстью, как и женщины, и времени книги требовали не меньше, чем они: сколько раз он старательно, вкладывая в голос всю нежность, на которую был способен, врал по телефону, чтобы только увильнуть от очередного свидания, остаться дома, одному, в кресле, под теплым, красноватого света торшером, и медленно, запахнувшись в халат и вытянув ноги в тапочках, погрузиться в придуманный кем-то другой, незнакомый мир.
Но книги – опасное занятие: есть в них какой-то яд с еле уловимым трупным запахом, который исподволь, незаметно подтачивает человека, заставляет его томиться, тосковать, рваться вон из четырех стен – а куда, зачем? Если бы кто-нибудь за все долгие тысячи человеческих лет мог ответить на этот вопрос..."
(Фрагмент)
Сборник рассказов "Старая Москва" (2006) (html 780 kb) – декабрь 2007
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Содержание:
Старая Москва
Трамвай из предместья
Азиатский грипп
«И аз воздам...»
Дело о шубе
Ночные голоса
Визит
Теория поля
Скорбный лист
Протокол
Особняк на Пречистенке
В сборник также входят рассказы "Последний этаж" и "Презумпция невиновности", которые были опубликованы в интернете ранее.
"– Вам, наверное, недолго до пенсии?
– Недолго? – старушка усмехнулась. – Ценю, голубчик, вашу деликатность... Мне, Николай Ильич, семьдесят два, и пенсии я никогда не получала. Да у меня и прав на нее нет.
– Как то есть?
– Да вот так. Все бумаги, будь они неладны. Вечно у меня с ними одни неприятности. Прямо рок какой-то. Работала я всю жизнь, еще девчонкой начала, а никаких бумаг сохранить не сумела. Вот и получилось, что уж и помирать пора, а у меня стаж год-два и обчелся.
– А раньше где вы работали, Наталья Алексеевна?
– Где угодно. Пела, например, в Курской опере. В гражданскую войну там была опера, не знаю, как сейчас. Преподавала языки. Работала секретаршей, счетоводом... И всякий раз как-то так выходило, что я или бумагу какую нужную потеряю, или сама в ней такое напишу... Правда-правда, Бог знает что иной раз напишу. Одному начальнику, помню, написала на его бумаге: «Как же вы так можете, нехороший вы человек?!» Ну, меня и выгоняли, конечно, отовсюду. Потом уж сама решила – подальше от бумаг, не для меня это. В войну старые парашюты порола – знаете, есть такая работа? Нет? А я несколько лет этим жила... Мороженое на улицах продавала, городской бульвар подметала. Много, в общем, чего было...
– И никаких документов не сохранилось? Ни следа?
– Ни следа... В тридцать пятом, когда в одну ночь пришлось из Ленинграда выселяться, все бумаги там остались – забыла в суматохе... Уже здесь, после войны, дом наш сгорел. Сама еле выскочить успела... Потом архив отсюда в другой город перевели. Я писала – не ответили."
(Фрагмент)
Воспоминания "Curriculum vitae" в журнале "Знамя" 1998 №9
Воспоминания "Curriculum vitae" в журнале "Знамя" 2001 №2
Воспоминания "Однажды в Знамени..." в журнале "Знамя" 2001 №1
Публицистика "Есть ли будущее у социализма в России" в журнале "Знамя" 1999 №11
Страничка создана 25 августа 2002.
Последнее обновление 6 августа 2023.